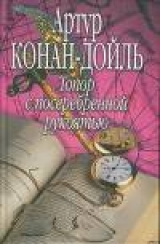
Текст книги "Топор с посеребренной рукоятью"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Доктор Маракот подумывает о том, чтобы вернуться к атлантам. Ему нужно кое-что уточнить в вопросах ихтиологии. Сканлэн, я слышал, женился в Филадельфии на своей голубке и был назначен управляющим делами фирмы, так что теперь он не ищет приключений, в то время как я...
Что ж, море уже подарило мне самую драгоценную свою жемчужину, и больше я ни о чем не прошу.
1928 г.
Перевод М. Антоновой, П. Гелевы и Е. Толкачева
РАССКАЗЫ

ЧЕЛОВЕК ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
4 марта 1867 года, будучи на двадцать пятом году жизни, я пометил в своей записной книжке следующее – результат многих умственных волнений и борьбы:
«Солнечная система, посреди бесчисленного множества других систем, таких же обширных, как она, несется в вечном молчании в пространстве по направлению к созвездию Геркулеса. Громадные шары, из которых она состоит, вертятся в вечной пустоте непрестанно и безмолвно. Среди них самый маленький и незначительный есть то скопление твердых и жидких частиц, которое мы назвали Землею. Она несется вперед так же, как неслась до моего рождения и будет нестись после моей смерти – вертящаяся тайна, пришедшая неизвестно откуда и идущая неизвестно куда. На наружной коре этой движущейся массы пресмыкается много козявок, одна из которых я, Джон Мак-Видти, беспомощный, бессильный, бесцельно увлекаемый в пространстве. Однако положение вещей у нас таково, что небольшую дозу энергии и проблески разума, которыми я обладаю, всецело отнимает у меня труд, который необходим, чтобы приобрести известные металлические кружки, посредством которых я могу купить химические элементы, необходимые для возобновления моих постоянно разрушающихся тканей, и иметь над своей головой крышу, которая защищала бы меня от суровости погоды. Я, таким образом, не могу тратить времени на размышление о мировых вопросах, с которыми мне приходится сталкиваться на каждом шагу. Между тем, такая ничтожность, какя, может еще иногда чувствовать себя до некоторой степени счастливым и даже – отметьте это! – по временам ощущать прилив гордости от чувства собственной значимости».
Эти слова, как было уже сказано, я начертал в своей записной книжке, и они точно выражали мои мысли, которые возникли не под влиянием минуты, а были плодом долгого, упорного размышления. Наконец, однако же, пришло время, когда умер мой дядя, Мак-Видти из Гленкарна, тот самый, который был когда-то представителем комитета Палаты Общин. Он разделил свое большое состояние между многочисленными племянниками, и я убедился, что теперь с избытком обеспечен до конца своих дней. К тому же я сделался собственником мрачного клочка земли на берегу Кэтнесса; я думаю, старик одарил меня в насмешку, так как этот клочок песчаной местности не представлял никакой ценности. Юмор старика всегда смахивал на издевательство. Кстати, замечу, что тогда я состоял стряпчим в одном городишке Центральной Англии.

Теперь я мог предаваться размышлениям, отказаться от всяких мелких и низких целей, мог возвысить свой ум изучением тайн природы. Мой отъезд из Англии был ускорен тем обстоятельством, что я чуть не убил человека в ссоре: я вспыльчив по натуре и забываю о своей силе, когда прихожу в бешенство. Против меня не было возбуждено судебного преследования, но газеты травили меня, а люди косились на меня при встрече. Кончилось тем, что я проклял их и их прокопченный дымом город и поспешил в мои скверные владения, где я мог, наконец, обрести спокойствие и условия для уединенных занятий. Прежде чем уехать, я взял небольшую сумму из своего капитала и, таким образом, мог повезти с собою избранную коллекцию философских книг и самых современных инструментов вместе с химическими реактивами и другими подобного рода вещами, которые мне могли понадобиться в моем уединении.
Местность, которую я унаследовал, представляла собою узкую полосу, состоявшую большей частью из песка. Она тянулась более чем на две мили вдоль бухты Мэнси. Здесь стоял ветхий дом из серого камня, никто не мог сказать мне когда и для чего построенный; я починил его, и он сделался жилищем, совершенно удовлетворявшим моим скромным вкусам. Одна комната стала моей лабораторией, другая – гостиной, а в третьей, как раз под покатой крышей, я подвесил гамак, в котором всегда спал. Было еще три комнаты, но я не занял их, а одну отдал старухе, которая вела мое хозяйство. На несколько миль вокруг не было ни души, дальше же, на другой стороне Фергус-Несса, жили рыбаки – Янги и Мак-Леоды. Перед домом была большая бухта; позади высились два безлесных холма, из-за которых поднималась гряда более высоких; между холмами была долина, и когда ветер дул с суши, он обыкновенно несся по ней с меланхолическим завыванием и шептался между ветвями елей под моим аттическим окном.
Я не люблю людей. Справедливость заставляет меня прибавить, что и они, кажется, большей частью не любят меня. Я ненавижу их мелкие, низкие, пресмыкающиеся обычаи, их условность, их обманы, их ужасный взгляд на правду и неправду. Их оскорбляет моя резкая откровенность, мое невнимание к их общественным нормам, то нетерпение,
с которым я отношусь ко всякому принуждению. Среди книг и химических реактивов, в своей уединенной берлоге в Мэнси, я мог скрыться от шумной людской толпы с ее политикой, техническим прогрессом и болтовней и блаженствовать в покое и счастье. Впрочем, я не бездельничал, я работал в своей маленькой пещере и делал успехи. Я имею основания думать, что атомистическая теория Дальтона основана на ошибке, и знаю, что ртуть не просто химическое вещество.
В течение дня я занимался перегонками и анализами. Часто я забывал о еде, и когда старая Мэдж звала меня пить чай, я находил свой обед нетронутым на столе. По вечерам я читал Бэкона, Декарта, Спинозу, Канта – всех тех, которые старались постичь непознаваемое. Все они бесплодны и пусты, не дают ничего в смысле результатов, но расточительны на многосложные слова, напоминая мне людей, которые, копая землю, чтобы добыть золото, откопали много червей и затем с торжеством выдали их за то, что искали. Иногда беспокойный дух овладевал мною, и я совершал прогулки по тридцати и сорока миль, без отдыха и пищи. В этих случаях, когда я проходил через какую-нибудь деревню, худой, небритый и с растрепанными волосами, матери бросались на дорогу и спешно уводили своих детей домой, а крестьяне толпами выходили из кабаков, чтобы поглазеть на меня. Думаю, что я повсюду был известен под прозвищем «сумасшедшего лорда из Мэнси». Однако же я редко делал набеги на деревню, так как обыкновенно бродил у себя на берегу, где успокаивал свой дух крепким табаком и делал океан своим другом и поверенным.
Какой товарищ может сравниться с великим беспокойным трепещущим морем? С каким человеческим настроением оно не будет гармонировать? Как бы вам ни было весело, вы можете почувствовать себя еще веселее, внимая его радостному шуму, наблюдая, как длинные зеленые волны догоняют друг друга и как солнце играет на их искрящихся гребнях. Но когда седые волны гневно вскидывают свои головы и ветер ревет над ними, тогда самый мрачно настроенный человек чувствует, что в природе есть меланхолическое начало, которое не уступит в печали и трагизме его собственным мыслям.
Когда в бухте Мэнси было тихо, поверхность моря блестела, как зеркало, и только в одном месте на небольшом расстоянии от берега выступала из воды длинная черная линия, похожая на зубчатую спину какого-нибудь спящего чудовища. Это была часть опасного хребта скал, известного у рыбаков под именем «истрепанного рифа Мэнси». Когда ветер дул с востока, волны разбивались о него с грохотом, подобным грому, а брызги перебрасывало через мой дом до самых холмов. Сама бухта была глубока и удобна, но слишком открыта для северных и восточных ветров и слишком страшна своим рифом для того, чтобы моряки часто пользовались ею. Было что-то романтическое в этом уединенном месте. В ясную погоду я часто лежал в лодке и, глядя через борт, видел далеко внизу колеблющиеся очертания большой рыбы, похожей на привидение, которую, я уверен, не довелось наблюдать ни одному натуралисту, и мое воображение создавало из нее гения этой пустынной бухты. Однажды, когда я стоял на берегу в тихую ночь, из бездны раздался истошный крик, похожий на крик женщины в безнадежном горе. Он то ослабевал, то усиливался в течение тридцати секунд. Это я слышал своими собственными ушами.
В таком странном месте между бесконечными холмами и безбрежным морем я работал и размышлял два года, и никто из моих собратьев-людей не беспокоил меня. Постепенно я приучил свою старую служанку к молчанию, так что теперь она редко открывала рот, хотя я не сомневаюсь, что когда два раза в год она посещала своих родственников в Уике, то за несколько дней язык ее получал вознаграждение за свой вынужденный отдых. Я дошел до того, что почти забыл, что я член человеческого рода, и жил всецело с мертвыми, чьи книги я внимательно изучал, как вдруг случилось происшествие, направившее мои мысли по новому руслу.
После трех штормовых июньских дней наступил тихий и солнечный день. Вечером тоже был штиль. Солнце зашло на западе за пурпурные облака, и на гладкую поверхность бухты легли полосы алого цвета. На берегу лужи, оставленные приливом, походили на пятна крови на желтом песке, словно здесь прошел раненый великан, оставляя за собой кровавые следы. Когда наступили сумерки, клочья облаков, стлавшихся над морем на востоке, собрались в кучу и образовали тучи неправильной формы. Барометр стоял низко, и я знал, что надвигается буря. Около девяти часов глухой звук, похожий на стон, донесся с моря, словно стонал сильно измученный человек, узнавший, что для него вновь наступает час муки. В десять часов с моря поднялся крутой бриз. В одиннадцать он перешел в сильный ветер, а в полночь бушевал самый бешеный шторм из всех, какой я когда-либо наблюдал на этом берегу, где бури отнюдь не редкость.
Когда я пошел спать, брызги и водоросли ударялись о мое аттическое окно, а ветер завывал так, как будто каждый порыв его был криком погибающего. К тому времени звуки бури сделались для меня колыбельною песней. Я знал, что серые стены дома поспорят с бурей, а о том, что происходило во внешнем мире, я мало заботился. Старая Мэдж была так же равнодушна к шторму, как и я. Около трех часов утра я проснулся от сильного стука в свою дверь, и меня удивили возбужденные крики хриплого голоса моей экономки. Я выпрыгнул из гамака и довольно резко осведомился, что происходит.
– О, милорд, милорд! – кричала она на своем ненавистном диалекте. – Сойдите вниз, сойдите вниз. Большой корабль наскочил на риф, и бедные люди кричат и зовут о помощи, и я боюсь, что они потонут. О, милорд Мак-Видти! Сойдите вниз!
– Замолчите, старая ведьма! – в гневе закричал я в ответ. – Какое вам дело до того, потонут они или нет? Ступайте себе спать и оставьте меня в покое.
Я опять улегся и натянул на себя одеяло.
«Люди там, – сказал я самому себе, – уже прошли через половину ужасов смерти. Если их сейчас спасти, то им через несколько скоротечных лет придется пройти через то же самое еще раз. Стало быть, даже лучше, если они погибнут сейчас, когда уже почувствовали приближение смерти, которое страшнее, чем самая смерть».
Этой мыслью я старался успокоить себя, чтобы снова заснуть, так как философия, которая учила меня смотреть на смерть как на незначительный и весьма обыденный эпизод в вечной и неизменной судьбе человека, сделала меня весьма равнодушным к жизни внешнего мира. Однако на этот раз я обнаружил, что старая закваска все еще бродила в моей душе. Какое-то время я ворочался с боку на бок, стараясь подавить побуждение минуты правилами, которые я составил себе в продолжении многих месяцев размышления. Вдруг среди дикого воя ветра я услышал глухой шум и понял, что это сигнальный выстрел. Тогда я встал, оделся и, зажегши трубку, вышел на берег.
Не было видно ни зги, и ветер дул с такою яростью, что мне пришлось собрать все свои силы, чтобы устоять под его порывами и идти вдоль берега, покрытого голышами. Ветер гнал песок мне в лицо, причиняя мучительную боль, красный пепел, вылетавший из моей трубки, исполнял во мраке фантастический танец. Я спустился к самому прибою, где с громом разбивались большие валы, и, прикрывая глаза руками, чтобы защитить их от соленых брызг, стал смотреть на море. Я не мог ничего различить, и, однако же, мне казалось, что порывы ветра доносили до меня восклицания и громкие несвязные крики. Внезапно я различил луч света, а затем вся бухта и берег мгновенно озарились ярким синим светом: на борту судна зажгли цветной сигнальный огонь. Судно лежало, опрокинутое на бок, как раз по середине зубчатого рифа, оно упало с размаху под таким углом, что была видна вся настилка палубы. Это была большая двухмачтовая шхуна иностранной оснастки, лежавшая ярдах в ста восьмидесяти или двухстах от берега. Каждая перекладина, веревка и плетеная частица такелажа четко выделялись в синевато-багровом свете, которыйискрилсявсамойвысокойчастибака.Позадиобреченного судна из мрака выступали длинные линии катящихся черных волн, бесконечных, неутомимых, с причудливыми клочками пены, видневшимися там и сям на их гребнях. Каждая волна, приближаясь к широкому кругу искусственного света, казалось, увеличивалась в объеме и неслась еще стремительнее, пока с ревом и грохотом не обрушивалась на свою жертву. Я отчетливо видел десять или двенадцать человек моряков, цеплявшихся за ванты. В свете огня они меня заметили и, обратив свои бледные лица в мою сторону, умоляюще замахали руками. Я чувствовал, что сердце мое восстает против этих бедных, испуганных червей. Почему они желают избежать той узкой тропинки, по которой прошли все великие и благородные рода человеческого? Мой взгляд вдруг упал на высокого человека, который стоял отдельно от других, балансируя на качающейся палубе разбитого судна, как будто он гнушался цепляться за канат или фальшборт. Руки его были заложены за спину, а голова опущена на грудь, но даже в этой безнадежной позе, во всяком его движении виделись гибкость и решительность, которые делали его мало похожим на человека, впавшего в отчаяние. Он спокойно и внимательно оглядывался по сторонам, оценивая каждый шанс к спасению; и хотя он часто смотрел через яростный прибой на берег, где стоял я, самоуважение или какие-нибудь другие причины не позволяли ему умолять меня о помощи. Он стоял молча, мрачный и загадочный, глядя вниз на черное море и ожидая, какую участь пошлет ему рок.
Мне казалось, что эта проблема была очень близка к своему разрешению. Громадная волна, поднявшаяся выше всех других и шедшая после них, подобно погонщику, следующему за стадом, пронеслась поверх судна. Его фок-мачта сразу переломилась, и людей, которые цеплялись за ванты, смело, подобно рою мух. Со страшным треском корабль начал раскалываться на две части в том месте, где острый хребет рифа Мэнси врезался в его киль. Одинокий человек около фок-мачты быстро перебежал через палубу и схватил какую-то белую вязанку, которую я заметил еще прежде, но не мог рассмотреть. Свет упал на нее, и я увидел, что это женщина с перекладиной, привязанной поперек ее тела и под руками таким образом, чтобы ее голова всегда поднималась над водой. Бережно и нежно он снес ее к борту судна и, казалось, говорил с ней с минуту или около того, как бы объясняя ей невозможность оставаться на корабле. Ее ответ был странен. Я видел, как она решительно подняла руку и ударила его по лицу. Это заставило его замолкнуть, но потом он снова обратился к ней, давая ей наставления, насколько я мог понять из его движений, как она должна вести себя, когда очутится в воде. Она отшатнулась от него, но он догнал ее и схватил в свои объятия. Он наклонился к ней на мгновение и, казалось, прижался губами к ее лбу. Потом большая волна хлынула к борту гибнущего судна, и он, нагнувшись, осторожно, как ребенка в люльку, положил девушку на вершину волны. Ее белое платье слилось с морской пеной, а затем огонь стал постепенно гаснуть, и расколотый корабль с одиноким пассажиром скрылся с моих глаз.
Пока я наблюдал за всем этим, природа взяла верх над философией, и я почувствовал безумное желание действовать. Я отбросил свой цинизм, как одежду, которую надену позже на досуге, и ринулся к своей лодке и веслам. Это была дрянная посудина, но что с того? Мог ли я, который сотни раз бросал нерешительный, пристальный взгляд на склянку с опиумом, взвешивать теперь все «за» и «против» и отступать перед опасностью? Я стащил лодку вниз к морю с силою помешанного и прыгнул в нее. В течение минуты или двух было под сомнением, может ли она держаться среди кипящих волн, но дюжина бешеных взмахов веслами пронесла меня через них, лодка, правда, наполовину наполнилась водой, но все еще держалась на поверхности. Теперь я понесся по волнам, то подымаясь вверх по широкой, черной груди одной волны, то опускаясь, опускаясь вниз так глубоко, что, взглянув вверх, я мог видеть, как блестящая пена вокруг меня вздымается к темным небесам. Далеко позади себя я слышал дикие вопли старой Мэдж, которая, видя, как я отправился, без сомнения, подумала, что мое безумие внезапно усилилось. Я греб и смотрел через плечо до тех пор, пока наконец на поверхности большой волны, которая неслась ко мне, не показались неясные очертания тела женщины. Перегнувшись через борт, я схватил ее, волны уносили ее прочь от меня, но мне удалось втащить ее, всю вымокшую, в лодку. Не было надобности грести назад, так как следующая волна подхватила нас и выбросила на берег. Я оттащил лодку в безопасное место, а затем, подняв женщину, понес ее к дому в сопровождении своей экономки, громко рассыпавшейся в поздравлениях и похвалах.
Теперь я испытывал полное равнодушие к судьбе девушки. Моя ноша была жива: я различил слабое биение сердца, когда прижал ухо к ее боку. Я
бросил ее возле огня, который зажгла Мэдж, так равнодушно, как если бы она была связкой прутьев. Я ни разу не посмотрел на нее, чтобы узнать, красива она или нет. В течение многих лет я мало обращал внимания на наружность женщины. Однако, лежа в своем гамаке наверху, я слышал, как старуха, отогревая ее, бормотала:
– О, какая девушка! О, какая красавица!
Из чего я заключил, что сия жертва кораблекрушения была и молода, и красива.
Утро после бури выдалось тихое и солнечное. Прогуливаясь по длинной полосе прибрежного песка, я внимал звукам моря. Оно волновалось и билось около рифа, но у берега едва журчало. На песке ни малейшего признака шхуны или какого-либо обломка разбитого корабля, и это не удивило меня, так как я знал, что в здешних водах много водорослей. Пара ширококрылых чаек носилась в воздухе над местом, где произошло кораблекрушение, словно видя что-то необычное внизу под волнами. Птицы издавали хриплые крики, как будто обсуждая друг с другом увиденное.
Когда я вернулся с прогулки, женщина ждала меня у двери. Завидев ее, я подумал, что лучше б я ее никогда не спасал, потому что моему уединению настал конец. Она была очень молода – самое большее девятнадцати лет, с бледным, довольно изящным лицом, золотистыми волосами, веселыми голубыми глазами и блестящими зубами. Ее красота была неземного характера: она была так бела, легка и хрупка, что могла быть духом морской пены, из которой я ее вытащил. Она искусно завернулась в одно из платьев Мэдж и выглядела в нем мило и прилично Я тяжело поднимался по тропинке; она протянула ко мне руки красивым детским жестом и побежала мне навстречу, желая, как я догадался, поблагодарить за спасение, но я отстранил ее и прошел мимо.
Казалось, это несколько оскорбило ее, и слезы показались у нее на глазах, но она последовала за мною в гостиную и стала пристально смотреть на меня.
– Откуда вы? – внезапно спросил я.
Она улыбалась, но молча покачала головой.
– Francais? – спросил я. – Deutsch? Espagnol? Каждый раз она отрицательно качала головой, а потом пустилась в длинный рассказ на каком-то языке, из которого я не мог понять ни одного слова.
Однако же после завтрака я нашел ключ к разгадке ее национальности. Проходя еще раз вдоль берега я увидел, что в трещине рифа застрял кусок дерева. Я подплыл к нему на лодке и привез на берег. Это была часть старп-поста шлюпки, и на ней, или, скорее, на куске дерева, приклеенном к ней, было слово «Архангельск», написанное необычными буквами. «Итак, – думал я, медленно гребя назад, – эта бледная девушка – русская, подданная Белого Царя с вполне подходящим обличьем для жительницы берегов Белого моря!»
Мне казалось странным, что такая, очевидно, утонченная девушка оказалась в длительном плавании на дрянном суденышке. Когда я вернулся домой, я повторял слово «Архангельск» много раз с различными интонациями, но не видно было, чтобы она признала его.
Я заперся в лаборатории на все утро, продолжая исследование о природе аллотропических форм углерода и серы. Когда в полдень я вышел поесть, она сидела возле стола с иголкой и ниткой, чиня свою высохшую одежду. Я почувствовал злобу на ее постоянное присутствие, но не мог же я выгнать ее на берег. В скором времени она проявила новую сторону своего характера. Указывая на себя, а потом на место, где произошло кораблекрушение, она приподняла один палец, из чего я понял, что она спрашивает меня, одна ли она спаслась. Я кивнул, подтверждая, что спаслась только она. Девушка вскочила со стула с криком, выражавшим большую радость, и, держа платье, которое чинила, над головой, размахивая им из стороны в сторону и вместе с тем раскачивая туловищем, стала танцевать с необыкновенной живостью вокруг комнаты, а потом прошла, танцуя, через открытую дверь; кружась на солнце, она пела жалобным, пронзительным голосом какую-то неуклюжую варварскую песню, выражавшую ликование. Я закричал ей:
– Войдите в комнату, чертенок этакий, войдите и замолчите!
Но она продолжала свой танец. Потом она внезапно подбежала ко мне и, схватив мою руку, прежде чем я успел ее отдернуть, поцеловала. За обедом она увидела один из моих карандашей и, схватив его, написала на клочке бумаги два слова «Софья Рамзина», а затем указала на себя в знак того, что это было ее имя. После чего передала карандаш мне, очевидно, ожидая, что я сообщу свое имя, но я убрал карандаш в карман в знак того, что не хочу поддерживать с ней никаких отношений.
Я постоянно сожалел о неосмотрительной поспешности, с которой я спас эту женщину. Что было мне за дело до того, будет она жить или умрет? Я не был молодым горячим юношей, чтобы совершать такие поступки. Уже достаточно скверным было вынужденное присутствие в доме Мэдж, но она была стара и безобразна, и ее можно было игнорировать. Эта женщина была молода и весела и вообще способна отвлекать внимание от более серьезных вещей. Куда отправить ее и что с ней делать? Если бы я послал уведомление в Уик, то чиновники и прочие явились бы сюда и стали допытываться, подглядывать и болтать – кошмарная мысль! Лучше уж переносить ее присутствие, чем это.
Скоро я понял, что эта история стала для меня неиссякаемым источником беспокойств. Нет ни одного места на земле, где бы можно было чувствовать себя в безопасности от кишащей, суетливой расы, к которой я имею несчастье принадлежать! Вечером, когда солнце скрылось за холмами, окутав их мрачною тенью, золотя пески и разливая над морем яркое сияние, я, по обыкновению, решил пройтись по берегу. Иногда я брал с собою какую-нибудь книгу. Я поступил так и в тот вечер и, растянувшись на песке, приготовился читать. Внезапно я почувствовал, что какая-то тень заслонила от меня солнце. Оглянувшись, я увидел, к своему большому удивлению, высокого, сильного человека, который стоял в нескольких ярдах от меня и, казалось, совершенно не замечал моего присутствия. Он сурово глядел поверх моей головы на бухту и черную линию рифа Мэнси. У него был смуглый цвет лица, черные волосы и короткая вьющаяся борода, ястребиный нос и золотые серьги в ушах; все вместе придавало ему дикий и вместе с тем до известной степени благородный вид. Одет он был в куртку из полинялого бумажного бархата, рубашку из красной фланели и высокие морские сапоги выше колен. Я сразу узнал в нем человека, который остался на разбитом судне в ту ночь.
– Эй! – сказал я недовольным голосом. – Вы, стало быть, благополучно добрались до берега?
– Да, – ответил он на правильном английском языке. – Это вышло помимо моей воли. Волны выбросили меня; я молил Бога, чтобы Он позволил мне утонуть! – В его произношении был легкий иностранный акцент, довольно приятный для слуха. – Два добрых рыбака, которые живут вон там, вытащили меня и позаботились обо мне. Однако же я не мог, сказать по чести, благодарить их за это.
«Ого, да он человек моего закала!» – подумалось мне.
– А почему вам хотелось бы утонуть? – спросил я.
– Потому, – вскричал он, взмахнув длинными руками в страстном, отчаянном жесте, – что там, в этой голубой улыбающейся бухте, лежит моя душа, мое сокровище, все, что я любил и ради чего жил.
– Ну, ну, – сказал я. – Люди гибнут каждый день, но бесполезно поднимать шум из-за этого. Позвольте вам сообщить, что земля, на которой вы прогуливаетесь, принадлежит мне, и что чем скорее вы уберетесь отсюда, тем приятнее это будет для меня. С меня довольно и одной юной особы...
– Юной особы? – задыхаясь от волнения, вымолвил он.
– Ну да, если бы вы забрали ее, я был бы вам весьма признателен.
С минуту, как бы не веря своим ушам, он смотрел на меня, а затем с диким криком пустился бежать по пескам к моему дому. Никогда раньше и никогда с тех пор я не видел человека, который бы бегал так быстро. Я поспешил за ним изо всех сил, взбешенный угрожающим мне вторжением, но гораздо раньше, чем я достиг дома, он вошел в открытую дверь. Из дома донесся громкий крик, а когда я подошел ближе, то услышал низкий мужской голос, говоривший с жаром и громко. Софья Рамзина забилась в угол и отвернулась, ее лицо выражало страх и отвращение, вся она дрожала; он же, со сверкающими темными глазами и распростертыми, дрожащими от волнения руками, изливался потоком страстных, молящих слов. Когда я вошел, он шагнул к ней, но она забилась еще дальше в угол и закричала, как кролик, которого хватают за горло.
– Это еще что! – взревел я, оттаскивая его. – Славная история! Чего вы хотите? Вы, верно, думаете, что попали в кабак!
– О, сэр, – сказал он, – извините меня. Эта женщина моя жена, я боялся, что она утонула. Вы возвратили меня к жизни.
– Кто вы такой? – грубо спросил я.
– Я из Архангельска, – сказал он просто, – русский.
Как ваша фамилия?
– Урганев.
–Урганев, а ее зовут Софья Рамзина. Она вовсе не жена вам. У нее нет кольца.
– Мы муж и жена перед Небом, – сказал он торжественно, смотря вверх. – Мы соединены более прочными узами, чем земные.
Пока он говорил, девушка спряталась за меня и, схватив меня за руку, сжимала ее, как бы прося защиты.
– Отдайте мне мою жену, сэр, – продолжал он, – позвольте мне взять ее отсюда.
– Послушайте, вы, как вас там зовут, – сказал я сурово, – я не хочу, чтобы эта девушка была здесь. Я жалею, что встретил ее. Умри она, это не было бы огорчением для меня. Но отдать ее вам, когда очевидно, что она вас боится и ненавидит, – нет, я не сделаю этого. И поэтому убирайтесь-ка отсюда и оставьте меня с моими книгами. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас.
– Вы не отдадите ее? – сказал он хриплым голосом.
– Нет, черт меня побери! – ответил я.
– А что, если я возьму ее? – крикнул он, и его смуглое лицо потемнело.
Кровь закипела у меня в жилах; я поднял полено, лежавшее у очага.
– Убирайтесь, – сказал я тихим голосом. – Убирайтесь живо, а не то плохо вам придется...
Он нерешительно взглянул на меня и вышел из дома, но тотчас же вернулся и встал на пороге, глядя на нас.
– Подумайте о том, что вы делаете, – сказал он. – Женщина принадлежит мне и будет моей. Если дело дойдет до драки, то русский не уступит шотландцу.
– Посмотрим! – воскликнул я, бросаясь вперед. Но он уже ушел, и я увидел, как его высокая фигура исчезала в наступившем мраке.
С месяц, или больше после этого, дела шли у нас гладко. Я вообще не говорил с русской девушкой, она также никогда не обращалась ко мне. Иногда, когда я работал в своей лаборатории, она проскальзывала в дверь и молча садилась, наблюдая за мною своими большими глазами. В первый раз это вторжение рассердило меня, но постепенно, видя, что она не делает попыток привлечь мое внимание, я позволил ей оставаться. Ободренная этой уступкой, она мало-помалу начала придвигать стул, на котором сидела, все ближе и ближе к моему столу; так подвигаясь понемногу каждый день в течение нескольких недель, она в конце концов стала направляться прямо ко мне и привыкла сидеть рядом со мной, когда я работал. В этом положении она, не навязывая, однако, мне своего присутствия, сделалась очень полезной, держа в порядке мои перья, прибирая трубки или бутылки и подавая то, что мне было нужно. Забывая о том, что она человек, я воспринимал ее, как полезный автомат, я так привык к ее присутствию, что мне недоставало ее в тех немногих случаях, когда она не была на своем посту.
У меня привычка громко разговаривать с самим собой во время работы, чтобы укрепить в уме свои выводы. Девушка, вероятно, обладала удивительной слуховой памятью: совершенно не понимая, конечно, их значения, она всегда могла повторить слова, которые я невзначай произносил. Я часто забавлялся, слушая, как она разражалась градом химических уравнений и алгебраических символов перед старой Мэдж и затем заливалась звонким хохотом, когда старуха отрицательно качала головой, думая, без сомнения, что к ней обращаются по-русски.
Она никогда не отдалялась от дома дальше нескольких ярдов и прежде, чем выйти, тщательно осматривала окрестность из окна, чтобы убедиться, нет ли кого вблизи. Из этого я вывел заключение: она подозревала, что ее соотечественник продолжал жить по соседству, и боялась, что он попытается похитить ее. Один ее поступок ясно подтверждал ее опасения. У меня был старый револьвер с несколькими патронами, который валялся среди разного хлама. Она нашла его там, вычистила и смазала, затем повесила около двери вместе с мешочком с патронами. Всякий раз, когда я отправлялся на прогулку, она снимала револьвер и настаивала, чтобы я брал его с собою. В мое отсутствие она всегда запирала дверь. За исключением этого чувства страха, она казалась вполне счастливой, помогая Мэдж в то время, когда не была со мной. Девушка была удивительно ловка и искусна во всех домашних работах.








