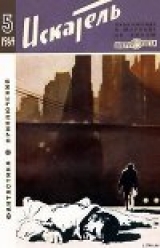
Текст книги "Искатель. 1964. Выпуск №5"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Соавторы: Владимир Михайлов,Николай Коротеев,Борис Ляпунов,Гюнтер Продёль,Валентин Аккуратов,Д. Пипко
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
В помещении, пустом и гулком, стояли такие же трехъярусные нары, как и в карантинном блоке в Биркенау, так же разделенные на ячейки. Мазур сделал несколько шагов и услышал тихий вздох:
– О господи!
– Кто здесь?
– А кто вы?
Перед Мазуром стоял согбенный, сморщенный, совсем усохший человек. Когда-то он, видимо, был полным: высохшая кожа свисала со скул.
– Вы дежурный? – спросил Мазур.
– Разве еще кто-нибудь может здесь остаться и не угодить в трубу?
– Цуганок я, новичок…
– Вы думаете, я не вижу?
На нагрудном кармане дежурного Мазур разглядел винкель еврея. Дежурный хотел еще что-то сказать, но на лестнице послышался топот деревянных колодок. Окончился аппель. Дежурный куда-то исчез. К Мазуру подошел заключенный с винкелем русского:
– За углом тебя ждет Гусь.
– Иду.
Спустившись на улицу, Мазур увидел щуплую, совсем подростковую фигурку Гусева. Он прохаживался по дорожке между блоками. Некоторое время шли рядом. Потом Гусев стал задавать вопросы: откуда он, где воевал, кто командовал бригадой, как попал в плен, в каких лагерях находился до Освенцима, как и с кем бежал, где задержан? Мазур отвечал быстро, не задумываясь, сразу признав необходимость подобного допроса и не любопытствуя сам.
Он рассказал, что Иван, отчаявшись выбраться, решил остаться в Чехии, на пивоваренном заводе, где работало много иностранцев. Среди них было просто затеряться. А Семен… Семена убили во время преследования.
– Значит, ваш товарищ погиб. Один остался в Чехии ждать лучших времен, а второй погиб?
– Да. Мы, когда остались вдвоем с Семеном, стащили мотоцикл. Думали, что проскочим километров сто и бросим. Сто километров.
– Наивный вы человек…
– Если бы нам удалось…
– Поэтому и наивный, – сказал Гусев.
– Он не умел водить мотоцикл и сидел позади. Нам стреляли вдогонку.
– Доверчивы вы, майор, – неожиданно сказал Гусев.
– Я вас помню по той ночи.
– Это еще ничего не значит.
– Но вы приходили ко мне сегодня!
– Это еще тоже ничего не значит.
– У вас такая организация, а я не слышал, чтобы кто-нибудь бежал из Освенцима.
– Никакой организации нет.
– Хорошо. Пусть нет, – без споров согласился Мазур. Искоса посмотрел на Гусева. Ему только теперь в голову пришло, что все узники Освенцима похожи на подростков: голова каждого казалась непропорционально большой на узких плечах. Лицо Гусева было невыразительным, будто смазанным, его не приметишь среди сотен. Вот только глаза: голубые, с острыми точками зрачков. Но зрачки его казались острыми не всегда, а в те мгновенья, когда он ждал ответа на вопрос.
– Разве нельзя организовать побег?
– Вы приглядитесь, майор. Штаммлаг окружен такими мощными инженерными сооружениями, что линия Маннергейма. И это уже за столбами в два метра высоты и проволокой высокого напряжения. В двух километрах от первой линии – снова колючая проволока и сторожевые вышки. А еще дальше – патрули автоматчиков и собаки, натренированные на охоте за людьми. Это не так просто.
– Да можно придумать сто вариантов побега!
– Тише. За само слово вас могут засечь на «кобыле». Пойдите на кухню. Там спросите Витю Метра. Он вам передаст котелок с баландой. Вы ели сегодня?
– Нет.
– Вы можете потерпеть. Пойдете в свой блок, найдете там Миллионера. Он еврей. Он один остался в блоке.
– С вашей помощью его сегодня оставили дежурным и не гоняли на работу…
– Догадываться можно, но говорить об этом…
– Хорошо.
– Имейте в виду, Темнохуд, если вас застукают, забьют насмерть.
– Меня проверяли подобным образом.
– Вы все поняли? – спросил Гусев.
– Так точно. Разрешите идти?
– Только не поворачивайтесь по-военному, – чуть улыбнулся Гусев. – Здесь между заключенными это не принято.
Мазур был очень доволен оборотом дела. Если с первой встречи дали поручение, значит, как бы к нему осторожно ни относились, ему доверяют. Для него сейчас это было главным. Ни минуты, ни секунды не хотел он оставаться один в этом лагере. Ни мгновенья! А когда он будет не одинок, то, что бы ни случилось с ним, он будет твердо уверен: он оставался солдатом, он боролся, и гибель его не напрасна.
Он благополучно добрался с бачком до своего блока, даже остановился на минуту у толпы, собравшейся около входа, а потом шмыгнул на второй этаж.
До отбоя оставалось примерно полчаса. Мазур знал, что в эту пору заключенные имеют привычку проводить время на улице, чтобы подышать свежим воздухом, прежде чем их на всю ночь загонят в душный блок. Миллионера надо было накормить так, чтобы никто не видел, иначе ведь придется отвечать на вопросы, где достал баланду.
Сквозь рядно куртки Мазур ощущал слабое тепло бачка, а в нос лез дух распаренной брюквы, густой, казавшийся неимоверно сытным. Ему хотелось как можно скорее отделаться от бачка, который слишком вкусно пах.
– Идемте! – Мазур тронул Миллионера за плечо.
– И зачем я вам нужен, господин?
Мазур сунул под нос Миллионера котелок с баландой. Он не вынимал котелка, а дал понюхать его прикрытым. Миллионер двинулся за ним словно зачарованный.
В уборной, куда они прошли, едко, до пощипывания в носу, пахло хлоркой. Однако даже этот запах не мог победить духа брюквы.
– Держите.
– Вы это все отдаете мне? Вы смеетесь? Или вы думаете, что у меня остались те деньги?
– Ешьте скорее.
– Но у меня совсем нет никаких денег! – Миллионер взял в руки теплый бачок с баландой и прижал его к себе обеими руками. – Или вы ошиблись?
– Ешьте!
– Как можно? Вот так – всё? Вы смеетесь! – Он теснее прижимал к себе котелок с баландой. – Разве так можно? Все сразу?
– Никто не должен видеть!
– Боже мой! Я не могу все сразу – это сокровище! – Миллионер запустил заскорузлую руку в котелок, выловил несколько кусочков брюквы и спрятал их за пазуху.
– Ешьте. Сюда могут войти.
Но Миллионер будто ничего не слышал. Он наслаждался запахом вареной брюквы, он смаковал удовольствие приблизить ко рту еще теплый котелок с брюквенным бульоном.
– Могут. Конечно, могут! – Он, наконец, решился. Согнулся, будто у него не хватило сил поднять котелок ко рту, отхлебнул. Когда поднял глаза, лицо его было в слезах.
– Вы видели когда-нибудь счастливого еврея? Нет? Разве вы могли его видеть? И разве я был счастлив, когда владел миллионами? Да! Вы решили, что я сумасшедший? Нет? Я крупнейший делец из Салоник. Вы мне не верите? Вы верите! Я уже думал, что в двадцатом веке мою семью не постигнет участь моего деда, изгнанного Фердинандом и Изабеллой из Испании. Хорошенький век! Моя Рахиль тоже здесь. В десятом блоке. Я знаю, там ставят опыты…
– Ешьте! Ешьте, пожалуйста!
– Неужели вы не разрешите мне еще чуть-чуть погреть руки и живот? Похлебка совсем теплая.
В коридоре послышался стук деревянных колодок.
Миллионер одним махом выбросил себе в рот жижу от похлебки, и котелок исчез у него под курткой.
Дело было сделано, и Мазур собрался выйти.
– Простите! Простите! – Миллионер загородил ему выход. – И вы думаете, что у меня совсем ничего нет? Что я совсем-совсем беден? Нет! – Миллионер схватил Мазура за рукав. – Я заплачу вам!
– Перестаньте! – растерялся Мазур. – Успокойтесь!
Дрожащая пустыми мешками кожа на скулах, сморщенное и усохшее, в грязных потеках слез лицо старого еврея было в вершке от глаз Мазура.
– Смотрите! Я улыбаюсь!
И он действительно улыбался, широко, безумно-счастливо, и влага слез дрожала в морщинах.
– Сколько стоит здесь улыбка? Вы знаете?
– Спасибо, – очень серьезно ответил Мазур. – Спасибо…
– Печон. Меня зовут Печон? Пока зовут Печон. А разве после смерти меня будут звать иначе?
* * *
Утро было росным.
Против казарм через дорогу ковром стелился газон с бирюзовой травой. Клены выстроились от брамы – входа в Штаммлаг до старого вашерая – бани.
По аллее вдоль газонов узникам разрешалось гулять только в воскресенье, когда эсэсовцы покидали лагерь и отдыхали в коттеджах, построенных поодаль.
На солнечной стороне, у казарм, роса на асфальте уже подсохла, а в тени деревьев осталась и почти точно повторяла их контуры. В траве газона – аккуратной, плотной, подстриженной – сверкали капли.
Мазур шел мимо газона, пошаркивая колодками. Со стороны могло показаться, что он бесцельно прогуливается, стараясь как можно спокойнее провести свободное время. Но Мазур спешил. В конце аллеи, у березки, невесть кем посаженной и прижившейся тут, по воскресным дням собирались русские. Не все, а те, кого приглашали. Для вида играли в карты, а сами разговаривали!

Еще издали Мазур заметил, что под березкой собралось человек пять: все в сборе, и чуть раньше обычного. И он бы не опоздал, да задержал разговором капо: по воскресным дням у Вильгельма бывало хорошее настроение после субботнего посещения пуфа, и он позволял себе минуты две «поболтать». Мазур был рад, что отделался всего тремя зуботычинами. Вильгельму не пришла в голову фантазия заняться им основательней.
Вилли не нацист. Он, пожалуй, ответил бы зуботычиной, если бы кто обозвал его так. Он убийца, но он не нацист. Он служит у нацистов. Он выполняет их приказы, а они пока сохраняют ему жизнь. Вилли наплевать на всякую политику.
Вилли не один. Таких в лагере десятки. Десятки добровольцев, в силу обстоятельств – пособников. Они помогают держать в страхе тысячи. И сами живут под страхом. «Думай о себе! Только о себе! Никто не подумает о тебе, когда настанет твой черед умирать!» – эта мысль постоянно вдалбливается в головы узников. И как только человек почувствует себя одиноким, как только он позволит себе посчитать, что для продления своей жизни имеет право взять кусок хлеба у соседа, он переметнулся к тем, кто уверен, что имеет право отнимать жизнь.
Если нацисты грозили смертью за любое проявление солидарности, то узники платили суровой карой за малейшую попытку спасти себя за счет другого. Украденная у товарища корка хлеба считалась равносильной предательству.
В кругу картежников под березкой Мазур увидел незнакомцев. Их было двое. Судя по винкелям – немцы. Еще один тоже был немцем. Его Мазур знал. Он не раз замечал, как этот третий, Фриц Локман, забегал на склад одежды и о чем-то разговаривал с Гусевым.
Гусев сказал:
– Вот он расскажет, как окружали армию Паулюса.
Один из незнакомцев повернулся к Мазуру:
– И тем не менее он здесь.
У того, кто это сказал, было длинное лицо, а голос полон иронии.
Мазур возмутился. Гусев предупредительно поднял руку.
– Нацисты сильны, – продолжал длиннолицый. – После отступления под Москвой они ответили ударом на юге. После зимнего отступления на Волге, надо думать, начнется ответный удар этим летом. Вы русские. И именно поэтому думаете, что победит Россия.
– Мы в этом не сомневаемся! – сказал Гусев. – Больше того. Где бы то ни было, мы будем делать все для победы.
– Таков ваш патриотический долг, – со спокойной безнадежностью парировал длиннолицый.
– А ваш? – не сдержался Мазур.
– Наш долг – ждать, когда немецкий народ поймет и осознает необходимость социальных преобразований.
«Понятно, – подумал Мазур, – из социал-демократов. Ничего не понял, ничему не научился. Неужели и здесь, дыша копотью крематориев, он верит в социальный прогресс без борьбы?»
Гусев спросил:
– Следовательно?
– Следовательно, борьба при этих условиях – чистейшее донкихотство, – с миной страдальца на лице продолжал незнакомец. – Если вы призовете всех броситься на колючую проволоку под током, это будет просто массовое самоубийство. Нонсенс!
– То, что вы говорите, действительно нонсенс, – очень выдержанно ответил Гусев. – Но организация побегов…
– Шансы – ничтожны, а жертвы велики.
– Когда батальон поднимается в атаку, никто не знает, сколько останется в живых, – сказал Мазур. – Таков закон боя.
– Боя – да, – ответил длиннолицый.
– И здесь бой, а мы солдаты.
Несколько секунд длилось молчание.
– Поймите нас правильно, – проговорил длиннолицый. – Мы не против борьбы. Улучшение условий содержания узников волнует нас наравне с вами. Но то, что предлагаете вы, – авантюризм.
Гусев сказал:
– Мы не собираемся отказываться от вашей помощи. Нам она необходима. Нам необходимо единство.
– Единство…
Мазур отошел от сидящих.
Минут через двадцать он снова направился к березке, у которой еще играли в карты Гусев, Ситников, Локман. Видно, обо всем уже договорились. Расходились поодиночке. Гусев собрался последним.
– Дело есть, – сказал он, обращаясь к Мазуру. – Решили, что подготовкой побегов станешь заниматься ты.
Мазур сглотнул слюну..
– Согласен?
– Спрашиваешь!
– Спрашиваю.
– Да.
– Только уж, пожалуйста, действительно без авантюр: все подготовить по-настоящему. Мы дадим тебе возможность побывать в лагере везде, где сочтешь нужным.
– Даже в Буне?
– О ней стоит больше всего подумать. Там охрана слабее, чем в Штаммлаге.
– Понятно, Саша! Спасибо. Думал я когда-то, что труднее всего из горящего танка выскочить. Ан нет. Есть места, откуда потруднее!
Гусев хлопнул товарища по плечу:
– Заводной ты, Петька! Но теперь крепись. Не мельтеши. Основательно, до тонкостей продумай дело. Потом мне скажешь. Я пошел.
«Значит, есть организация! – подумал Мазур. – И они поверили в возможность побега, несмотря ни на какие постенкетты, патрулей и овчарок. Выходит, это уже не просто мечта! Вырвемся!»
Рука Мазура легла на шелковистый ствол березки. Потом он взял в пальцы несколько веточек. Листья были предосенние, жестковатые, темно-зеленые. Они имели форму сердца с маленькими зазубринками по краям и, нагретые солнцем, пахли Родиной.
Неожиданно Мазур увидел, что прожилки на листьях и зазубринки пронизаны копотью. Жирная черная копоть покрывала листья. Копоть крематория.
«Родина, жди! Мы вернемся к тебе. Все вернутся к тебе. И те, кто выжил, и те, кто погиб. Никто не будет забыт».
* * *
Впереди показалась брама – вход на территорию лагеря. Вдоль шеренг засуетились охранники, колотя палками узников. Справа от входа, у домика вахты под серой шиферной крышей, толпилось, соблюдая чипы и ранги, эсэсовское начальство. На шаг впереди всех стоял комендант Рудольф Гесс. Воротник его шинели был поднят. Так было всегда, даже летом.
Заключенным запрещалось глядеть в сторону начальства. Только в затылок друг друга. Но каждый день каждый видел лицо Гесса при проходе под брамой. И не было на свете казни, которую узник не мечтал применить к этому тощему ремесленнику смерти.
Привычно гремит музыка. Но слух не различает ее. Только ритмичные удары барабана эхом отдаются в сумеречном от голода сознании.
Уханье барабана удаляется. Краем глаза Мазур видит на стене блока косую тень соседнего здания, блеснуло в косо вставленном стекле заходящее солнце. В хорошую погоду аппель не затягивается: он не будет мучением, еще одной пыткой. Другое дело в ледяной дождь и ветер.
Но аппель все же затянулся. Влокфюрер Гейнц приказал вынести к будке рапортфюрера деревянную «кобылу».
Строп узников замер.
У «кобылы» стоял Вилли и, зажав под мышкой железную трубу, обтянутую резиной, меланхолично закатывал рукава.
Наконец выкрикнули номера.
Есть в душе человека предел, который ограждает его даже от страха смерти, если этот страх постоянен. Боль – это сверхсильное ощущение жизни, но и она имеет порог, за которым перестает быть властной. Она настолько сильна, что выключает сознание. И смерть, если она неотвратимо стоит перед глазами, перестает быть устрашающей. Особенно если человек чувствует себя солдатом. А концлагерь не был пленом в его обычном понимании, в его идеальном понимании по статьям Гаагской конвенции. Враг в концлагере оставался врагом, еще более лютым и ненавистным. Менялись условия борьбы, но война продолжалась.
И эти мысли, вернее, чувства переживал Мазур в те минуты, когда его товарищи принимали смертную муку. Только не было даже возможности крикнуть на всю площадь: «Слышу!», как кричал своему сыну когда-то Тарас Бульба. Но каждый знал: склоняется в это мгновенье над смертниками незримая палачам Россия.
Троих забили насмерть. Их положили на асфальтовую дорожку рядом с телами тех, кто погиб сегодня на работе. Двое избитых Вилли еще оставались в живых. Их подняли так же бережно, как поднимают смертельно раненных на поле боя, и отнесли в кранкенбау. И те, кто относил их, были в полной уверенности, что там польские врачи, которые тоже оставались солдатами, сделают все возможное для спасения их жизни.
Мазур направился в бекладайку. Там, на складе грязного белья, у него была назначена встреча с Ситниковым и Гусевым. В полутьме из-за вороха пиджаков, брюк, рубашек и пальто вынырнуло лицо Кости. Мазура всегда поражало его лицо, сохранившее озорное выражение. В этом парнишке из Одессы жил вечный дух Фигаро. Он всем был нужен, и он мог сделать невозможное для всех.
– Порядок! – сказал Костя.
Поднявшись на чердак, Мазур пригляделся.
– Сюда, – позвали его из темноты.
В углу сидели трое. Мазур настороженно остановился.
– Подходи, – снова послышался голос Гусева.
Присев рядом, Мазур старательно стал разглядывать лицо незнакомца.
– Это Курт, – сказал Гусев.
Мазур порывисто протянул руку. Курт ответил твердым пожатием. Лица Курта разобрать было невозможно. Впрочем, Петр Тарасович подумал и о том, что Гусев специально назначил эту встречу так поздно. Осторожность – наипервейшее правило конспирации. Мазур знал, что этому Гусев сам научился у немецких коммунистов-узников. У них в этом отношении был куда богаче опыт, опыт горький, оплаченный десятками жизней. Потому их советы по правилам конспирации выполнялись неукоснительно. За полгода пребывания в Освенциме Мазур привык быть нелюбопытным и осторожным. Однако Гусев все еще считал его чересчур горячим. Мазур пробовал с ним спорить. Гусев отмалчивался. Он умел молчать удивительнейшим образом. Только изредка посмотрит на собеседника, и тот сам почувствует – зарвался, наговорил сгоряча, поторопился, не там ищет.
Шесть месяцев дум, разговоров, предположений не привели Мазура к точному решению задачи организации побега. Каждый раз риск оказывался слишком велик, а шансы почти ничтожны. Лишь последний из разговоров Гусев закончил осторожно:
– Стоит подумать.
Речь шла о попытке вырваться из лагеря через систему подземных коллекторов.
Сегодняшнее свидание тоже не радовало Мазура. Ведь неделя прошла впустую.
– Товарищи одобрили твой план, – тихо сказал Гусев.
Мазур обнял товарища с такой стремительностью, что тот охнул от боли:
– Тихо, тихо! Так и в кранкенбау попасть можно. А еще говорят, кормят плохо.
– Да я сейчас проволоку зубами перегрызу! Столб железобетонный сломаю! – Мазуру казалось, что яркий свет вспыхнул на чердаке.
– Чует мое сердце, – Гусев помотал головой, – подведет тебя твоя горячность.
– Ей-богу, не понимаю тебя, Саша. Никто в жизни еще не считал меня слишком горячим.
– Наверное, вы стали таким здесь, – заметил Курт по-немецки. – Здесь нетрудно стать слишком горячим.
– Может быть, может быть, – согласился Мазур. – Я постараюсь стать сдержаннее.
– Хорошо, – ответил Гусев. Но в тоне его Мазур не ощутил твердой уверенности в том, что это очень уж необходимо. Однажды Саша сам сказал Петру, как заразителен его оптимизм, будто частичка фронта горит в лагере.
Курт спросил:
– Вы знаете электротехнику?
– Простым электромонтером смогу быть. Танкисту и электротехнику надо знать. И токарем и слесарем могу. Радистом – тоже.
– Гут. Зер гут.
– Из Штаммлага нам по трубам вырваться не удастся.
– Почему? – удивился Мазур.
– Не удастся.
– Разве коллекторы, ведущие из Штаммлага, уже обследованы?
– Да, – ответил Гусев.
– Кем? Когда?
– Мною и Громовым.
Это сказал молчавший дотоле Ситников.
– Выходы коллекторов очень далеко. Они, по-видимому, где-то за Биркенау и Буной. В них легко заблудиться, как в пещерах. Это первое. Во-вторых, пробираться по ним надо около суток. Беглецов хватятся. Где гарантия, что эсэсовцы не догадаются, куда и каким способом пытаются беглецы выйти из лагеря? Тогда им останется только перекрыть выходы из коллекторов. Беглецы окажутся в мышеловке.
– Но ведь совсем без риска нельзя!
Мазур прижал руки к груди, словно умоляя товарищей.
Тогда стал говорить Курт:
– По нашим сведениям, в Буне прокладывают подземные газовые магистрали. И электрические тоже. В руках тех, кто руководит работами, должны быть планы коллекторов. Иначе и быть не может. Иначе строители запутаются. А с завода синтетического топлива, возведение которого заканчивается, надо сбрасывать отходы. По всей вероятности, их отводят в Вислу.
Гусев вздохнул:
– То-то и оно! Попробуй попасть в Буну. Команд из Штаммлага туда не посылают. Пробраться в Буну не менее трудно, чем за сутки пробраться по коллекторам туда и не заблудиться. Вот как.
– Опять тупик… – проговорил Мазур.
– Не горячись, – сказал Гусев.
– Да, – протянул Курт, – попасть в Буну очень трудно. Но не невозможно. В конце концов Штаммлаг – это Освенцим-I, Биркенау – Освенцим-II, а Буна – III. Все равно Освенцим. Значит, может представиться возможность из Освенцима-I попасть в Освенцим-III.
– Когда? – не выдержал Гусев.
– Мы не можем сказать точно.
Потом Курт сказал:
– Мы постараемся сделать это как можно быстрее.
Ушел Мазур первым.
Меж казармами дул сырой промозглый ветер. Мазура познабливало. Неожиданно мелькнула мысль, что он может простудиться. И Мазур быстрее засеменил в блок. Он прошел и почувствовал себя так, словно не был здесь давно, и удивился сумраку, мрачности, дикости окружавшего его мира. Ноги подкашивались. Точно лунатик двигался он по проходу между нарами. Подошел Громов:
– Что с тобой, Петро?
– Не знаю.
Он слышал вопрос сквозь ватный туман, и ответил, и повторил:
– Не знаю. Ничего.
Под утро, когда проемы окон проступили легкой, едва уловимой голубизной и вот-вот должен был раздаться сигнал подъема, Мазур вдруг вспрянул, затаил дыхание, но сердце застучало так сильно, что он проклял его стук. Мазур уловил в предрассветной тишине ночи нечто знакомое, но несообразное, не вяжущееся со всем, явно противоречащее известному для него, но в то же время явственное, четкое.
Мазур услышал звук канонады.
Очень, очень далекий, похожий на гром и в то же время непохожий. Стояла ранняя весна. Грома и быть не могло. Взрывные работы? Не похоже. Может, слышится, чудится?
Резким движением Мазур толкнул соседа. А тот спросил:
– Слышишь?
– А ты?
– Я думал, сплю. Проснулся вдруг во сне, а сам сплю.
– Тише.
Звук будто растворился, перестал быть слышимым.
Потом возник опять.
Непонятно почему, но Мазур ощутил: в блоке проснулись почти все. И с каждым мгновением просыпаются все новые узники.
В то утро вошедшие в блок капо были поражены, что не надо поднимать людей дубинками. Они встали сами.
Капо догадывались о многом. Они стали заметно смиреннее.
В то утро, когда узники то и дело останавливались на мгновение, чтобы уловить в тугом воздухе весны звук канонады, многие потеряли жизнь. Эсэсовцы свирепствовали с особенной жестокостью. А узники почти забыли об осторожности.
Но невозможно было понять, почему канонада слышна. Всего день назад польские подпольщики сообщили о взятия Львова. До Освенцима частям Советской Армии оставалось пройти еще много. Намного меньше, чем когда бы то ни было, но еще много. Ждали вечера, чтобы получить хоть какие-нибудь известия.
Сразу после возвращения с работ Мазур бросился разыскивать Гусева, но тот словно сквозь землю провалился.
Только перед самым отбоем Костя-одессит подошел к Мазуру и сказал, чтобы тот прошел к шестнадцатому блоку. Мазур тщательно присматривался ко всем встречным, чтобы не притащить никого «на хвосте». К Гусеву, прогуливающемуся как ни в чем не бывало, Мазур подошел сзади и пристроился сбоку, как бы обгоняя его.
– Товарищи решили как можно скорее выпустить из лагеря группу советских и польских офицеров для связи с польскими партизанами, – сквозь зубы проговорил Саша. – Будь готов.
– Что за стрельба в стороне Малых Татр?
– Толком не известно.
Мазур промолчал.
– Похоже, что карательная экспедиция против партизан.
– Судя по звукам, это перестрелка. И сильная.
– Все может быть.
– А Янек? Ты спрашивал у Янека? – спросил Мазур.
– Совинформбюро ничего не сообщало по этому поводу.
Они разошлись.
С наступлением ночи отдаленный гул канонады словно приблизился, а потом стих. И не возобновлялся.
На другой день капо вымещали злобу за свой испуг.
Погода стояла серая. Ветер, перемешанный с дождем, выдувал из чахоточных остатки жизни. Проблески надежды, мелькнувшие было в душах узников, сделали лагерную обыденщину еще страшнее.
Двое из блока Мазура сами бросились на проволоку.
Через неделю на утреннем аппеле блокфюрер выкрикнул двадцать номеров. Мазур услышал свой, и гусевский, и ситниковский, и громовский.
Мазур шагнул вперед. Сердце екнуло: неужели их действительно переводят в Буну, как обещал сделать Курт?
Потом их построили отдельно.
Смотрели на них с состраданием. Никому еще подобные вызовы не сходили добром.
Конвоир крикнул:
– Форвертс!
Они шли отдельно от других колонн узников, маленькой группой, их повели в сторону Буны.
«Так и есть! Сколько же труда стоило товарищам сделать это!» – подумал Мазур.
Они прошли мимо стоявших у брамы эсэсовцев. Как всегда, Гесс с поднятым воротником шинели находился на шаг впереди остальных. И череп на тулье его фуражки виделся четче и яснее, чем само лицо.
За воротами Мазуру открылся вид всего пространства, занимаемого лагерем, длинные, нескончаемые колонны людей, идущих по дорогам.








