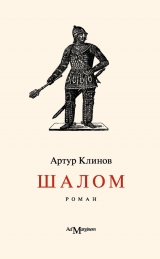
Текст книги "Шалом"
Автор книги: Артур Клинов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Э, не! По-нашему шелом – это война! Ты надел не мир, а войну!
– Война вокруг нас! Мир внутри, в голове!
– Не забудь, что каждый мир кончается войной!
– Но и каждую войну венчает шелом!
– И ты думаешь, что сможешь его удержать?
– Понимаешь, Федор… – Андрэ посмотрел есаулу в глаза. – Представь художника, которого все заебало… Заебало, потому что он лузер, жена дура и блядь, теща садистка и сволочь, денег нет и не будет, искусство его на хрен никому не нужно, никто его не замечает, и времени что-то исправить почти не осталось. Что ему делать? Есть два варианта. Первый: забить на все и тихо бухать в Могилеве. Второй – вымыслить нечто такое, чтобы все ахнули. Написать такой манифест да так его прокричать, чтоб не только соседи по засранной лестничной клетке услышали, но все: и на соседней улице, в городе и даже, на хрен, в Америке, которой все наши манифесты до задницы. Но тут как раз и проблема, потому что манифестов уже много написано, а придумать новый сложно. Если б были бабки, то можно было б себе любую блажь позволить. Но в том-то и дело, что бабок нет. А что у нас есть? Только свое тело! И все, что этот художник может сделать, он может сделать лишь со своим телом. К примеру, он говорит себе: ну, сволочи, погодите, покажу я вам фокус – пришью себе третью руку. Это будет мой манифест! Ха-ха! Смешно? Да? Трехрукий! Только снова проблема. Операция дорогая, опять бабки нужны. Да и что третья рука! Будет болтаться, как второй член! А если эту руку пришить к голове? Да из металла? И даже не всю руку, а только палец? Один средний палец, тот, которым символизируют «фак»! Так что, Федор, теперь понимаешь? Считай, что я к голове палец пришил! Один, но важный! Это мой манифест! Он всего из трех букв – короткий, но емкий!
Андрэ замолчал. Федор как-то скорбно, будто отправлял друга туда, откуда он уже не вернется, посмотрел на него, сделал глоток виски и произнес:
– Девять вечера. Пора возвращаться. Насчет денег надо что-то придумать. У меня их, сам знаешь, нет, у Буяна – тем более. Дай время, я помозгую, может, что-то в голову придет.
Вернувшись в Тахелес, они застали пасторальную сцену – Ингрид, вызывающе закинув ноги на стол, пила вино, а Буян в каком-то странном возбуждении суетился вокруг. Он вытаскивал из закутков свои свежие живописные ноктюрны, прелюдии, фуги и на простейшем английском из двадцати слов погружался в смысловые глубины этих картин.
За то время пока Андрэ с есаулом отсутствовали, они раздобыли на свалке матрас, а Ингрид даже успела свить на нем уютное гнездышко для ночлега. Затем Буян принялся развлекать молодую невесту. А так как иностранных языков знал он много, но не более двадцати слов на каждом, то речь его была похожа на изысканный воскресный десерт для гурмана, где выражения из французского, немецкого, английского, польского купажировались в сладкие, но немного странные коктейли.
Исчерпав известное ему количество сочленений, Буян достал тонкую книжицу и принялся читать Ингрид свои стихи. Написаны они были по-белорусски, но для понимания это не имело значения. Поэт он был далеко не бездарный, но, главное, при чтении голосом мог создавать такую комбинацию звуков, такую гамму шепотов, криков, стонов и визгов, что смысл произведения и без слов становился понятен. Отдавался Буян чтению своих виршей самозабвенно, и это почти всегда вызывало должный эффект у молоденьких девушек.
Ингрид, которой лохматое чудище, вылезшее из-под одеяла, поначалу совсем не понравилось, теперь смотрела на него хоть и с легким испугом, но уже переходящим в восторг. Буян же, отдавая себя в руки экстаза, что-то урчал, корчась, взлетал ревом, падал в тишину, затем опять взлетал, приземлялся, вгрызался в слово и снова набирал обороты. Винты пропеллеров крутились быстрее, быстрее, еще быстрее. Включалась турбина, он несся по взлетной полосе, отрывался от земли и… летел, летел, летел, БАБАХ!!! – неожиданно рухнул перед ней на колени, воткнув вишни своих взбаламученных очей прямо в ее глаза! «А в нем что-то есть!» – думала Ингрид и уже с большей симпатией вглядывалась в его пышную взлохмаченную шевелюру, густые брови, пухлые сексуальные губы.
Буян, видя, что его выступление дает нужный эффект, кинулся развивать успех. Он вцепился в тонкие руки Ингрид и принялся покрывать их чувственными слюнявыми поцелуями, а затем вдруг вскочил, побежал в угол и, погромыхав там, поставил перед ней ярко-розовую картину. Потом принес еще одну и еще.
Это были работы из нового – «розового» – периода Буяна. Все картины этого цикла имели неприятный красновато-пастельный, слегка менструальный окрас. Эта картина изображала группу мандавошек в количестве семи-восьми персон, которые, взявшись за руки, куда-то радостно вприпрыжку бежали в спортивных трусах по желтой дорожке среди розовых полей на фоне чистого голубого неба.
Безусловно, серия являла собой лирический этап в творчестве Буяна. В отличие от других периодов насекомые здесь были не агрессивны, а милы и веселы. Их дружный бег в одном направлении символизировал позитивное отношение к жизни, общность устремлений, радость коллективного труда, возможность преодоления любых невзгод сообща, возбуждение от совместного творчества, красоту спортивного праздника на фоне сельских пейзажей и многое-многое другое.
Ингрид, оценив сексуальные танцы Буяна, с любопытством рассматривала розовых козявок. Когда же она, закинув ноги на стол, уселась в такой соблазнительной позе, что Буян, пустив слюну, хотел было в качестве финального аккорда преподнести ей в подарок самое розовое из своих полотен, вошли Андрэ с есаулом, и полет был внезапно оборван на полуноте.
– Что вы так долго? – поинтересовалась Ингрид, снимая со стола ноги.
– Разговаривали, – хмуро произнес Андрэ и обвел взглядом мастерскую, которая уже больше походила на живописную лавку с расставленными и повернутыми к покупателю полотнами.
Федор подошел к столу и начал молча выгружать на него батарею жидких боеприпасов. Ее размеры говорили: бой сегодня предстоит не простой, а тяжелый, нудный, скорее всего, затяжной. И еще неизвестно, дотянет ли кто-нибудь из них до рассвета. Незримый противник был коварен, силен. Бряцая затворами автоматов, булькая снарядами, заряженными в горловины пушек, он грозно взирал из своих амбразур.
Все молча уселись вокруг стола. Федор, предвидя серьезность предстоящего боя, напряженно разлил по первой и, выдохнув, произнес:
– Ну, понеслось! За Родину! Пли!
Начали, как обычно, с тяжелой артиллерии. Как опытные солдаты они знали, что вначале врага нужно как следует раздолбать артналетом. Погонять неприятеля по его же окопам, чтоб он, задрав задницу, пометался от блиндажа к блиндажу под грохот и падающие на голову ошметки земли, штукатурки, дерьма, прочей дряни. Виски для этого подходило лучше всего. Конечно, сгодилась бы и водка, но в Берлине с ней была проблема. Стоила она дороже, а в размерах всей армии экономия на виски выходила приличная.
Первые залпы отзвуками глухих ударов громыхнули где-то вдали. Можно только предположить, какая паника и переполох поднялись в стане врага. Но противник тоже оказался не промах. Он тут же ответил залпами своих орудий. Поднялся страшный грохот и лязг. В бой вступила пехота, застрекотав бульканьем наливаемого в стаканы вина и глухими хлопками пивных банок. Все вокруг загалдели, затрещали, заговорили на всех языках – завязалась ожесточенная перестрелка.
Федор твердо стоял у орудий. Зарядив в ствол очередную порцию огненной воды, до того как донышко снаряда скроется в горловине, он кричал:
– За победу!
– За встречу!
– За шонен фрау!
– За искусство!
– За Тахелес!
– За Ефросинью Полоцкую!
– За Марью Ивановну!
– Почему за Марью Ивановну?
– А черт его знает! Просто к слову пришлось!
– За Берлин!
– За нас!
– За наших врагов!
– За то, чтобы все!
– Ура!
– С Новым годом!
– Новый год еще не скоро!
– Ничего страшного! За него еще сегодня не пили!
– Будем!
– Бум!
– Ну!
– А-а-а-а-а-а!
Да, сражение затевалось не шуточное! Враг наседал со всех сторон! Но наш маленький отряд мужественно отбивал его натиск. Ингрид, не умолкая, стрекотала из пулемета. Одновременно она исполняла роль сестры милосердия.
В какой-то момент, почувствовав, что силы с голодухи покидают Андрэ и он может раньше времени рухнуть на дно окопа, она прыгнула ему на колени и, впившись в губы, принялась делать искусственное дыханье. Затем схватила его за руку и потащила за собой по длинному коридору Тахелеса. Найдя тихое, укромное место, она прижала его к себе, расстегнула замок на штанах и запустила в них руку. Андрэ тут же ощутил прилив сил – открылось второе дыхание, и, усадив маленькую пулеметчицу на деревянные ящики, они с языческим ликованьем исполнили то, что таит в себе квинтэссенцию всякого смысла.
Вернувшись в ателье, они обнаружили свежее подкрепление. Пока их не было, сосед по этажу, услышав стрельбу, шум, грохот, звон стекла и во весь балканский голос ревущего Бреговича, заглянул к Федору. Увидав этот ад, он тотчас кинулся к себе и, кряхтя, притащил еще ящик снарядов. Что было как нельзя более кстати, так как виски к тому моменту как раз закончилось. На столе оставались лишь винные патроны и пивные хлопушки, поэтому Федору уже нечем было заряжать свои тяжелые гаубицы.
Как и следовало ожидать, такой бой не мог обойтись без потерь. Первым по-геройски упал поэт Буян. Какой-то шальной фугас разорвался возле него, и он, просто рухнув на руки Андрэ, вцепился ему в плечи и, раненый, простонал:
– А-а-а-а-а…а-а-а-а-а… Говнюк! Отдай шлём!
– Иди в задницу!
Буян тут же переключился на сидевшую рядом Ингрид и в простых армейских выражениях предложил ей совершить половой акт на его матрасе. Андрэ посмотрел на Федора с немым вопросом в глазах: «Не пора ли применить наше секретное противобуянное оружие?» Но тот был увлечен беседой с мексиканцем, соседом, притащившим ящик снарядов, и в принципе уже ни на что не обращал внимания. Он даже бросил командовать артиллерией и теперь просто подливал сам себе, стреляя без всяких тостов.
Сражение принимало затяжной характер. Оба лагеря несли большие потери, но силы враждующих оказались примерно равны, поэтому никому не удавалось решительным натиском преломить ход боя на свою сторону. Артиллерия уже не грохотала как прежде. Шла вялая автоматная перестрелка между мелкими группами. Хоть Федор время от времени и заряжал свою гаубицу, но, уже не целясь, посылал снаряд на авось, в надежде, что вдруг попадет куда следует.
В какой-то момент тяжелые заряды снова закончились. Но мексиканец оказался настоящим, с большой буквы Амиго. Он еще раз сбегал к себе в мастерскую и вернулся с бутылкой противотанкового бронебойного рома.
Буян хоть и был тяжело контужен, но не покидал поле боя. Он ползал между Андрэ, Ингрид, есаулом и мексиканским Амиго, лез обниматься, вешался всем на шею и что-то нес про свою гениальность. Ингрид он по-прежнему предлагал секс, на шпиль Шелома пробовал надеть бутерброд со шпиком, а мексиканца просто пытался поцеловать взасос. Федор смотрел на это спокойно, но лишь до момента, пока Буян вдруг не обозвал Амиго черномазой собакой.
Есаул был человеком правильным, жил по понятиям, поэтому не переваривал расизма ни в какой его форме. Услышав такое, он молча вытащил из-под бруствера припрятанный фауст-патрон вермута, налил полный стакан и сунул его в руку Буяну. Привычным жестом тот отпил и хотел было что-то еще сказать мексиканцу, но вдруг весь обомлел, скукожился и, как воздушный шарик, сдулся на первом подвернувшемся стуле.
Это была первая серьезная потеря в отряде. Вторым пал мексиканец. Видимо, предчувствуя что-то неладное, он попробовал сменить дислокацию, перебраться в более надежное, менее простреливаемое место, приподнялся из-за стола, как вдруг шальная пуля просто навылет сразила его. Амиго от неожиданности побелел, на мгновенье завис в воздухе и плавно, как одноногая цапля, взмахнув крыльями, рухнул с распростертыми руками спиной прямо в розовые земляничные поля.
Мандавошки в спортивных трусах, не ожидая такого, в панике кинулись наутек. Их коллективный бег в одном направлении, позитивное отношение к жизни, радость соборного труда, возбуждение совместного творчества, красота спортивного праздника на фоне сельских пейзажей и многое-многое другое вмиг было оборвано внезапным вторжением войны. Она просто рухнула на их головы с голубого неба большим потным телом пьяного мексиканца, пробив черные воронки-дыры в розовых полях, искорежив их противотанковыми надолбами переломанных подрамников.
А тут еще – о, ужас! – два жутких лика прямо с неба надвинулись на них. Один – почерневший и изъеденный морщинами лик какого-то седого мужика. Другой еще страшнее – голова в золотом Шеломе Бисмарка, будто сам дух войны взирал на них. С него щерились две жуткие львиные пасти, Святополк с Валенродом рычали с неба на мандавошек, в ужасе разбегавшихся по кровавым полям.
Андрэ с Федором склонили головы над лицом погибшего друга. Их глаза скорбно молвили: «Спи спокойно, наш дорогой камрад. Ты был настоящим товарищем, сподвижником, другом. Мы отомстим за тебя!»
Какая-то несчастная мандавошка, которой мексиканец придавил ногу своим телом, жалобно пищала, пытаясь вырваться из-под него.
– Да… Пиздаускас на улице Баускас! Сколько подрамников расхуячил! Завтра Буян точно прибьет его! – произнес Федор. – Бери за ноги, перетащим Амиго в его мастерскую!
Когда они вернулись, Ингрид уже спала. Буян, свернувшись улиткой, по-прежнему сидел на стуле. Федор налил по рюмке, и они выпили еще. Ром был мерзкий, заходил рывками, норовя рикошетом вернуться обратно. Разговаривать уже не хотелось, к тому же сон пудовыми гирями пригибал голову к земле. Настало время объявить перемирие. Андрэ разделся и залез под одеяло к Ингрид. Есаул еще недолго потоптался по комнате, а затем, потушив свет, тоже прилег.
Четвертая ночь новой жизни снова выдалась тревожной. Вроде и выпил он много, а потому должен бы спать до утра, пока б жажда не призвала потянуться к стакану воды, но что-то не отпускало. Немытая уже несколько дней голова зудела, и Андрэ постоянно хотелось крутануть Шелом, чтобы ее почесать. Матрас был узкий, и лежавшая рядом Ингрид, как горячая батарея, обжигала его. Андрэ просыпался, ворочался, опять засыпал.
Под утро он обнаружил себя на каком-то дворе. По окружавшим его со всех сторон невысоким домам с покатыми черепичными крышами предположил, что находится где-то на юге Европы. Светало, но остатки ночи продолжали цепляться за листья лозы, плотно обвивавшей стены. По центру двора стояло раскидистое ореховое дерево. Оно было такое высокое, что его верхушка растворялась где-то в белесом молоке предутреннего тумана. Под деревом широким охристым ковром лежали грецкие орехи.
«Как странно. Не думал, что грецкие орехи растут на таких высоких деревьях!» – Андрэ поднял два. Зажал в ладонях. Расколол. Попробовал. Мякоть показалась сладкой. – «Как хорошо! Как спокойно! Как легко дышать этим предрассветным, влажным, с капельками ночи воздухом!»
Андрэ подошел к дереву ближе. Под ногами мягко захрустели орехи. Присмотревшись, он обнаружил, что ствол дерева тоже сплошь увит зеленой лозой. Она поднималась от самой земли и, карабкаясь вверх, переходила на ветки. Листьев на них почти не было, поэтому орешник с обвивавшей его лозой казался большой вязаной перчаткой, растопырившей к небу множество зеленых пальцев.
«Как интересно! Еще осень, а орешник уже надел варежки!» – Андрэ поднял голову и посмотрел на кончики веток. Не шелохнувшись, они уходили в белесое тело тумана. – «Как тихо! Все словно замерло».
Где-то высоко в тумане висела крохотная, еле заметная точка. Андрэ присмотрелся. Ему вдруг показалось, что точка вздрогнула, переместилась и чуть-чуть увеличилась. Что-то неприятно кольнуло в груди. Он отошел в сторону, но точка двинулась за ним. Андрэ напрягся. Он увидел, что точка начала приближаться к нему. Вскоре послышался легкий свистящий звук. Беспокойство охватило Андрэ. Теперь было уже очевидно – нечто с возрастающим свистом падало с неба.
В панике он побежал по двору. Попробовал где-то укрыться, но вокруг были лишь глухие, увитые плющом, мохнатые стены. Поняв, что это ловушка, Андрэ кинулся к дереву и начал, спотыкаясь, метаться вокруг него. Грецкие орехи с хрустом рассыпались под ногами. Вдруг он почувствовал, что уходит под землю – ноги вязли в орехах. Вскоре он понял, что уже не может бежать – грецкая трясина засасывала его все глубже и глубже, он погружался, с хрустом тонул. Его тело уже по пояс ушло в сладкое ореховое болото и продолжало опускаться все ниже и ниже.
«Это конец!» – мелькнуло в голове, когда он уже по грудь утопал в грецкой трясине. Когда же орехи подступили к самому горлу, Андрэ обреченно поднял голову к небу и с ужасом посмотрел на приближающийся предмет. Тот стремительно падал вниз! Еще немного и он должен выскочить из тумана! Свист, неприятный режущий свист, летел прямо к его голове! Еще секунда! Две! И…
– А-а-а-а-а-а-а-а!!! Блядь! – из тумана выскочил красный сапог, который, еще миг, должен был хрястнуть его по роже, но…
– Тьфу ты! Черт! – не успел. Андрэ подскочил на матрасе. Оглядевшись, облегченно вздохнул. Рядом спокойно спала Ингрид. Где-то в углу похрапывал есаул. Буян уже куда-то исчез со стула. Рассеянный предутренний свет проникал в окно и мягким синеватым облаком стелился вокруг стола по деревянному полу мастерской.
Он повернулся на бок. Полежав немного, понял, что не может уснуть. В голове крутились неприятные мысли. Они тоже, словно ворочаясь с боку на бок, из-под колючих шерстяных одеял вполголоса, с хрипотцой терзали его.
– Получил! Да, да, это теща прислала тебе привет из Могилева! Она не простит тебе сапог! Ладно бы ты их просто пропил! Но ты водрузил на голову войну и шествуешь в ней на восток, крыжачок хренов!
– А знаешь, как переводится «крыжачок»? Крыжак по-белорусски – крестоносец, а чок, сам знаешь, от какого слова. Так что теперь ты чокнутый крестоносец. И идешь теми дорогами, которыми всегда шла война восток. Только ты знаешь, чем эти походы заканчивались. Недаром Могилев Могилевом называется. У тех тоже львы на шеломах резвились. Только где теперь эти львы? В Могилеве! Так что не ты им войну объявил! Это они теперь тебе объявят войну. Думаешь, Мария Прокопьевна снесет позор? Она – проректор университета, уважаемый номенклатурный человек. А ее зять ходит по городу в прусском Шеломе? Да она тебя вместе со львами в Могилеве и закопает!
– Ерунда! Теща и так тебя всегда по самые грецкие орехи каблуками в землю вгоняла. Так что вернешься ты домой с войной или с миром – ничего не изменится. С военным каблуком на голове даже лучше. Наконец-то достойный ответ за все скотство!
– А за что ей тебя любить? Ты же поломал жизнь ее единственной дочери!
– Поломал жизнь? Да каждый сам свою жизнь ломает! Искать виноватых значит снова кричать, что жиды в кранах всю воду выпили, а в говне мы из-за масонов сидим! Меньше Светке надо было пялиться в телевизор! А то насмотрится на телерай, на сладкую жизнь – и подавай ей такую же. А нет никакой сладкой жизни! Есть только процесс разложения материи. Там где недавно были прекрасные ножки – вырастают целлюлитные груши!
– Да Светка просто могла выйти замуж за нормального человека. Вот Кузьмич, что сватался к ней, уже банкиром стал. А Вася? Какой коттедж под Могилевом отгрохал! Ты же, голодранец, ни машину купить, ни квартиру построить не можешь. Детей настрогал, а свозить их летом к морю денег нет. А ведь тебе еще в самом начале Марья Прокопьевна говорила: «Андрюша, искусство – это занятие для полоумных! Устройся на нормальную работу. Поставь палатку на остановке, торгуй чем-нибудь. Я тебе и деньгами, и связями помогу». Ты ж вместо этого медведиков из соломы лепил. Картинки нелепые рисовал, как два пьяных пионера в красных галстуках на школьном дворике вгоняют вилки в жопы друг другу.
– Да уж лучше вилки пионерам в жопы вгонять, чем всю жизнь на остановке пивом и сигаретами торговать!
– Тупое, безответственное заявление! За такие мысли надо в Сибирь! На Беломорканал ссылать!
– На себя посмотри, сама на «Беломоре» сидишь! Из дури всякие иллюзорные смыслы выдуриваешь!
– Дура! На чем хочу, на том и сижу! А ты постоянно бухая ходишь! Самая кривая извилина в его голове!
– В конце концов, Светка видела, за кого замуж выходила!
– Так ты ж ей обещал, что станешь великим художником – денег будет немерено. А вместо этого каждый раз говоришь ей: «Потерпи еще немного. Этот год будет тяжелым, но в следующем все наладится». И так уже пятнадцать лет! А теперь еще припрешься к ней с этими драными котами на голове! Смотри, какие морды ехидные. Пасти раззявили. Того и гляди, сожрут эту бедную рыбу на блюде!
– Сама пасть заткни, кривоногая! – прорычал Святополк и поймал на себе одобрительный взгляд Валенрода.
Не выдержав разброда мыслей, Андрэ встал, подошел к столу и налил полстакана вина из недопитого накануне пакета.
Предрассветный белесый туман в проеме окна понемногу принимал очертания крыш и пошарпанных стен, что стояли на другой стороне большого двора, прилегавшего к Тахелесу. В комнате было тихо. Лишь легкое похрапывание есаула нарушало безмолвие этого утра. Голова зудела и чесалась. Казалось, что мысли высунули свои колючие шерстяные одеяла наружу, и теперь они, сбившись в кучу, топорщились у него под Шеломом.
Андрэ подумал, что в принципе и Марья Прокопьевна, и жена его Света, и он – каждый по-своему прав. Просто неуютно им вместе, вот и мучают друг друга. «Впрочем, – заключил он, – какое теперь это имеет значение? В новой жизни все равно их не будет». Приоткрыв окно, Андрэ сделал глоток влажного берлинского утра и отправился под одеяло к Ингрид.
Он проснулся, когда день перевалил далеко за полдень. Ингрид рядом уже не было. Окинув мастерскую взглядом, он обнаружил Буяна, который, с угрюмым выраженьем лица сидя за столом, потягивал пиво из банки. День за окном являл собой полную противоположность его мрачному настроению. Он переливался оттенками желтого кадмия, весело шумел улицей, давал всем видом понять – тот, кто не оценит его ликования, – конченый меланхолик и мизантроп, которому незачем понапрасну дышать этим свежайшим, с привкусом паровозной гари и кофе, берлинским воздухом. Даже погибшие мандавошки в солнце этого дня выглядели умиротворенно. Пронзительно голубое небо, как на полотнах Буяна, провожало их в последний путь фейерверками чистейшей берлинской лазури.
– Какая гнида это сделала? Нажрались и валялись на моих картинах! – буркнул Буян, кивнув в сторону раздавленного мексиканцем спортивного праздника.
– Лучше б спасибо сказал. Знаешь, сколько Федор мандавошек вынес из-под обстрела. А картины у тебя еще свежие – так что, пока он по-пластунски ползал, у него все брюхо розовым стало.
В это время за дверью раздались шаги, и в комнату вошел радостный Федор.
– Вот! Придумал! – с этими словами он поставил перед Андрэ старую тележку на деревянных колесах.
– Что это? – задал Андрэ бессмысленный вопрос, переглянувшись с Буяном.
– Сейчас проясню! Анд рюха, это гениально! Сегодня я встал и как обычно отправился сделать шпацырэн вокруг Тахелеса. Знаешь, я люблю по утрам покопаться в кучах хлама, что лежат у нас во дворе. Иногда там можно найти что-нибудь интересное для работы. Пиздюлину с краником для инсталляции, куклу, старый подрамник. А сегодня иду – лежит эта тележка! Я посмотрел на нее, и вдруг: ба! Меня как осенило!
– Ну, и..?
– Что, «ну и»? Понимаешь, пока я гулял, у меня вопрос в голове крутился – где денег раздобыть? А тут, как увидел, сразу понял – так вот же оно!
– Что оно?
– Да как ты не догоняешь! Во, смотри! – Он пролез к книжной полке, порылся там и вытащил засаленный альбом репродукций Отто Дикса. Надо сказать, Отто Дикс был одним из любимейших художников Федора. Он часами мог листать альбом старины Отто, рассматривая картины, на которых калеки всех мастей – с руками и без них, одноногие и совсем безногие, одноглазые, безглазые, с забинтованными головами, на костылях, в мундирах, фуражках, шеломах, – шествовали, шли, ковыляли, катились в тележках по улицам Берлина.
– Вот глянь! – Федор полистал альбом, нашел нужную картинку и радостно ткнул в нее зеленым от краски пальцем.
На картине был изображен солдат Первой мировой войны. Ног у него не имелось. Вместо них к обрубку туловища была приделана деревянная тележка вроде той, что притащил он с помойки. Одной руки также не было. Ее заменяла доска с нарисованными на ней пружинками. Надо ли говорить, что у солдата отсутствовал и один глаз. На его месте красовалась черная пиратская повязка. Про такие мелочи, как зубы и челюсти, можно было даже не вспоминать. Но самое главное – голову человека-обрубка венчал точно такой же, с устремленным к небесам шпилем, Шелом, какой был сейчас на Андрэ. Калека на картине гордо и злобно, отталкиваясь от земли костылем, катился по берлинской улице, прося милостыню у шарахающихся от него, как от прокаженного, прохожих.
– Ну что, теперь ферштеен? – Федор торжествующе посмотрел на Андрэ.
– Гм, мда-а-а… ужасное зрелище.
– Вот именно. Это просто класс! Главное, у нас есть шлем и тележка! Осталось присобачить деревянную руку и добавить немного антуража.
– Зубы я могу выбить. Будем в расчете за вчерашнее! Ха-ха-ха! – вставил свой пятачок Буян.
– Иди к черту!
– Ну! Теперь кумекаешь? Ведь это просто гениально!
– А-а-анн, нда-а, – оптимизм Федора никак не хотел передаваться Андрэ. Внутри что-то бунтовало, сопротивлялось этой идее. Хоть он иногда и ощущал себя нищим, но мысль просить милостыню, тем более на улицах Берлина, ему в голову никогда не приходила. К тому же начинать новую жизнь в Шеломе с роли попрошайки казалось ему глумлением над самой ее сутью.
– Знаешь, Федор, это очень заманчивое предложение, но его надо хорошо обдумать, – дипломатично ответил Андрэ.
– Что тут думать! Это же настоящий театр! Такого еще не было! У всех этих берлинских попрошаек фантазии не хватит такое придумать. Максимум, что могут, – обмазать себя серебряной краской и изображать Моцарта или Пьеро. А тут, представь себе, настоящий человек-обрубок! Солдат Первой мировой! В пикельхаубэ, возле Брандербургских ворот! Да это ж супер!
– Да, да, мне эта идея тоже нравится, – добавил Буян, до которого наконец-то докатился размах фантазии Федора.
– Ты, Андрюха, посмотри на этот гешефт с другой стороны. Это не попрошайничество. Это шпиль, театр, перформанс. А ты как артист должен получать за выступление гонорар.
Андрэ нехотя начинал свыкаться с мыслью, что ему придется стать примой-балериной в этом странном спектакле.
Сама идея ему в принципе нравилась. В некотором смысле она была действительно гениальна. Его не устраивала лишь отведенная ему главная роль.
«С другой стороны, – подумал Андрэ, – просто так, тупо сидеть и просить милостыню на улице – это пошло, еще пошлее, чем торговать пивом и сигаретами на автобусной остановке. Но если ты человек-обрубок, солдат, проливавший за кайзера кровь, инвалид, который положил жизнь на то, чтобы этот пошлый мелкобуржуазный мир, прогуливаясь по улицам Берлина, спокойно жрал эскимо да имел право шарахаться от тебя, как от чумного, потому что они все нормальные, а ты – прокаженный! Если ты солдат армии искусства, и твоя война не закончится никогда. Потому что противник и есть этот пошлый недостоверный мир, который приходит из пустоты и пытается тебя подчинить, причесать, прилизать, огламурить, снять с головы твой мир, твой Шелом, препарировать его, запаковать в красивую обертку и поставить на полочку для продажи, то ты не просишь у него подаяния, а как тот солдат с картины Отто Дикса, гордо требуешь свое! Ты хочешь, чтобы этот мир признал бессилие перед тобой, свое поражение. А чтобы спастись, иметь шанс остаться в розовом ванильном желе, он должен заплатить контрибуцию, задобрить дарами, наложницами, золотыми слитками, уступить территории!»
Андрэ посмотрел в глаза Федору, перевел взгляд на Буяна. Те молча взирали на него с видом заговорщиков, которые, только что предложив ему присоединится к путчу, ждали ответа. Выдержав паузу, Андрэ выдохнул и произнес:
– Ладно! Черт с вами! Поехали! Первое выступление назначаем на завтра! Только назовем это действо балетом!
– Ес!!!
– Итак! Гастроли балетной труппы «Белорусские сезоны» в Берлине объявляю открытыми! Федор, развесьте по городу афиши! Первое представление состоится завтра на Александерплац. Будет показан одноактный балет под названием «Одинокая песнь Сверхчеловека»!
Когда вечером Ингрид вернулась в Тахелес, она застала новоиспеченную балетную труппу за странным занятием. Андрэ сидел у стола с широко, как будто на приеме у стоматолога, раскрытым ртом, а Федор, скрючившись перед ним, пытался кисточкой закрасить ему черной краской несколько передних зубов. Правый глаз Андрэ закрывала повязка, и вообще вид он имел такой, словно за время ее отсутствия голова его столкнулась с тяжелым артиллерийским ядром.
Федор, как настоящий художник, время от времени подавался назад, прищуривая правый глаз, любовался своим произведением и довольный приговаривал:
– Неплохо, неплохо! Получается даже лучше, чем я ожидал!
Буян тем временем прикручивал к левой руке Андрэ какую-то дурацкую, изрисованную непонятными знаками деревянную доску.
Поинтересовавшись, что все это значит, Ингрид услышала в ответ, что они готовятся к представлению, в котором она также должна принять участие. Так как труппа у них небольшая и лишних людей нет, то ей досталась хоть эпизодическая, но важная и ответственная роль – время от времени забирать у Андрэ выручку и отдавать ее Федору, а потом быть неподалеку на стреме. Федор же как режиссер-постановщик и главный балетмейстер возьмет на себя контакты с прессой, театральными импрессарио, полицией, мафией, а также разборки с конкурирующими труппами.
Когда зубной макияж был закончен, коллеги усадили приму на тележку и завизжали, защебетали, а кое-кто даже захрюкал от удовольствия.
– Вот это да! Да это ж круче, чем у Дикса! – кричал восторженный Федор.
– Да, такому ужасу даже я дал бы полцента!
Андрэ выглядел очень убедительно. Наличие ног прикрывал длинный кожаный плащ. Вместо передних зубов зияли черные дыры, поэтому, когда он улыбался, его вид становился особо зловещим. Буян, проявив недюжинную фантазию, прикрутил к культяпке шарнирной руки здоровенную ржавую пружину, которая торчала просто из деревянного плеча Андрэ. Кроме того, он присобачил к протезу колокольчики, крючки и задвижки, поэтому, когда человек в Шеломе шевелил рукой, она скрежетала и звенела, как старая рухлядь.







