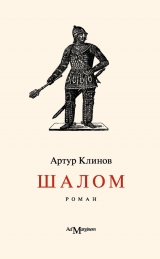
Текст книги "Шалом"
Автор книги: Артур Клинов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Андрэ ворочался с боку на бок, пытаясь найти удобную позу. Но Шелом все равно все время во что-то упирался.
Потом он оказался на Васильевском острове, на пьяном углу недалеко от второй линии. Отдал червонец чернявому пацану.
– Две сухого, если будет – красного, – сказал он и стал ждать.
Рядом в темноте вертелась какая-то мелкая старуха и клянчила деньги. Андрэ дал ей пятьдесят копеек. Подъехало такси. Из него вышли две девицы – по виду бляди. Зарядили две водки.– Счас сделаю, – ответил гонец и скрылся в черноте подворотни. Вскоре вернулся, отдал девицам бутылки. Те прыгнули в такси и укатили.
Минут через пять появился его пацан, отвел Андрэ в сторону.
– На, держи, – он оглянулся по сторонам и достал из-за пазухи валенок.
– Почему один?
– Кончились валенки, – сказал пацан, возвращая назад пять рублей. – Пойдешь по этому адресу, скажешь – от Севы, – он протянул сложенный клочок бумаги. – Там должны быть. Это тут, рядом. Сейчас выйдешь на Средний, повернешь налево, дойдешь до Четвертой, там направо и вторая подворотня налево.
Андрэ сразу нашел нужную подворотню. Остановился под тусклым фонарем прочитать номер квартиры. В подворотне было темно, сыро и воняло котами. Он отыскал подъезд и начал подниматься по крутой и узкой черной лестнице. Дойдя до третьего этажа, остановился: «Должно быть, здесь». Порывшись в карманах, нашел зажигалку. Слабый огонек осветил маленький кусочек старой щербатой двери. Андрэ повел рукой вверх и наткнулся на номер. «Двадцать пять. Да, это здесь!» Позвонил.
Открыли не сразу. Спустя какое-то время за дверью послышался шорох. Кто-то с той стороны снял дверную цепочку. Щелкнул замок. При слабом огоньке зажигалки Андрэ тотчас узнал того самого косматого мужика с наглыми глазами из бара. Правда, теперь на нем была черная хасидская шляпа, из-под которой свисали длинные с проседью пейсы. Похоже, мужик тоже узнал его. Во всяком случае, он сразу сказал: «Шалом! Проходи!» – и повел по длинному и темному коридору, освещенному одной лишь тусклой лампочкой, мимо каких-то закрытых дверей. Дойдя до одной из них, жестом пригласил войти.
– Мне нужен еще один валенок, – сказал Андрэ, протягивая мужику скомканную пятерку.
– Подожди здесь, – произнес тот и скрылся за тяжелой портьерой, отделявшей боковую комнату.
Андрэ осмотрелся по сторонам. Комната была довольно большая и двумя высокими окнами выходила на улицу. С потолка свисала массивная бронзовая люстра. Пространство вдоль стен занимали старые деревянные шкафы. Шкафов было так много, что стояли они один на другом и даже по центру комнаты, поэтому в целом она казалась тесной. Точно посередине под люстрой находился большой круглый стол, рядом – металлическая кровать с панцирной сеткой. На кровати сидела старуха, та, которой он дал пятьдесят копеек, и ела кефир, черпая его ложкой из пол-литровой банки. Она ела медленно и размеренно, не обращая на Андрэ никакого внимания, как будто здесь его не было. Он принялся следить за движениями старухи. В их точном ритме заключалась странная гипнотическая сила, словно маятник больших часов отсчитывал время – тик-так, тик-так, тик-так.
– Лицом к стене! Руки на затылок! – неожиданно, негромко, но отчетливо раздалось у него за спиной.
Андрэ почувствовал, как что-то твердое и небольшое уперлось ему в спину. Он медленно поднял руки и повернулся. Чья-то невидимая рука толкнула его вперед так, что он уткнулся головой в большой шкаф. Деревянная, покрытая коричневой краской поверхность была теперь совсем близко. Он видел ее шершавость, небольшие трещинки и выемки облупившейся краски. Андрэ ощутил приятное щекотание войлока на своей шее. Это был тот самый валенок, который он купил у пацана и все это время держал в руках.
– Снимай Шелом! – произнес за спиной некто неизвестный.
«Надо бежать!» – в смятении подумал Андрэ и с силой, насколько позволяло неудобство его положения, запустил валенком в направлении незнакомца. Сам же он попробовал развернуться и броситься к двери, но… Черт возьми! Голова его застряла в шкафу! Она уткнулась в него шпилем Шелома, который держал ее, словно прибив к шкафу гвоздем. Андрэ попытался вырваться, ухватился за Шелом руками и дернул на себя, но тот будто намертво прирос к дверке. Он с ужасом понял, что даже не может повернуться и увидеть того, кто находился за спиной. Тем временем неизвестный принялся лупить его валенком, а затем вцепился в шею и со всей силой потянул на себя…
– Черт возьми! Надо ж такому присниться! – вскрикнул Андрэ, открыв глаза и обнаружив себя лежащим в комнате на кровати.
Он попробовал повернуться на другой бок, но понял, что не может этого сделать – Шелом, уткнувшись в выемку кровати, застрял там. Выдернув его, Андрэ приподнялся и отодвинул подушку от спинки. Правда, теперь упирались ноги. Тогда он встал и, скинув на пол матрац, улегся рядом с кроватью.
Остаток ночи Андрэ провел уже не на Васильевском острове. Ему еще что-то снилось, но что именно, он не запомнил.
Утро первого дня новой жизни выдалось теплым и солнечным. Андрэ проснулся немного разбитым, но в целом настроение было хорошее. Ему припомнились Питер и Васильевский остров, где он подолгу жил в молодости, ночуя в мастерской у приятеля, в подвале на Съездовской линии. Видимо, не случайно именно сегодня он приснился ему.
Васильевский вставал рано, и уже под утро сквозь сон Андрэ ощущал его пробуждение. За небольшими полукруглыми окнами подвала начинали грохотать пустыми вагонами трамваи, которые всегда просыпались раньше других. Потом через полуоткрытую форточку до него долетал стук каблуков спешивших к утренней смене прохожих, которые, двигаясь по тротуару, отбрасывали тени ног на тюлевые занавески мастерской. Затем пространство за окнами наполнялось шелестом шин, визгом тормозных колодок, криками клаксонов, голосами, смехами, кашлями, матюгами. Андрэ вставал и немного всклокоченный выходил на улицу, чтобы сделать первый глубокий глоток нового дня. Светило солнце, небо было высоким и бесконечно голубым. Улица упиралась в Тучков мост, который, вдалеке приподнимаясь над ней, казалось, уходил в небо, в чудесное чистое небо его будущей жизни, что простирала к нему свои загадочные объятия.
Приятное радостное предвкушение разлилось по всему телу Андрэ. «Однако, пора!» – сказал он и отправился в ванную. Сомнения больше не мучили его. Приняв душ, не снимая Шелома, он насухо вытер его и снова посмотрел в зеркало.
Львы на кокарде были абсолютно идентичны, будто каждый являл собой симметричную копию другого. Андрэ даже подумалось, что лев на самом деле один, а в лапах он держит не щит, а зеркало, в котором видит свое отражение. Правда, рыба по центру ломала симметрию. Ее следовало бы расположить вертикально, что было бы символично: словно она ускользает, как смысл, и через золотой шпиль уходит в пустоту.
Посмотрев еще раз на свое отражение, Андрэ решил, что все же это Шелом не солдата, а генерала. Иначе зачем в окопе нужна такая игрушка, которая блестит за сто верст, да так и просится в бинокль какому-нибудь придурку из противоположного окопа.
Он представил на мгновение, как некий неизвестный придурок вроде того, который душил его ночью, долго смотрит на него в перископ, а затем громко командует:
– Батарея! Гаубицу заряжай! Пли!!!
И уже огромный снаряд размером с ведро приближается в темноте к его голове с той стороны зеркала.
– Нет! – прервал его полет Андрэ. – Такой Шелом необходим для парада, чтобы приветствовать армию на белом коне!
Наскоро перекусив, он пересчитал оставшиеся деньги – пятнадцать евро и мелочь. Затем взял рюкзак и прикинул, что можно оставить здесь, чтобы не обременять путешествие лишним грузом. В первую очередь он отложил в сторону тяжелые каталоги, которые надарили ему солдаты искусства за время пленэра. С легкой грустью пролистав, бросил туда же и альбом Франки.– После них хоть каталоги останутся, после нас даже этого не будет, – философски произнес Андрэ и решительно выкинул все, что посчитал ненужным ему в новой жизни. Присев на дорожку, он выждал мгновение и, промолвив: «С Богом!» – вышел на улицу.
Егермайстер
Бонн провожал Андрэ в путешествие к новой жизни солнечным утром. Воскресные улицы были пустынны, поэтому никто не видел, как странный человек в золотом прусском шлеме с рюкзаком за спиной бодро шествовал в направлении предместий.
– Бывай, Бонн! Бывай, батюшка-Рейн! – посылал Андрэ мысленное приветствие этому дню, первому дню его новой жизни.
Идти было легко и весело. Радость переполняла его, смешивалась с прохладным воздухом осени и проникала в легкие забытым ощущением юности. Тем, когда тайна жизни бежала впереди, исчезала за поворотом, горизонтом, углом, манила в неизведанное путешествие. С этим чувством Андрэ вышел на окраину города. Он начал подавать знаки изредка проезжавшим машинам, но те, не останавливаясь, пролетали мимо. Прошло более часа. Наконец, притормозил белый «Пежо». Боковое стекло опустилось, и из салона выглянули два любопытных глаза.
– Тебе куда?
– Мне нужно в Берлин.
– Могу только до Хамма. Это полпути до Ганновера.
– OK! Все ближе к востоку!
Андрэ попробовал устроится на переднем сиденье, но неожиданно столкнулся с проблемой. В Шеломе он не помещался в салоне автомобиля – вернее, не мог сесть как обычный пассажир. Шелом упирался в крышу, поэтому голову надо было либо положить водителю на плечо, либо высунуть кончик шпиля в окно.
– Ты не мог бы его снять? – с легкой досадой спросил молодой парень за рулем.
– Нет, не могу!
– Ты что, панк? – В голосе хозяина авто появилась нотка сожаления.
– Нет, я художник!
– А-а-а… Художник! Ладно, ложись! – Парень откинул сиденье, и, полууложив странного попутчика, тронулся в путь.
Андрэ принялся забавлять водителя рассказами о себе: кто он, откуда, как оказался в Бонне. Он поведал, что в него вселился дух прусского воина и теперь он должен отправиться на восток и вернуть на Землю обетованную его бедный, заблудившийся в столетиях народ. Что он дал клятву никогда, пока не увидит свое болотное племя радостным и свободным на берегах батюшки-Рейна, не снимать Шелом с головы. Правда, миссия эта весьма непростая. Существует его антипод в шлеме воина-освободителя, который желает заманить их людей на берега матушки-Волги. И, собственно, на поединок, от которого зависит будущее его народа, он сейчас отправляется.
Когда Андрэ многозначительно замолк, давая понять, что историй больше не будет, водитель недоверчиво посмотрел на него и включил музыку громче.
– Коктейли, картели, нефтяные бордели, бемс, бемс, бемс, – долетал из радиоприемника антиглобалистский рэп.
«Странно, – подумал Андрэ, – раньше слово «художник» я произносил с гордостью. А теперь – с легкой неловкостью, будто занимаюсь чем-то неприличным».
В детстве, как и все мальчишки, он мечтал стать летчиком. И возможно, его жизнь сложилась бы иначе, если б не появился дядя Ваня – близкий друг матери, местный авангардист. Иван Пантелеевич был человек выдающийся и в отличие от большинства могилевских художников, предпочитавших всем цветам серый, вел серьезный эксперимент в искусстве: составлял серый из множества оттенков. Приблизившись вплотную к его картине, зритель приходил в восхищение: каждый сантиметр полотна вбирал в себя бесконечную гамму оттенков. Но стоило отойти метра на три, как холст становился безукоризненно серым.
Дядя Ваня казался Андрэ если не богом, то уж точно служителем, жрецом некой божественной силы. Сам его образ напоминал Создателя с церковных икон: длинные волосы, борода и, конечно, нимб. Нимб, правда, был слегка поношен, сделан из мягкого велюра, местами в пятнах от краски и вина, но он гордо возносился над головой Ивана Пантелеевича благородным черным беретом.
Решив, что тоже будет авангардистом и посвятит жизнь извлечению серого из многоцветия мира, Андрэ принялся усердно посещать занятия, которые вел дядя Ваня в студии Дворца культуры местного шпалоукладочного комбината. Возможно, ему суждено было стать поэтом бесцветных Могилевских туманов, но вдруг, когда он немного возмужал, откуда ни возьмись, возник Зильдерман. Он определил творчество Ивана Пантелеевича как серую плесень, болотный импрессионизм, сказал, что нет в городе другого авангардиста, кроме него, и принялся посвящать Андрэ в манифесты супрематистов, нумизматокубистов, синхророялистов, гипертрадиционалистов, сукапередвижных мануалистов, а потом взял да повез в Петербург.
Поводив неофита по питерским мастерским, потаскав по сайгонам и прочим важным местам, Зильдерман научил его пить вино, красиво сплевывая, скручивать «Беломор» да с особым шиком повязывать длинный шарф. Вернулся Андрэ в Могилев уже бескомпромиссным авангардистом. Пути к отступлению были отрезаны. Оставалось одно – начинать свой поиск в искусстве. Он распрощался с болотным импрессионизмом и придумал название для собственного стиля – некроромантический турбоабстракционизм.
Андрэ принялся экспериментировать с материалами, попробовал себя в скульптуре, создал первую в Могилеве инсталляцию из пустых вино-водочных ящиков. Потом было художественное училище в Минске, неудачная попытка поступить в институт, мучительный поиск себя, запои, белый билет, налеты на Питер, разрыв с Зильдерманом и, наконец, первые выставки настоящих авангардистов.
В то время Андрэ сожалел, что родился в Могилеве, а не в расположенном за двести километров от него Витебске. Этот город считался настоящей столицей революционного искусства. Там работал гуру и пророк каждого настоящего авангардиста Казимир Малевич, там родился УНОВИС, там жил Марк Шагал. Могилев же казался провинциальной дырой, не давшей миру ни одного великого революционера в искусстве.
Даже Минску повезло больше – недалеко от него родился Хаим Сутин. Под Брестом находилось родовое гнездо Федора Михайловича – величайшего для Андрэ авторитета в литературе всех времен и народов. С могилевских земель если кто и происходил из настоящих авангардистов, то только Отто Юльевич Шмидт да самозванец Лжедмитрий Второй. Но и тот, в отличие от Лжедмитрия Первого, оказался гребаным лузером, так как его попытка захватить Москву окончилась неудачей.
Несколько раз Андрэ предпринимал попытки перебраться в Петербург. Со своим турбоабстрактным некро-романтизмом он был в Могилеве мало кому интересен. Но зависнуть в Питере также не удавалось. Идейные противники – некрореалисты экспрессионистского толка – его не принимали, «дикие» считали манерным, «митьки» – декадентским. Поэтому, проболтавшись по сквотам, попив водки с поэтами в «Сайгоне» или через дорогу, в ресторане Союза театральных деятелей, Андрэ вновь возвращался домой. Единственный, кто его похвалил, был Человек-собака, который, как-то ненадолго пожаловав в Могилев, лизнул его в ухо и назвал настоящим художником. Правда, Собака обитал в Москве, а Андрэ ее не любил, но с тех пор Человек-собака стал для него первейшим авторитетом в современном искусстве.
К концу восьмидесятых, когда приоткрылись границы, его начали приглашать с выставками в Европу. Для Андрэ настало золотое время. Он вдруг стал интересен. Повсюду закипали революции, художники из «совка» были всем любопытны, картины, даже провинциальные «измы», пусть и стоили не дорого, но шли нарасхват. Казалось, вот она – новая, пьянящая перспективами жизнь. Жизнь, где все давалось легко, весело, просто, в которой даже запои были не угрюмы, а легки, словно весенние карнавалы. Карнавалы… Карнавалы… Кар… на… валы…
Под тихое урчание автобана Андрэ начал погружаться в сладкую полудрему. Из отдаленных коридорчиков сознания до него доносились обрывки антиглобалистского рэпа. Дорога убаюкивала шепотом шин, гуденьем моторов больших «тиров», глухим посвистываньем «мерседесов» и «бэ-эмвушек», которые на большой скорости неслись на восток.
«Да, к черту искусство… прав был Зильдерман, вовремя свалил… теперь на Брайтоне дисками торгует… а дядя Ваня по-прежнему… идиот… к черту береты… к черту нимбы… Шелом… ше-лом… ше-елллл-ооомм…»
– Эй! Просыпайся! Приехали! Скоро мой поворот.
Оказавшись снова на трассе, Андрэ спросонья растерянно посмотрел по сторонам. Он попытался еще кого-нибудь притормозить, но машины, не останавливаясь, пролетали мимо. Вскоре он добрел до большого щита с названиями населенных пунктов. Взглянув на карту, он отметил, что проехали они все же немало. За спиной был Цукервафель, Дёнермитзельц, Абендкапут, Хамм. Где-то впереди уже маячил Нахреннахостен. До Ганновера оставалось не более ста километров.
Андрэ решил сойти с автобана для небольшого привала и, свернув на не большую сельскую дорогу, направился в тишину наступающих сумерек.
«Да, прав Человек-собака, – подумал Андрэ, – художник нынче, как пес бездомный, по дорогам войны шляется, лазит по задворкам цивилизации, смотрит жалостливыми глазенками на идущую куда-то колонну человечества, ждет, чтобы кто-нибудь приютил или косточку бросил. А каждый Собака-человек его обидеть норовит, палкой замахнуться и побольней ударить… Стемнеет скоро.
А ведь когда-то художник во главе всей колонны шел, был словно Анубис у древних египтян – Бог с головой собаки. Каждый, кто перед смертью для вечности запечатлеть себя хотел, к нему приходил. Только он таинством отображения владел. Как выглядит Бог, черт, рай, ад, только он мог человеку показать. А теперь техника все за него делает. Идет человечество по дорогам войны, а за ним в обозе компьютеры, станки, фотокамеры. Захотел перед смертью запечатлеться, забежал в фургон – щелк, щелк, три на четыре без уголка, с вас три бакса. А художнику всего-то и осталось – декоративные пятнышки рисовать.
Вот бежит он за колонной и жалостливо скулит: "Дама, дамочка! Купите картинку, недорого. Она вам блиндаж украсит!” А та в ответ: "На хуй мне в блиндаже твоя картина нужна! Я лучше в ГУМе репродукцию куплю!”
Правда, кое-кто из декоративных пород очень даже сытно в тепле живет и пайку регулярно получает. Конечно, если всякий гламур искусством считать, то не все так уж и плохо. А некоторые пятнышки даже больших денег стоят. Вот "Мальчика с трубкой” Пикассо недавно за 104 миллиона баксов какой-то кот толстопузый купил!
А, ладно… Чушь это все! Был полубогом, а стал собачкой декоративной! А тем, кто не согласен, только и остается, что в ногу кому-нибудь вцепиться. Ну, хоть бы вон тому прохожему».
Дорога все дальше уходила в глубину вечера. Вскоре Андрэ набрел на большое поле с тюками свежесжатой соломы. Соорудив себе лежанку для ночлега, он достал из рюкзака скромные припасы. Перекусив, он растянулся на мягком золотом ложе и, раскинув руки, посмотрел в небо. Запах свежей соломы дурманил его ароматом из детства.
«Как мне сразу в голову не пришло! – неожиданно осенило Андрэ. – Вот где должен скрываться главнокомандующий в золотом Шеломе, чтобы не попасться в перископ придурку из вражеского окопа. Солома. Действительно, только она делает тебя невидимым, незаметным, неуязвимым. Да, штаб надо бы разместить именно в стогу соломы.
Эх, жаль, что сейчас нет революции, на которую можно отправиться. Поехать бы куда-нибудь в Мексику к Вилье и Сапатеро или стать соратником Гарибальди, а, может, Робеспьера. Интересно, если рубить голову гильотиной, не будет ли Шелом помехой? А вдруг она не покатится, как свежесрезанный качан капусты, а упадет вертикально да воткнется пикой в деревянный настил эшафота? Станет на помосте, словно десерт в изящной золотой вазе.
…Нет… лучше оказаться в семнадцатом в Питере, взять винные склады да пойти на штурм Зимнего… Эх, красивая была б картина – вместе с матросами залезть в прусском Шеломе на чугунные царские ворота с золотыми орлами…
…Большевикам это бы не понравилось. Сказали бы, что я кайзеровский лазутчик…
…можно на Шелом буденовку надеть… все равно они одной формы… и отправиться возводить новый мир для… болотных людей…
…да, штаб надо точно в стоге делать…
…да… жаль… единственную революцию сейчас чурбаны в паранджах совершают… фу, мерзость… отправят в преисподнюю очередную порцию невинных граждан и красуются в телевизоре… паскуды… поднялись на нефтедолларах… гребаный ОПЕК… и еще шантажируют… мол, добычу снизим…
… почему всякой сволочи все богатства мира достаются, а нам – только болота, березы да сосны… бемс, бемс… партизанские сестры… бемс, бемс… да болотная грязь…
… форму тоже желтую надо пошить… а то как же в стогу в зеленой… заметно будет…
… и погоны желтые… бемс, бемс…
… и сапоги… бемс, бемс… – крутились в голове Андрэ отзвуки анти-антиглобалистского рэпа.
…а эти… антиглобалисты… бемс, бемс… тоже придурки… бемс, бемс… только и умеют, что бить витрины… бемс, бемс… в войнушку… поиграются, а потом сядут… в… папины кресла… бемс, бемс, бемс…
…на-адо… вы-ы… зволять… бемс, бемс… бо-о-олот… ное… племя… бемс……пе-е-е… ри-и-ископ… то-о-оже… же-е-е-ел… ты-ы-ый… бе-е-емс…сссс…»
Под мысли о революции Андрэ незаметно заснул на роскошном соломенном ложе. Где-то вдали урчал автобан. Тысячи машин неслись по нему к большим желтым городам. За серым покровом туч, помигивая красными глазками, летели самолеты. Над ними проплывали спутники-шпи-оны, которые наблюдали за желтыми городами, автобанами и мигавшими самолетами. Где-то совсем высоко, над спутниками, пролетали кометы, начинались другие миры, рождались новые звезды. Еще выше над всеми зияли черные дыры, что пожирали кометы, звезды, иные миры с их автобанами, самолетами и городами. И пока Андрэ спал, тысячи машин продолжали нестись к большим городам, самолеты летели, спутники наблюдали, а желтая звезда по имени Солнце медленно поднималась из-за горизонта, возвращая всех в новый день.
Добравшись к вечеру до Ганновера, Андрэ вышел из машины недалеко от вокзала. Погода к тому времени совсем испортилась. С самого утра небо хмурилось, давая понять, что лето закончилось. Теперь же оно набрякло чем-то тяжелым и, уже не в силах выносить свою тяжесть, начало монотонно отдавать ее земле, зарядив долгий моросящий дождь. Решив, что выбираться на трассу с риском встретить ночь под дождем не стоит, Андрэ побрел в сторону монументального здания с надписью «Банхоф».
Как и любой большой вокзал, ганноверский «Банхоф» жил своей особенной жизнью, во многом не похожей на жизнь окружавших его кварталов. Благодаря положению поезда шли через город непрестанно, поэтому в отличие от вокзалов поменьше, где в ночное время все затихало, он шумел, встречал, провожал круглые сутки без остановки. В его огромных пространствах помещалось множество открытых допоздна полезных заведений – магазинов, кафе, киосков, имбисов, которые, как это часто бывает с большими вокзалами, манили к себе тех особых людей, которые вовсе не собирались никуда ехать. Просто кто-то из них давно променял день на ночь и просыпался, когда многие уже спали. Другие тоже бы спали, но им было негде. Для кого-то это была работа – по ночам обтяпывать на вокзале какие-то делишки. А иной просто скучал и хотел здесь повстречать человека, которому за бутылочкой «Корна» можно было бы поведать о своей скуке.
Войдя в здание вокзала, Андрэ сразу почувствовал на себе любопытные взгляды «особых» его обитателей. Люди, которые встречали, провожали или сами уезжали, тоже с интересом посматривали на него, но не более как на курьезный подвид панка. Сами же панки, попрошайки, выпивохи и нищие сразу определили в нем человека, который, как и они, находился здесь не в ожидании поезда, а пришел, чтобы скоротать время. Оценив размеры вокзала, Андрэ бесцельно побродил по нему и отправился к выходу покурить.
– Привет! Сигаретой не угостишь? – раздалось у него за спиной.
Обернувшись, он увидел молодую особу в черной проклепанной куртке с множеством пирсингов на лице. Хотя сейчас, когда сигареты заканчивались, а денег почти не осталось, подобные просьбы его раздражали, но он все же достал пачку и протянул сигарету.
– Добавь пятьдесят центов на пиво, – особа не уходила и явно намеревалась продолжить общение.
– Я бы сам стрельнул у кого-нибудь пятьдесят центов на пиво, – нехотя ответил Андрэ.
– Ты откуда? – поинтересовалась девица, поняв по акценту, что он не здешний.
– Из Беларуси.
– Где это? Русланд?
– Вайсрусланд!
– А-а-а! Лукашенко! – Поняла вдруг девица и с еще большим любопытством уставилась на Андрэ.
Он тоже внимательней взглянул на незнакомку. На вид ей можно было дать лет двадцать пять. Ее почти маскарадный прикид выдавал в ней человека взбалмошного, от которого можно ожидать любых сюрпризов. «Должно быть, порядочная стерва, находящая смысл в любом экстриме!» – подумал Андрэ, поднося незнакомке зажигалку.
– Куда же ты направляешься?
– Я еду в Могилев на пивной фестиваль. У вас в Баварии есть Октоуберфест, а у нас он тоже проходит осенью и называется Дажынки, или Большой праздник пива в Могиле. «А она ничего! – поймал себя на мысли Андрэ. – Может, и не красотка, но лицо выразительное, с характером. Такая умеет с полуоборота заводить мужиков. Если б смыть эту дурацкую, а-ля леди Макбет, черную тушь с глаз, то будет совсем ничего», – и вслух добавил:
– Хочешь, поехали со мной?
– Дожьинки, – забавно коверкая слово, повторила особа.
– Не дожьинки, а дажынки. Ж – твердое. «До жинки» – это по украински «к жене».
– Ха! Я ни разу не была на востоке! Один раз мы ездили в Познань, но дальше я не выбиралась.
– Тоже мне восток – Познань! Это почти то же самое, что съездить в Бонн!
Андрэ начал понемногу оживляться. Дремавший где-то далеко в глубине Андрейка, видимо, очнулся от субботнего перепоя и высунул свой заспанный лыч в этот дождливый ганноверский вечер.
– Ты должна увидеть настоящий восток! Съездить к нам – то же самое, что съездить в Индию! Ты знаешь, что Беларусь – это священная земля арийских богов? Во время оккупации гауляйтер Кубэ даже хотел Азгард возводить в наших болотах. Не успел, правда. Москва бомбу под матрас подложила. Кстати, как тебя зовут? Меня – Андрей, но здесь, в Германии, друзья называют Андрэ.
– Ингрид!
– Ингрид! Классное имя! Как у богини из древнегерманского мифа. Ну что, едешь?
– Ладно, поехали! У тебя есть чего-нибудь выпить на дорожку? – Ингрид усмехнулась с видом человека, который, конечно, ни в какую Могилу на праздник пива ехать не собирался, но потусоваться вечерок с этим чудаком в Шеломе был не против.
У Андрэ еще оставалось пятнадцать евро, которые надо было с умом растянуть до Берлина. «Но ведь бутылка “Егермайстера” в такой промозглый вечер будет очень кстати. Да, черт возьми! До Берлина каких-то двести пятьдесят километров. Если утром выехать, то после захода солнца я уже буду с хоббитами мозги парить граппой в Тахелесе», – решил он и тут же спросил:
– Ты знаешь поблизости недорогой гастроном типа «Лидла»?
Пока Андрэ нахваливал Ингрид достоинства Могилевского пивного фэста, за ними внимательно наблюдали несколько пар любопытных глаз. Когда же они двинулись в сторону ближайшего недорогого гастронома, некто, по-видимому, хорошо знакомый с Ингрид, окликнул ее и, поинтересовавшись, куда они направляются, осторожно спросил, не мог бы он к ним присоединиться?
На что Андрэ, окинув взглядом экстравагантную прическу кандидата в компанию и, слегка расправив плечи, произнес:
– Знаешь, амиго, я возвращаюсь с фронта домой и малость поиздержался в дороге. В следующий раз, когда буду в Ганновере, непременно поставлю выпивку всему вокзалу, но сегодня, увы, «Егермайстера» хватит только на двоих!
Пока они пробирались по растворявшимся в дожде и сумерках улицам к магазину, Андрэ с интересом посматривал на Ингрид. «Да, то, что надо! Я бы взял ее на святую землю германских богов!» Ему нравились такие барышни подросткового вида, с небольшими бюстами и изящными попками, особенно если они, как сейчас у Ингрид, были плотно обтянуты джинсами.
Еще в юности в альтернативу «тургеневским девушкам» Андрэ сочинил для себя образ, который он назвал «фассбиндеровский ангелочек». В «тургеневских девушках», кроме того, что их образ настоятельно впихивала в недозрелые подростковые мозги школьная программа, его не устраивала малая драматичность, недостаточная внутренняя изломанность души. Они казались ему наивными девицами с широко раскрытыми голубыми глазками, этакими плюшевыми зайчиками с мягкого дивана. В их обществе, еще ничего не совершив, а только подумав, он сразу ощущал себя подлецом, бабником, синей бородой, губителем молодых сердец.
В противоположность им типаж женщины, который он извлек из фильмов Фассбиндера, являл собой образ кубистический, со множеством изломов, перепадами теней и света. Это был ранний Пикассо, а не велюровый пастельный Ренуар. «Фассбиндеровский ангел» – женщина с драмой внутри, со сложной судьбой, возможно, большая стерва, но в ее обществе Андрэ ощущал себя как бы на равных: ведь если он подлец, то и она хоть и ангел, но падший.
Приглядываясь к Ингрид, он чувствовал, что она именно тот ангелочек в самом классическом проявлении, с театрально накрашенными глазами, пирсингом, вызывающей стрижкой, черными нарядами и множеством тараканов и причуд в голове.
Добравшись до магазина, он купил «Егермайстер», по просьбе Ингрид – шесть банок пива и на всякий случай пакет недорогого вина. Выйдя в уже наступившую темноту, он тотчас откупорил бутылку и под моросящим дождем они отпили немного – за знакомство.
– Чем же ты еще занимаешься, кроме пивных праздников? – спросил фассбиндеровский ангел.
– Я ищу новую жизнь, но вообще-то в миру я художник.
– Клево! Я тоже рисую. Правда, так, для себя. И что же ты рисуешь?
– А так, фигня! Уже ничего не рисую. В Могилеве памятники ставлю. На кладбищах. Раньше, конечно, рисовал, великим художником хотел стать, длинные волосы и бороду отпускал, берет, как у Гогена, носил. А потом оказалось, что великих художников слишком много, а покупателей мало. А тут еще капитализм пожаловал: не хочешь с голоду сдохнуть, рисуй всякую хрень для салонов или увековечивай мертвых. И вообще великими художниками уже давно не становятся, их делают добрые феи в черных костюмах, а если таких фей в твоем городе нет…
Андрэ сделал глоток из бутылки.
– У вас такая же хрень. Художник, как собачье дерьмо, – тоже никому не нужен. Так, кидают ему подачки с барского стола, чтобы не сдох с голоду или, не дай Бог, не взбунтовался, как Шикльгрубер.
– Кто?
– У Адольфа фамилия была – Шикльгрубер. Он вначале тоже большим художником хотел стать, а потом с голодухи взбунтовался, и сама знаешь, чем все закончилось.
Тут Андрэ вспомнил, что почти сутки ничего не ел. «Ладно, фигня! – сказал он себе, – “Егермайстер” лучше вставит!» На голодный желудок «Егермайстер» действительно ложился неплохо, и от нескольких глотков Андрэ быстро захмелел. Он сделал еще один и, все более распаляясь, продолжал:– Ты думаешь, если по телевизору в новостях передали, что какую-то там картину купили за сто миллионов баксов, то это что-нибудь значит? Чушь! Собачье дерьмо! К художнику это не имеет никакого отношения. Чистейший шоу-бизнес! Как тебе это объяснить? Ну, к примеру, есть две колоды карт. Каждая карта – чье-то имя. В одной колоде сто имен. В другой – миллион. Если ты в первую колоду попал, то тебя тусуют везде – музеи, телевидение, обложки журналов, сотбисы! И сто самых богатых пингвинов на тебя ставки делают. Огромные деньги за твои работы дают, покупают, перепродают, воздух накачивают! Ведь, по сути, картина – это холст и сто грамм краски, остальное воздух, дух, пустота. Как оценить этот воздух? Что в нем может стоить сто миллионов? Но если ты во второй колоде сидишь, если в большую игру тебя не приглашают, то что бы ты такого гениального ни создал…







