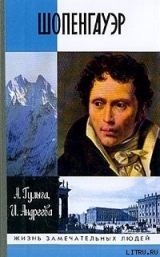
Текст книги "Шопенгауэр"
Автор книги: Арсений Гулыга
Соавторы: Искра Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Маленькие радости, сомнения и неудачи
Артур провел в Мюнхене ужасную зиму. У него дрожали руки, и он оглох на правое ухо. Весной 1824 года он на месяц отправился на курорт в Бад Гаштейн; в «адский климат» Мюнхена, так же, как в «песчаную пустыню» Берлина, возвращаться не захотел, решившись лето прожить в Мангейме, а осенью переселиться в Дрезден, где и пробыл всю зиму. Он, правда, снова объявил свой курс в Берлинском университете, хотя и был готов к тому, что желающих не будет.
Так и случилось. После трехлетнего перерыва, в начале 1825 года Артур возвратился в Берлин: процесс с Каролиной Маркет требовал его присутствия. Его по-прежнему влекла к себе Каролина Медон; связь с ней возобновилась. По сообщению В. Гвиннера, Шопенгауэр в какой-то момент даже собрался жениться.
Берлинские любовные злоключения Артура закончились трагикомически: он сделал предложение семнадцатилетней девушке, которую едва знал. На загородной лодочной прогулке он одарил ее виноградом. Флора Вейс (так ее звали) ничуть не обрадовалась: ей был противен пожилой Шопенгауэр, и она осторожно опускала ягоды в воду. Предложение было озвучено отцу, как гром среди ясного неба. «Но она же еще ребенок!» – воскликнул отец. Шопенгауэр счел долгом дать отчет о своем состоянии. Однако невеста решительно его отвергла, так как питала к нему устойчивое отвращение, которое подкреплялось наблюдением различных мелочей в его привычках и обиходе (133. S. 58–59).
Ситуация смехотворная, но, увы, довольно тривиальная и для нашего времени. Как раз тот случай, о котором можно сказать словами, записанными Шопенгауэром за двадцать лет до того: «Нас делает смешными серьезность, с какой мы относимся к сиюминутным событиям, которые содержат в себе видимость их значимости. И только великие духом люди превращаются из смешных в смеющихся, не обращая на них внимания» (134. Bd. 1. S. 24).
Положение Артура в Берлинском университете не изменилось. Здесь по-прежнему царил Гегель. Триумфально вернулся в Берлин после своих выдающихся путешествий Александр фон Гумбольдт, выступивший в университете с серией докладов, которые имели шумный успех, особенно у женщин. Даже жена Гегеля, место которой было в церкви, с детьми и на кухне (знаменитые три «К» немецких конформистов – Kirche, Kinder, Kuche), к великому неудовольствию мужа, посещала их. Шопенгауэр же по-прежнему был в изоляции, даже университетский сторож позволял себе дерзости в его адрес. Уже в 1827 году Шопенгауэр начал подыскивать место для переселения. Он спрашивал у крупного баварского чиновника Фридриха Тильша, нельзя ли ему читать курс в Мюнхенском университете. Тильш попытался ему помочь. Но чиновники, от которых зависело решение, ему отказали. Посол Баварии в Пруссии считал, что, поскольку Шопенгауэр никому неизвестен как писатель и лектор, да к тому же мало привлекателен, университет от его прибытия мало что выиграет. Известный юрист Фридрих Савиньи дал Шопенгауэру такую характеристику: «О его книгах я судить не могу, так как их не знаю; что же касается его личности, то он всегда выступает слишком самонадеянно, кроме того, я постоянно слышал мнений больше против, чем за него» (132. S. 516).
Шопенгауэр попытал счастья в Гейдельбергском университете. Он написал известному античнику Георгу Кройцеру, что хочет получить там какое-либо место. Кройцер отсоветовал ему хлопотать, поскольку, по его мнению, в университете падает интерес к философии. В эти месяцы бесплодных исканий Артур уверил себя, что против него составлен дьявольский заговор.
В годы больших и малых неприятностей Шопенгауэр стремился найти себе новую область применения. Не ради денег, а дабы принять участие в какой-либо публичной деятельности, он решил заняться переводами. Он предлагает Брокгаузу перевод «Тристама Шенди» Стерна и получает отказ. В конце 20-х годов он перевел житейские максимы Грациана, испанского скептика XVII века, которые были изданы только через два года после смерти Шопенгауэра. Неудачной была попытка перевести труды Д. Юма, посвященные критике религии. Во время пребывания в Дрездене Шопенгауэр даже начал писать предисловие к этому переводу, который не был опубликован. Интерес к религиозно-критическому наследию Юма не был случайным: Шопенгауэр принимал дела веры близко к сердцу.
Еще в Дрездене он познакомился с Л. Тиком – выдающимся представителем немецкого романтизма. Один из знакомых матери Артура с ужасом описывает спор в доме Тика, свидетелем которого он был. Артур отвергал религиозные стороны учения Якоби, Тик защищал их. Шопенгауэр сначала ворчал, затем набросился на него, как «тарантул», и с язвительной улыбкой повторял: «Как?! Вы нуждаетесь в Боге?» Тик до конца дня не мог оправиться от этого спора, а свидетель его был крайне возмущен (133. S. 53).
Шопенгауэр пытался принять участие в переводе на английский язык кантовской «Критики чистого разума». Когда в газете «Форин ревью» анонимно появилось такое предложение, Шопенгауэр немедленно откликнулся и попросил редактора связать его с анонимом. Фрэнсис Хейвуд, так звали анонима, предложил Артуру отредактировать перевод, который он сделает сам. Шопенгауэр оскорбился, и дело сорвалось.
Единственной удачей был перевод на латинский его труда «О зрении и цвете», который он опубликовал в 1830 году. Это был повод для большой радости. Такое же чувство Шопенгауэр испытал в связи с упоминанием в одной из статей Жан Полем книги Шопенгауэра. «Шопенгауэровский „Мир как воля и представление“, – писал Жан Поль, – гениальное философское, умное и многостороннее сочинение, полное остроумия и глубокомыслия, но часто безутешное и бездонное по глубине, сравнимо с меланхоличным озером в Норвегии, над которым не пролетит птица, не проплывет облако, в темном кольце стен которого, среди крутых скал никогда не проглядывает солнце – и только в глубине угадывается звездное небо. К счастью, я могу лишь похвалить книгу, а не подписаться [под ней]» (цит. по: 122. S. 342).
Записи 20-х годов свидетельствуют не только о попытках утешиться, самоутвердиться, найти другое занятие. Шопенгауэр стремится развить и придать большую ясность своему учению, но в то же время избавиться от не покидавших его сомнений. Эти размышления легли в основу дополнений к первому тому и для второго тома «Мира как воли и представления», которые он готовил для второго издания, а также для собрания заметок и отрывочных размышлений, которые он позже назвал «Парерга и Паралипомена».
Больше всего его занимает мысль об отождествлении воли с вещью самой по себе. Последняя есть воля постольку, поскольку в прорывающемся из нашей сокровенной глубины волевом акте имеется некое начало, через которое можно наиболее полно и непосредственно представить единую действительность саму по себе. Сущность мира как вещь сама по себе становится понятной благодаря этому очевидному свойству, а именно воле, пребывающей в нас. Но в то же время, рассуждает он, воля – вещь сама по себе лишь до некоторой степени. «Познать вещь саму по себе – в этом заключается противоречие, поскольку все знание есть представление. Вещь же сама по себе есть некий объект, а не представление» (134. Bd. 3. S. 778).
Он задает себе вопрос: откуда берется воля? Вопрос представляется Шопенгауэру бессмысленным. Нечто, содержащее в себе смысл, существует вообще, и потому остается безответным. Понятия Бога, сущности, духа полагаются априори. Сущность мира непознаваема. Существование воли похоже на черную дыру, которая поглощает свет. Поэтому его философия, заключает Шопенгауэр, оставляет в стороне бездну вопросов, для ответа на которые наше мышление не располагает соответствующей формой.
Познать бытие не удается; наши знания о способностях и границах познавательной способности также не поддаются полному осмыслению. К тому же они остаются вне пределов бытия. Поэтому жалобы на тьму, которая обнимает нашу жизнь, на то, что мы не в состоянии осветить наш путь и проникнуть в смысл и сущность бытия, бесполезны. Такие жалобы несправедливы и возникают они из ложного взгляда, что целое вещи исходит из интеллекта так, как если бы это целое было представлением; на самом же деле все это не поддается нашему знанию. Что касается представлений, в которых заключается все наше знание, то «они суть лишь внешняя сторона сущего, нечто привходящее, нечто не обязательное для понимания содержания вещей вообще, существующих в мировом целом; они необходимы всего лишь для поддержки живого индивида» (134. Bd. 3. S. 183).
В познании имеются противоречия, разрывы, индивидуации. Но и в самом бытии имеются противоречия. Если взять наше собственное бытие, что знает каждый из нас о самом себе? Тело, созерцаемое чувствами; затем внутреннее воление как непрерывный ряд волевых актов, возникающих в связи с представлениями: это – все. Напротив, субстрат всего этого, волящий и познающий, остается недоступным: мы направляем наш взор вовне, внутреннее же для нас лежит во мраке.
Часть того, что доступно нашему познанию, конечно же, оказывается совершенно отличной от другой, недоступной. Но верно ли, что наиболее существенное в недоступной нам части остается для каждого неизвестным? Если ее представить равно отделенной от познаваемой стороны, почему она не может быть сущностью всего единого и тождественного? По отношению к не поддающейся познанию стороне нашего бытия мы все равны, поскольку мы все суть «воля»: «Оптимист призывает меня открыть глаза и взглянуть, как прекрасен мир – горы, растения, воздух, животные и т.д. – они, конечно, прекрасны, но их бытие есть нечто другое» (134. Bd. 3. S. 172).
Шопенгауэр придавал, мы знаем, большое значение узрению. Если прекращается стремление субъекта подчиняться воле, он получает шанс узреть ее присутствие и тем самым приоткрыть тайну мира. Но это утверждение противоречит шопенгауэровской метафизике; здесь выражена попытка соединить несоединимое: мир, разделенный на представления, обращенные к наличному бытию, и волю, оберегающую тайну бытия, соединить не так-то просто; тем не менее он изымает волю из таинственной сферы внутреннего переживания и выводит ее в природные просторы. Здесь сверхиндивидуальное («лучшее сознание») переводится во внеиндивидуальное (волю в природе): воля исчезает в субъекте, чтобы тем отчетливее выступить в объекте; минус на одной стороне превращается в плюс на другой.
Но уверен ли лишенный воли субъект в доступности бытия? Ответ Шопенгауэра гласит: «Истинная сущность человека есть воля. Представление является вторичным, дополнительным, так сказать, внешним. И все же человек находит свое истинное спасение только тогда, когда воля исчезает из сознания и остается одно представление. Следовательно, сущность должна быть снята, а ее явление (представление), ее довесок оставлено. Это нужно серьезно обдумать» (134. Bd. 3. S. 236).
Размышления и сомнения, в конце концов, привели Шопенгауэра к мысли о более глубокой внутренней связи метафизики и этики. Если познание истины требует свободного от натиска воли размышления, то бытие в истине должно осуществляться путем еще более постоянного и длительного освобождения от силы воли. Осуществление истины есть одновременно ослабление жизненной мощи воли.
Вещь сама по себе главным образом презентуется волей, а в чем наиболее отчетливо проявляется воля? Шопенгауэр указывает на половой акт: «Если бы меня спросили, где же достигается самое интимное знание той сущности мира, той вещи самой по себе, которую я называю волей к жизни, либо где же наиболее отчетливо выступает в сознании эта сущность, либо где достигается наичистейшее проявление самости, – я должен был бы указать на наслаждение в копулятивном акте. Это так!» (134. Bd. 3. S. 240). Это – истинная сущность и ядро всех вещей, цель и предел любого существования. Так писал он в 1826 году, когда его роман с Каролиной продолжался уже пять лет.
Однако осуществление истины требует, как он утверждает, одновременно ослабления жизненной мощи воли. По Шопенгауэру, таким образом, познание, погоня за истиной находится в противоречии с жизнью. Эту мысль принимает Ницше, но с примечательным поворотом: так как истина нежизнеспособна, в обмен нужно осуществить философскую реабилитацию воли; в конечном счете речь должна идти не об истине, а о жизненной мощи. Когда Шопенгауэр искал «истинного спасения» в чистом, свободном от воли «узрении», он четко знал, как указывает Р. Сафрански, от чего хочет ускользнуть: от Диониса. Не удивительно, что Ницше вложит в руки этого бога спасение человека.
Естественно, что все эти годы Шопенгауэра не покидала надежда, что его труд будет все-таки принят и получит всеобщее признание. Однако его не покидали и скептические опасения. В 1821 году он сочинил первый набросок предисловия ко второму изданию книги, определив дату его выхода 1828 годом. Но как раз тогда Брокгауз сообщил ему, что осталось нераспроданным 150 экземпляров его книги (первоначальный тираж был 800 экземпляров), причем неясно, сколько книг вообще было продано, так как время от времени их приходилось сдавать в макулатуру.
Получив это известие, Шопенгауэр сочинил новый вариант предисловия, который датировал 1830 годом, обзывая читателей «тупыми современниками» и с гордым видом объявляя, что все они пребывают во власти предрассудков, внушаемых со стороны. Второе издание предназначалось для потомков, а не для «стада обезьян». В этом варианте предисловия содержатся, пожалуй, самые свирепые нападки на этих «обезьян». «Есть люди, которые как будто вывалились из ветрогонства Фихте и из неотесанного шарлатанства Гегеля» (134. Bd. 4. Т. 1. S. 13).
Подводя итог своей берлинской жизни, он писал: «Всю жизнь я чувствовал себя ужасно одиноким и постоянно вздыхал из глубины души: „Дай мне человека!“ Напрасно! Я оставался одинок. Но я могу прямо сказать, что никого не отталкивал, никто не исчезал из моей души и сердца; я – не кто иной, как несчастный бедолага, с тупой головой, скверным сердцем, низменными чувствами» (134. Bd. 4. Т. 2. S. 117).
В августе 1831 года Артур бежал из Берлина, спасаясь от холеры. Она свирепствовала в городе уже несколько месяцев. Ее жертвой стал Гегель. Артуру в те тревожные дни было во сне предостережение, о котором он пишет так: «В новогоднюю ночь между 1830 и 1831 годами я видел сон, который указывал на мою смерть в этом году. С шестилетнего возраста я дружил с мальчиком моего возраста, которого звали Готтфрид Яниш и который умер, когда мне было десять лет, и я был во Франции. В следующие 30 лет я редко думал о нем. Но в эту ночь я видел себя в неведомом месте, на поле стояла группа мужчин, и среди них взрослый, высокий, худой человек, который мне, уж не знаю как, был известен как Готтфрид Яниш и который приветствовал меня» (134. Bd. 4. Т. 1. S. 46).
Он истолковал этот сон как повеление покинуть Берлин, иначе – встреча с умершим другом на том свете. Артур решил немедленно уехать. Каролина Медон, которая собиралась ехать с ним, откладывала отъезд; Артур долго размышлял, где можно было бы переждать холеру. В конце концов, один, без Каролины, он очутился во Франкфурте-на-Майне только потому, что там еще не было холеры, и остался в этом городе до конца своих дней.
Глава восьмая. Франкфуртское убежище
В поисках покоя
Шопенгауэр прибыл во Франкфурт в августе 1831 года. Но жизнь на новом месте началась несчастливо для него, и он не сразу здесь обосновался. Революция 1830 года во Франции откликнулась здесь беспорядками. Давно назревавшее недовольство рабочих и молодых, радикально настроенных интеллектуалов вылилось в столкновения с властями. На ежегодном празднике стрелков многие солдаты были ранены; один из чиновников облит нечистотами; небольшая группа студентов, захвативших гауптвахту, потребовала провозгласить «свободу Германии». Все это обеспокоило Шопенгауэра: он страшился за свою собственность, обеспечивавшую ему возможность спокойно заниматься философией.
К тому же вскоре он заболел. После своего переселения во Франкфурт Шопенгауэр увидел еще один вещий сон: он видел во сне родителей – мать и отца. Отец нес светильник. Артур истолковал этот сон так: он переживет свою мать, отец же осветит его дальнейший путь (134. Bd. 4. Т. 1. S. 47). Однако несколько недель спустя его болезнь усилилась, Артур болел всю зиму, совершенно одинокий, запертый в четырех стенах своего жилища. Он все чаще вспоминал Каролину и засыпал своего берлинского приятеля фон Ловитца письмами с расспросами о ее жизни и времяпрепровождении. Тот пытался его успокоить. Но Шопенгауэр больше не мог доверять Каролине, и их отношения окончательно испортились.
Шопенгауэру представлялось, что он напрасно обосновался во Франкфурте. Памятуя, как в свое время он излечился от болезни и депрессии в Мангейме, в июле 1832 года Шопенгауэр туда переселился и прожил там в течение года. Однако, в конце концов, он окончательно выбрал все же Франкфурт, мотивируя свое решение так: здесь здоровый климат, лучшие кофейни, больше англичан, никаких наводнений, умелый зубной врач, вообще меньше плохих врачей; к тому же к его услугам всегда имеется его независимость, которая в случае необходимости поможет прекратить сношения с неугодным окружением, избавиться от надоедливых соглядатаев и вообще удалиться, куда ему будет угодно. Летом 1833 года он покинул Мангейм и вернулся во Франкфурт.
Бывший свободный имперский город Франкфурт после Венского конгресса 1815 года стал вольным городом. Здесь была учреждена республиканская конституция; сенат и управление вербовались из патрицианских семей. В городе обосновался Немецкий бундестаг, в котором предавались бесконечной болтовне именитые послы многочисленных немецких государств, имевшие прекрасные апартаменты и изысканный стол в ресторане «Английский двор». Послом Пруссии в бундестаге был в то время будущий объединитель Германии Отто фон Бисмарк, среди послов были и другие знаменитости.
Франкфурт был также центром рыночного капитала центральной Европы. Здесь была резиденция Ротшильдов. Глава клана Амшель Майер Ротшильд, обитавший в пышном дворце в престижном районе города (его мать оставалась в халупе еврейского гетто до конца жизни), каждый понедельник, одетый во фрак, стоял на бирже на принесенной из дома циновке и диктовал курсы. Рынки города кишели пришельцами из разных стран и немецких земель.
Во Франкфурте не было университета. Зато естествоиспытатели пользовались большим спросом: за городом бурными темпами росли заводы и фабрики. Здесь была покрыта асфальтом первая в Германии улица, проведен водопровод, который подавал воду в верхние этажи зданий, налажено газовое освещение на улицах и в подъездах. Население весьма ценило здравый смысл и позитивное знание, так что в городе процветали многие естественно-научные объединения. Шопенгауэр стал членом «Горного научного общества».
Знать селилась в пригороде, где закладывались сады и парки, разбивались променады. Беднота теснилась в Старом городе. Центр занимали ремесленные цехи с домами, мастерскими и складами, с семьями, подмастерьями, учениками и слугами. Многие горожане держали крупный рогатый скот, который по утрам выгоняли на пригородные пастбища. Вдоль улиц «благоухали» сточные канавы, переполнявшиеся в сильные дожди, так что их превосходительствам-парламентариям приходилось переходить улицы вброд.
Тем не менее Франкфурт нравился Артуру. Во Франкфурте можно было увидеть и услышать все, что происходит в мире. Он поселился в центре города, поначалу часто меняя квартиры, а затем с 1839 года, до самой смерти, жил около моста через Майн, на углу Фааргассе, почти все время в одной и той же квартире. Лишь за год до кончины он переселился в соседний дом, так как прежняя хозяйка не хотела мириться с его пуделем. Он стал завсегдатаем «Английского двора», где обедал, беседовал с посетителями, встречался со случайными знакомыми, а в соседней библиотеке после обеда читал газеты.
Лишь в пятьдесят лет (в 1838 году) Шопенгауэр обзавелся собственной мебелью и начал обихаживать свое жилье. Он поселился в первом высоком этаже (партере), откуда легко было выбраться в случае пожара. Он обставил комнаты так, чтобы убранство отвечало его мыслям и чувствам. Собакой он обзавелся, потому что, по его мнению, именно у этих существ проявления воли имели для человека особую ценность. Комнаты, в которых он жил, были увешаны портретами собак (всего их было 16), среди которых был портрет знаменитого Ментора, спасшего человеческую жизнь. Единственным его компаньоном, в котором он действительно нуждался, был белый пудель. Когда верный пес умер в глубокой старости, вместо него Шопенгауэр взял еще одного, на этот раз каштанового.
На стене в кабинете висели портреты Декарта и Канта, которых Шопенгауэр почитал, а также любимого им в ранней юности Маттиаса Клавдия. Портрет Гете, которого, как и Канта, Шопенгауэр считал гением, висел над его диваном. Копия бюста Канта, заказанная у автора – скульптора Рауха, стояла на рабочей конторке «действительного наследника кантовского престола».
В Париже была куплена для него бронзовая, покрытая черным лаком статуя Будды, которая с мая 1856 года покоилась на мраморной консоли в углу комнаты, называвшейся отныне «священными покоями». Шопенгауэр радовался тому, что его Будда был тибетского, а не китайского происхождения; кстати, своего пуделя он назвал «Атма» («мировая душа»).
Его хозяйство много лет вела Маргарета Шнейпп, которой Шопенгауэр весьма доверял и завещал ей небольшие деньги, мебель и хозяйственную утварь.
С первых франкфуртских лет в житейском распорядке Артура сложились строгие правила, которых он придерживался до конца жизни. С утра первые три часа, пока голова ясная, он писал, обращая особое внимание на стиль и ясность изложения своих мыслей. Затем в течение часа играл на флейте, в последние годы это была исключительно музыка Россини. Обедал он вне дома в лучших ресторанах города – сначала в «Русском дворе», «У лебедя», а много позже – в «Английском дворе» у Конного рынка. Здесь он сиживал до пяти часов, в поздние годы, беседуя с почитателями, число которых множилось день ото дня.
Случайный знакомый Шопенгауэра писатель Герман Роллет оставил описание его внешности: это был хорошо сложенный, изысканно, но несколько старомодно одетый человек среднего роста, с короткими седыми волосами, с почти военными бакенбардами, чисто выбритый, с розовым лицом, ясным живым взглядом сверкающих, как звезды, голубых глаз. Его не слишком красивое, но одухотворенное лицо часто имело иронически-насмешливое выражение. У него был завидный аппетит. Дошли сведения, что за один присест он мог съесть две порции мясного блюда и много жирного соуса, который поглощал большой ложкой. Он сердился, когда его отвлекали во время еды, но за кофе любил беседовать со случайными знакомыми или соседями по столу, часто в добродушно-ворчливой манере. Окружающие посмеивались над ним, считая его чудаком.
Но иногда он гневался. Когда он хотел выругать своего пуделя, он окликал его: «Эй, парень!», – бросая вокруг злые взгляды. Некий Шнейдер рассказывает, как однажды за обедом он беседовал с философом о музыке, а рядом стоял кельнер с блюдом говядины, которого Артур в жарком споре не замечал. Когда же собеседник шутливо предложил Артуру: «Возьмите же априори немного мяса, а я возьму апостериори», – Шопенгауэр с непередаваемой яростью и презрением вскричал: «Не смейте профанировать эти святые выражения, значение которых вы не понимаете!» (133. S. 62). Впоследствии Шопенгауэр, чтобы защититься от «неуча», тщательно следил за тем, чтобы ему накрывали стол как можно дальше от него.
После обеда Артур часто посещал читальный зал, а затем, в сопровождении пуделя, при любой погоде отправлялся на длительную прогулку, бормоча про себя и не обращая внимания на прохожих. Мальчишки бросали вслед ему камни. Вечер он посвящал чтению, никого в это время не принимал. В первые годы жизни во Франкфурте он часто посещал театр, оперу и концерты. Шопенгауэр не переносил шума, который не просто отвлекает и мешает ясности мысли, но и таит некую угрозу. Этой теме в «Парерга и Паралипомена» он уделил особое внимание.
Тревожное состояние вылилось в потребность ритуализации повседневной жизни. Проценты из банка должен был приносить домой один и тот же служащий; сапожник должен был точно следовать его указаниям; на письменном столе предметы имели свое постоянное место: горе экономке, если она бралась изменить этот педантичный «мировой порядок». Под чернильницей он прятал золотую монету: в случае крайней опасности она должна была служить жизнеобеспечению; книги в его библиотеке стояли строго по ранжиру; для важных предметов он устраивал захоронки: процентные купоны хранились в старых письмах и нотных папках, личные заметки снабжались фальшивыми заголовками, чтобы ввести в заблуждение любопытствующих; незваные гости не принимались; посещение парикмахера стоило больших усилий: кто его знает, не перережет ли он ему горло? Свою статую Будды Артур берег пуще глаза. Однажды он чуть не выгнал из дома свою домоправительницу, которая осмелилась вытереть с нее пыль.
Внимание к интуиции, к эстетическому компоненту философии, да и особенности характера породили не только своеобразный язык и стиль учения Шопенгауэра, резко отличающие его от систем современников, но и специфику решения им ключевых проблем. «Стиль – физиономия духа, – писал он. – Она правдивее физиономии телесной. Подражать чужому слогу – все равно что носить маску» (80. Т. 3. С. 824). Язык – художественное произведение; поэтому его нужно брать объективно; в соответствии с этим и все выражаемое им должно сообразовываться с правилами и отвечать своей цели, выражая каждым предложением объективно заложенное в нем – то, что хотят через него выразить; нельзя обращаться с языком чисто субъективно и выражаться кое-как в надежде, что другой отгадает то, что под этим подразумевается…» (80. Т. 3. С. 841).
Шопенгауэр передал это понимание языка и стиля своим читателям. Он был, считает Сафрански, великим стилистом среди философов XIX века. Кафка, поклонник Шопенгауэра, утверждал, что тот был художником слова: из слова возникла его мысль. Его, безусловно, следует читать хотя бы ради языка (108. S. 134). Шопенгауэр стремился не к избыточности, а к контролю и власти над языковым богатством. Вот характеристика Сафранки: он слушал язык, чувствовал его природное дыхание, его энергию, укладывая строение речевых периодов в эластичную, но точно очерченную сетку: ведь мир – это мятежная воля, и поскольку в нем нет высшего метафизического или временного порядка, ведущего к спасению и прогрессу, постольку остается лишь «магия упорядоченного языка» (124. S. 427).
Для Шопенгауэра большое значение имело следующее правило: то, что можно вообще узнать, узнается отчетливо; то, что можно вообще сказать, можно сказать со всей ясностью. Со всей ясностью, к примеру, сиживая в «Английском дворе», он мог поведать своим соседям, не заботясь о том, хотят ли они его слушать, об открытом им средстве от половых болезней: после акта следует обмыть гениталии раствором хлорной извести. А если серьезно, то он считал, что только в ясности прочерчивается смысловая граница, за которой познаваемое и выразимое переходит в тьму и невыразимость. «Какой бы факел мы ни зажигали, и какое бы пространство он ни освещал, всегда наш горизонт остается окутанным глубокой тьмой» (74. С. 257).
Иное дело – строгость и непротиворечивость мысли. Шопенгауэр неоднократно подчеркивал эти качества своего учения. В отличие от Гегеля, положившего диалектическое противоречие в основу своей философии, он с проклятиями отвергал гегелевскую диалектику, он не соглашался с диалектическими идеями Канта, в частности, жестко критикуя таблицу категорий, диалектический характер которой он не распознал; он пытался опровергать и кантовские антиномии, доказывающие невозможность преодолеть противоположность веры и знания (73. С. 573 cл.).
В начале XX века, в период взлета славы мыслителя, появились работы, фиксирующие противоречия его учения. О. Енсен заключал, что настойчивый призыв Шопенгауэра снова и снова перечитывать его сочинения, чтобы проникнуться их глубиной, приводит к обратному: чем больше вчитываешься в них, тем яснее выступают противоречия автора. Й. Фолькельт занялся подсчетом противоречий в трудах философа, составил даже таблицу и насчитал их более пятидесяти (148); правда, в своих подсчетах он оказался большим формалистом: не вникая в суть дела, он выделил просчеты, которые могли иметь и случайный характер.
В наши дни X. Пример задался целью показать противоречие между материализмом и идеализмом Шопенгауэра (123). И в самом деле, у Шопенгауэра подчас термины многозначны, как, впрочем, и у других мыслителей. Иногда содержание термина расширяется либо видоизменяется еще как-то в зависимости от контекста. Но важно то, что противоречие содержится в самом порядке вещей, которые подвергаются исследованию. Шопенгауэр это все же понимал.
Подводя итоги своим трудам, он фиксировал внимание на антиномиях понятия воли следующим образом.
Противоположности воли: 1) Между свободой воли и безусловной необходимостью всех поступков индивида; 2) между чисто-причинной и телеологической объяснимостью естественных явлений; 3) между случайностью событий и их моральной необходимостью, трансцендентно целесообразной для данного индивида как противоположность между естественным ходом вещей и провидением. Уразумение их антиномичности, хотя и неполное, позволяет в общих чертах указать на таинственное руководительство индивидуальной жизнью.
Наше преходящее бытие при всей его пустоте, несовершенстве, ничтожности и бренности не имеет здесь опоры, ее следует искать за пределами индивидуальной жизни в вечном бытии: вся совокупность знаний воздействует на метафизически-целесообразные моменты воли – ядра и сущности человека. Поэтому индивид, каждый на свой лад, вместе с человечеством, постепенно влечется к отрицанию воли к жизни, так как страдания и несчастья по сути дела насильственно побуждают ее к самоотречению: «Отрицание воли к жизни достигается как бы с помощью кесарева сечения» (80. Т. 3. С. 197).
Поселившись во Франкфурте и упорядочив свою жизнь, Артур возобновил переписку с сестрой и даже с матерью, которая, как всегда, стала давать ему полезные советы – от простуды пить ромашковый чай, или сетовать на то, что он одиноко, в течение двух месяцев, жил в сельской хижине, не видя людей; это огорчало ее: человек не должен так жить (139. Bd. 57. S. 112). Артур в общении с матерью выказывает деловитость и соблюдает дистанцию, придерживаясь иронично-снисходительного тона. Речь в их переписке идет о возможном совместном пользовании частью наследственного имущества, оставшегося в Данциге.








