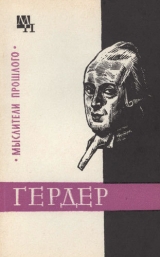
Текст книги "Гердер"
Автор книги: Арсений Гулыга
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Глава пятая
Эстетика
1. Анализ красоты
Преобладающее влияние на формирование эстетических воззрений Гердера оказали Винкельман и в большей степени Лессинг. Молодой философ находился еще под впечатлением «Истории искусства древности» Винкельмана, по которой он «промчался и прополз» в 1765 г., когда в его руки попал «Лаокоон» Лессинга. Полемика, возникшая между двумя виднейшими мыслителями Просвещения, приковала его внимание. В свете этой полемики мы отчетливее видим становление эстетических воззрений Гердера, его взглядов на основные понятия искусства и, в частности, на проблему прекрасного.
Винкельман, близкий по своим философским взглядам античному и французскому материализму, выступил против засилья в теории искусства идеалистических и церковных догм. Привлекая внимание к древнегреческому искусству, которое он считал нормой, образцом искусства вообще, Винкельман как бы произносил приговор над господствовавшим в его эпоху стилем барокко. В предисловии к «Истории искусства древности» он подчеркивал, что предметом его труда служит не столько описание древних памятников и их мастеров, сколько искусство в его сущности.
В своей книге Винкельман уделяет большое внимание центральной эстетической категории – прекрасному. Красоте, говорит он, повторяя Цицерона, легче давать отрицательные определения, чем положительные, легче сказать, чем она не является, труднее – что она собой представляет; красота – одна из величайших тайн природы. Красоту не следует смешивать с тем, что возбуждает наши страсти. Искусство меньше действует на наши чувства, чем природа; заурядное хорошенькое лицо подчас волнует молодого человека больше, чем вид подлинно красивой женщины, сдержанной и скромной. Но источник волнения в данном случае не красота, а сладострастие.
Анализ положительной идеи красоты приводит Винкельмана к мысли о том, что красота состоит в согласии созданного с его назначением, гармонии между частями и целым. Наиболее свойственные красоте человека качества – спокойствие, уравновешенность. Это благородное, характерное для античности начало в человеке, который даже в трагические минуты не теряет величия и спокойствия, нашло свое воплощение в древнегреческой скульптуре. Рассматривая статую задыхающегося в кольцах гигантской змеи Лаокоона, Винкельман отмечал, что гибнущий герой издает не безумный крик, а приглушенный стон, на его лице «отражается твердая душа великого человека, который борется с болью и старается сдержать и подавить выражение страдания» (12, стр. 138). Эта мысль вызвала возражение Лессинга.
«Лаокоон» Лессинга, как сообщает подзаголовок этой работы, посвящен выяснению «границ между живописью и поэзией». Эти границы существуют, и переступать их нельзя; поэзия не должна подражать изобразительному искусству, которое воспроизводит красоту человеческого тела. Предмет поэзии – действия. Но выяснением данного вопроса не исчерпывается содержание этого замечательного произведения. «Лаокоон» не просто теоретический трактат, но в то же время страстный политический памфлет, возникший из нужд немецкого освободительного движения.
Гражданский пафос «Лаокоона» виден в том, как Лессинг подходит к анализу этой скульптурной группы. Сдержанность Лаокоона вовсе не выражает невозмутимость и рассудочное величие греков как нации, это лишь следствие ограниченных возможностей изобразительного искусства вообще; они ставят пределы передаче страстей, заставляют художника ограничиться лишь воспроизведением телесной красоты. Поэзия не знает подобных ограничений. Не удивительно, что герой Софокла Филоктет, испытывая страдание, кричит от боли. Отдаваясь естественному порыву чувства, он не перестает быть героем; муки не сделали его слабодушным.
За спором об интерпретации скульптурной группы Лаокоона скрывалась определенная политическая программа. Советский ученый В. Гриб тонко заметил, что Винкельман, близкий по духу французским материалистам, развивал созерцательную сторону их взглядов. Источником рабства была для него грубая животная чувственность, зависимость человека от своих страстей. Путь к свободе он видел не в борьбе с несовершенством действительности, а в самовоспитании. В противоположность ему Лессинг защищает страсти, живую плоть, право человека на борьбу против своих мучителей.
Гердер уловил гражданский, демократический подтекст «Лаокоона», вместе с тем он понимал, что идеи Лессинга не исключают идей Винкельмана. Гений Лессинга и гений Винкельмана столь различны, что к ним невозможно приложить одну общую мерку, писал он. «Первый плодотворнее и полезнее, второй трудолюбивее и прилежнее… Первый – образованный теоретик, обладающий талантом и вкусом, второй – тонкий антиквар, суждения которого не очень широки, но достаточно сильны. Лессинг сидит на плечах Винкельмана и поэтому видит и больше и дальше» (8, стр. 13). Перефразируя последнее выражение, можно сказать о самом Гердере, что он занял место на плечах Лессинга и вследствие этого смог бросить более широкий взгляд на проблемы философии искусства. Идеи Лессинга, как правило, служили отправным пунктом для рассуждений Гердера, он либо соглашался с ними, либо подвергал критическому пересмотру.
«Критические леса» Гердера начинаются с обстоятельного разбора «Лаокоона». Недостаток Лессинга Гердер видит в абстрактном, внеисторическом подходе к искусству. Лессинг прав, замечая, что красота была высшим законом искусства древних, однако возникают вопросы: каких древних? В течение какого времени? Вследствие каких причин?
Винкельман пытался объяснить специфику античного искусства национальным характером греков, их демократическим образом жизни. По мнению Гердера, надо идти по этому пути, рассматривая искусство греков, показать, что в то время искусство, поэзия и музыка были теснее связаны с сущностью государства, чем теперь, а «действие народа на искусство и искусства на народ было не только физическим и психологическим, но в значительной степени политическим» (9, т. III, стр. 55).
Рассматривая факторы, определившие особенности древнегреческого искусства, Гердер высказывает глубокую мысль о решающем влиянии античной мифологии на это искусство. Народы Востока представляли своих богов в виде безликих существ или мрачных чудовищ; боги Греции – воплощение человеческого совершенства, силы и красоты. Конечно, и в античной религии имелись ужасные, отталкивающие образы, но они имели лишь подчиненное значение. Наконец, важным фактором, выдвигавшим в античном искусстве человеческую красоту на первый план, было гуманное, светское понимание героизма. Герой античности не смиренный святоша, истязающий свою плоть, а человек, сочетающий в себе духовное и физическое совершенство.
Вот почему высшим законом античного искусства была красота. Причем это относится не только к изобразительному искусству, но также к поэзии древних греков. Подобно ваятелям греческие поэты, передавая сильнейшие аффекты своих героев, стремились сохранить их благородный, человеческий облик. Ссылка Лессинга на Филоктета, по мнению Гердера, неудачна. Этот герой Софокла также стремится подавить свои страдания, и когда боль оказывается сильнее его, он не кричит, а глухо стонет. Что же касается пределов художественного воспроизведения страдания, крика и т. д., то они существуют как в изобразительном, так и в любом другом искусстве.
Итак, историзм, который, как мы уже неоднократно отмечали, отличает Гердера как философа, является определяющим и в его подходе к эстетике. Чувство красоты, по мнению Гердера, не дается человеку в готовом виде, оно видоизменяется, совершенствуется в ходе развития индивида и всего человеческого рода. Именно поэтому эстетика должна проникнуться духом историзма, теория прекрасного невозможна без его истории.
Вместе с тем, так же как и в понимании общества, историзм в эстетике не перерастал у Гердера в субъективизм и релятивизм. Наоборот, диалектическое понимание искусства рождалось у Гердера в борьбе с релятивистской точкой зрения. Мы имеем в виду взгляды Фридриха Риделя, ставшие объектом полемики в четвертом выпуске. «Критических лесов». Ридель, известный уже нам по его теории непосредственного знания, – фигура не оригинальная, типичный эпигон и компилятор, вобравший в себя, как губка, все слабое из предшествовавших эстетических теорий, и прежде всего из учения А. Баумгартена.
Баумгартен рассматривал эстетику как учение о чувственном восприятии, как логику низшей способности познания. Объектом исследования эстетики является красота, которая представляет собой чувственное совершенство. Последнее, однако, рассматривается Баумгартеном субъективно, как совершенство акта познания на его низшей ступени.
Гердер высоко оценивал вклад Баумгартена в в развитие немецкой эстетики, называл его «Аристотелем нашего времени» и посвятил ему немало прочувствованных строк. Заслугу Баумгартена Гердер видел прежде всего в акцентировании эмоциональной, эстетической стороны чувственного восприятия; определенное влияние оказал на Гердера баумгартеновский анализ поэзии, его мысли о творческой роли поэта, как бы воссоздающего новый мир. Вместе с тем Гердер упрекал «изобретателя эстетики» в том, что он недостаточно подверг рассмотрению объективную сторону прекрасного.
По словам Гердера, Ридель последовал за Баумгартеном во всех ошибках его теории. Субъективистские тенденции последнего были доведены Риделем до крайности, до абсурда. Рассматривая красоту как «непосредственное чувство», он отрицал какие-либо общезначимые, объективные ее критерии. Красота для Риделя всего лишь качество нашего чувства; определение красоты так же невозможно, как соответствующее определение сладости, горечи и аналогичных непосредственных ощущений. Подобная позиция Риделя, по мнению Гердера, делает невозможным научный анализ красоты. Между тем для Гердера эстетика – наука, более того, «самая плодотворная из абстрактных наук».
Основное понятие эстетики – прекрасное – поддается точному научному анализу. Красоту надо постичь объективно – из произведения искусства и субъективно – из ощущения. Недостатком предшествующей эстетики было то, что она разрабатывалась со стороны психологии, следовательно, субъективно; со стороны же предмета она разрабатывалась недостаточно. Между тем необходим анализ объективной основы прекрасного, природы и произведений искусства. При всем различии вкусов в ходе исторического развития можно найти незыблемые основы и критерии прекрасного.
Различные народы вносят в понимание идеала свои особенности, придают ему черты своей единичности, однако можно освободиться от этого привнесенного своеобразия и наслаждаться прекрасным, как таковым. Прекрасное абсолютно, но существует оно в относительной исторически обусловленной форме.
Диалектические прозрения характеризуют гердеровскую трактовку соотношения красоты и истины. В термине «прекрасная наука» (schöne Wissenschaft), который служил для обозначения искусства и имел в эпоху Гердера широкое хождение, сохранился отголосок некогда господствовавшего взгляда на художественную деятельность как на разновидность деятельности рассудочной, научной. Как мы уже отмечали, Баумгартен впервые пытался провести границу между искусством и рассудочным познанием. У Риделя это разграничение приняло абсолютную форму. Здравый смысл, совесть и вкус, соответственно истина, добро и красота существуют, по Риделю, разобщенно, вне связи друг с другом. Гердер придерживался иных взглядов. В «Критических лесах» он выражает свое несогласие с расчленением мира человека на три независимые сферы, в дальнейшем он все более настойчиво проводит тезис о единстве добра, истины, красоты.
Красоту Гердер определяет как «чувственный феномен истины» (9, т. VIII, стр. 112). Нет красоты без истины, так же как нет истины без красоты. Чувственная форма истинного всегда прекрасна. В этом смысле Гердер называет красоту формой. Красота – это содержательная форма, форма жизни. Только поэтому Гердер соглашается с рассуждениями Хогарта о линии красоты. Таковой, по мнению английского художника, была округлая линия. Дидро в свое время посмеивался над этой идеей, требуя, чтобы ему показали, какая именно из тысячи возможных округлых линий является наиболее совершенной. Однако Гердер видел в линии красоты Хогарта не эталон, а лишь констатацию того факта, что нашему глазу наиболее приятны линии, напоминающие округлые очертания человеческого тела. Симметрия для Гердера также является воплощением красоты, поскольку по этому принципу построено человеческое тело.
Ограниченность подобной точки зрения очевидна. Конечно, эстетическое освоение действительности есть в известном смысле ее «очеловечивание», но последнее не следует понимать буквально. Мы любуемся не только тем, что непосредственно говорит нам о жизни и здоровье человеческого тела, но всем тем, что так или иначе связано с деятельностью человека. Красоту мы находим не только в округлых, но и в прямых и в угловатых линиях, наряду с симметрией в равной мере мы можем эстетически воспринять и асимметричное расположение предметов. Критиковать Гердера здесь не представляет труда. Важно, однако, отметить другое: для своего времени его воззрения были значительным шагом вперед.
У Гердера были непосредственные предшественники, говорившие об объективном характере прекрасного. Гаман видел гармонию мира, красоту природы. Шефтсбери (1671–1713) рассматривал в единстве этическое и эстетическое начала. Гердер был многим обязан и тому и другому. Но, следуя традиции Винкельмана и Лессинга, он все дальше уходил от идеализма в сторону пантеизма, окрашенного в материалистические тона. Для Гамана красота природы есть откровение создавшего эту природу внеприродного бога. Гердер придает красоте естественный характер, божественное начало уступает у него место человеческому, антропологическому. «Всякая форма возвышенного и прекрасного в теле человека есть собственно форма здоровья, жизни, силы, процветания в каждом органе этого высокохудожественного создания, так же как и все безобразное есть и всегда останется только уродством» (4, т. 3, стр. 124).
Эти идеи, как бы предвосхищающие Фейербаха и Чернышевского, Гердер наиболее полно развивает в «Каллигоне», посвященной разбору эстетической теории Канта.
Красота, по Канту, доставляет человеку удовольствие, но это последнее принципиально отличается от удовольствия, которое дает приятное и доброе. Тем самым Кант старается подчеркнуть независимость прекрасного от практического интереса. Интерес всегда носит личную окраску, в то время как эстетическое удовольствие совершенно лишено партикулярности, оно всеобще. Вместе с тем эстетическая всеобщность в отличие от логической всеобщности основывается не на понятии, а на чувстве, прекрасное нравится независимо от понятия о предмете. Красоту человек воспринимает как форму целесообразности, но только как форму, без какого-либо представления о цели. Прекрасно, по Канту, то, что необходимо нравится всем без всякого интереса своей чистой формой. Этот кантовский тезис (как и многие другие) сопровождается своеобразным антитезисом: Кант говорит, что помимо «свободной» красоты существует красота «сопутствующая», связанная с понятием о цели и совершенстве предмета (например, красота человека, здания и т. д.), и это не было противоречием в рассуждении, это воспроизводило реальное противоречие объекта. Гердер на подобные оговорки внимания не обращал.
Гердер согласен с Кантом, что словами «приятное, прекрасное и доброе (хорошее)» выражаются различные понятия. Неприятное лекарство оказывает хорошее действие, самая красивая розга никогда не будет приятна ребенку, если его будут сечь. Но все дело заключается в том, что эти понятия родственны и, следовательно, граничат друг с другом. Важно установить, где проходит эта граница, как она их разделяет и связывает. Одна только констатация их противоположности не решает проблемы. Гердер различает приятное низшего и высшего порядка. Первое связано с удовлетворением биологических потребностей поддержания жизни, второе – специфическая характеристика духовной деятельности. Приятное, даже вызываемое самыми элементарными ощущениями (запах, вкус), есть «свидетельство об истине и добре, разумеется, в той степени, в которой их могут охватить эти чувства». Ощущение радости или неудовольствия связано в данном случае с сохранением жизни, предотвращением вреда и т. д. Один из первых шагов, который человечество сделало по направлению к культуре, состоял в том, что люди стали избегать всего, вызывающего в них отвращение.
Кантовскую теорию о незаинтересованной красоте Гердер отвергает, утверждая противоположное: ничто не может нравиться без интереса, красота представляет для ощущающего величайший интерес. Человек заинтересован в красоте прежде всего потому, что прекрасное выступает как форма истинного. Кант считает прекрасное выражением субъективного чувства, Гердер выводит это понятие из природы самого предмета. Для Гердера красота есть высшая ступень в существовании предмета, его «максимум», его совершенство, раскрываемое нашими чувствами. Красота носит органический характер, она проявляется там, где части сливаются в единое гармоническое целое. Цветы, деревья, животные могут быть прекрасны, и их красота заключается в наиболее полном проявлении их жизненных сил, «максимума» их бытия. Красота есть чувственное выражение совершенства.
Вместе с тем констатация объективной основы красоты – только первый шаг в гердеровском анализе прекрасного. «Ни один разумный философ не рассматривал объективное соответствие вещи красоте без субъективного представления того, кто ее находит прекрасной. Сама по себе вещь такова, какова она есть, – „совершенна по своей сущности или несовершенна; прекрасной или безобразной она становится для меня по мере того, как я познаю или чувствую ее совершенство или несовершенство“» (7, стр. 74). С точки зрения Гердера, красота имеет объективную, природную основу, но проявляется она только там, где человек вступает во взаимодействие с этой основой. Красота человечна, человек – «изобретатель красоты», он видит повсюду. образы, слышит тона, ощупывает формы, человек – всегда художник, в человеке мера красоты.
Эти свойства человека объясняются тем, что он представляет собой высший продукт природы, наиболее совершенное ее произведение, способное понять и оценить другие ее создания. Гердер приводит из одного восточного предания разговор животных с человеком, где коршун говорит: «Что общего у тебя со мной, незнакомец? У меня нет того, чем одарила тебя природа. Нет у меня твоего осязания, твоей сверхчувствительной кожи, твоего рта, твоих челюстей. Я покрыт жесткими перьями, вооружен клювом и когтями, твоей земли я почти не касаюсь, живу в своей стихии, повинуясь другим чувствам и стремлениям». Подобные речи человек слышит и от других животных, каждый обращается к нему на своем языке, исходя из своего замкнутого мира. Но человек, замечает Гердер, говорит от имени всех, «он воплощается, насколько может, в любую натуру» (7, стр. 53) и благодаря этому становится судьей мира и его красоты.
Невольно напрашивается сопоставление этой идеи Гердера с известным высказыванием К. Маркса о том, что «животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты» (1, стр. 566).
Однако не следует забывать, что эстетика Гердера базировалась на весьма ограниченной гносеологической основе созерцательного пантеизма. Человек для Гердера – всего лишь высший продукт природы, наделенный волшебной, неизвестно откуда появившейся способностью эстетического восприятия. Маркс совершенно чужд подобному абстрактному антропоморфизму, человек для него не просто «вид» природы, сама природа выступает по отношению к нему как «вид», как вместилище его универсальной деятельности.
Формализму Канта, его точке зрения, согласно которой эстетический предмет может нравиться только своей формой, Гердер противопоставляет учение о единстве формы и содержания. «Форма без содержания – это пустой горшок, осколок. Всему органическому дух придает форму, которую он оживляет; без него она мертвая картина, труп» (7, стр. 158). У Аристотеля, впервые выдвинувшего понятие формы, последняя рассматривалась как существенность самой вещи, в неразрывной связи с материей, с действующей причиной и целью. Кант же абсолютизировал форму. При этом Гердер не впадает в другую крайность, он далек от отрицания значения художественной формы. Красота для него – форма, в которой проявляется сущность вещи, творчество художника – создание идеала, т. е. раскрытие сущности вещи путем придания ей определенной формы.
Красота в искусстве есть единство содержания и формы. Задача художественного произведения – выразить в индивидуальной форме значительную идею, «в единичном увидеть основу, характеризующую целый род» (7, стр. 254). Поэтому Гердер отличает подлинного художника от копииста, который хотя и точно воспроизводит натуру, но лишает ее идеи. Художественная форма есть специфическое единство общего, существенного и индивидуального, неповторимого; для обозначения этого единства Гердер все чаще пользуется категорией «особенное».
Эстетика Просвещения искала понятие для характеристики связи общего и единичного в произведениях искусства. Лессинг, в частности, ясно поставил эту проблему, хотя и не мог ее решить, так как для него особенное было синонимом единичного. Наиболее решительный шаг вперед к пониманию проблемы сделал Гёте. Значительной была и роль Гердера в анализе категории особенного как одного из центральных понятий эстетики. Еще в «Пластике» (1778) Гердер писал, что в искусстве «всякое всеобщее существует только в особенном и только из особенного возникает всеобщее» (4, т. 3, стр. 124). В «Каллигоне» эта мысль, получает дальнейшее развитие. Эстетическое наслаждение в искусстве рождается тогда, («когда в особенном созерцают всеобщее, ищут между ними границу и не могут ее найти» (7, стр. 255).
Гердер вплотную подошел к пониманию типического как особенного, с наибольшей полнотой выражающего всеобщее. Для обозначения красоты природы он широко пользуется термином «тип», подчеркивая, что это понятие подводит и к пониманию красоты произведений искусства. Сущность типизации как обобщения и одновременно индивидуализации Гердеру известна. Он восстает против попыток Канта свести красоту к среднестатистическим показателям. По Канту, идеал мужской красоты – это средняя величина большого числа, допустим, тысячи мужчин. Ее можно получить «механически, если всю эту тысячу размеров по их высоте и по их ширине (и по их толщине) сложить вместе и сумму разделить на тысячу» (17, стр. 83). И хотя Кант оговаривает, что художники полагаются на динамический эффект воображения, не прибегая к действительному обмеру, он остается в целом на механистической точке зрения в понимании художественной типизации. Даже если в этой тысяче, возражает Гердер, не будет значительного количества великанов или карликов, чахоточных или фальстафов, все равно результатом сложения и деления величин не будет красота. Художнику не нужно собирать тысячу людей, чтобы создать образ определенного человека, наоборот, он должен отстраниться от всех других образов. Чем необычнее для грубого глаза покажется картина, тем больше она скажет знатоку. Художнику, создавшему фигуру льва в Венеции, «не надо было видеть и измерять тысячу львов. Ему для этого хватило одного бравого льва. В нем увидел художник его природу, раскрыл его идею и создал образ льва – царя зверей» (7, стр. 254).
Блестящий анализ специфики художественного обобщения мы находим на страницах «Писем для поощрения гуманности», где Гердер рассматривает пьесу «Эмилия Галотти» Лессинга. Герой, принц, выведен как представитель определенного сословия, и это сословие показано через характер принца. Герой предстает перед зрителями в различных ситуациях, в разнообразных отношениях с другими действующими лицами, и все эти элементы действия характеризуют в нем то «философское общее», в данном случае «принцевское», что составляет основу этого подлинно художественного произведения. Но в пьесе выведен не принц вообще, а «этот принц, итальянец, молодой, собирающийся жениться» (9, т. XVII, стр. 183). Слово «этот» – весьма удачное выражение предельной индивидуализации в произведении искусства. Не случайно впоследствии в аналогичных случаях им так охотно пользовался Гегель.








