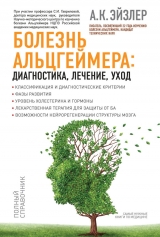
Текст книги "Болезнь Альцгеймера: диагностика, лечение, уход"
Автор книги: Аркадий Эйзлер
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
История болезни
Но бичом наступившего столетия станут не рак, не СПИД и не инфаркты. Болезнь, поражающая память и, как следствие, интеллект, будет главным наказанием людей за то, что они нашли возможность продлить свою жизнь.
Еще в начале прошлого века ученые называли БА эпидемией будущего, имея в виду необычайную скорость ее распространения.
Симптомы и признаки заболевания были известны давно. Поэт-сатирик Ювенал, живший в 60-х годах нашей эры, описывал такое психическое состояние человека, при котором он не может отличить раба от члена своей семьи.
Еще в начале прошлого века ученые называли БА эпидемией будущего, имея в виду необычайную скорость ее распространения.
В «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» Анненков пишет: «Некоторые еще помнят содержание романа «Фатама или разум человеческий», написанного по образцу сказок Вольтера. Речь идет о двух стариках, моливших небо даровать им сына и наполнить его жизнь всевозможными благами. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости, и вслед за этим его будут сопровождать почести, богатство и слава. Старики радуются, но фея ставит условие, говоря, что сей естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова не окажется в их руках беспомощным ребенком. Моральная сторона сказки состояла в том, что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему».
Алоис Альцгеймер, первым обнаруживший причины возникновения странной болезни, предпринял в начале XX века шаг, по тем временам не совсем обычный. Он вскрыл череп умершей, предполагая, что заболевание вызывается изменениями, происходящими в мозге.
Предыстория же такова: в доме для умалишенных Эмиля Сиоли во Франкфурте-на-Майне Альцгеймер в течение длительного времени наблюдал одно необычное душевное расстройство, которым страдала 51-летняя женщина. Молодой врач имел возможность изучать непредсказуемое поведение больной, поскольку ей позволялось свободно, без ограничений передвигаться по территории клиники. Альцгеймер столкнулся с неизвестным на тот момент заболеванием. Больная бродила без определенной цели, не ориентируясь в пространстве и времени. Моторика ее движений была явно нарушена, бессвязная речь сменялась полным молчанием.
Альцгеймер запротоколировал в истории болезни следующий разговор со своей пациенткой:
«Как Вас зовут?» – «Фрау Августа».
«Кто Вы?» – «Фрау Августа».
«Сколько Вам лет?» – «51».
«Где Вы живете?» – «Ах, Вы уже были у нас!»
«Где Вы живете?» – «Ах, я так запуталась!»
«Вы замужем?» – «Я не знаю. У меня же есть дочка 52 лет в Берлине».
Когда Альцгеймер просил пациентку что– нибудь написать, например цифру «пять», она писала «женщина». На предложение написать цифру «восемь», она писала «Августа». Выполняя просьбу врача, она неустанно повторяла: «Мне кажется, я потерялась».
После ее смерти, в результате тщательного обследования, в ее мозге было обнаружено большое количество отложений величиной с рисовое зерно. Корифеи тогдашней психиатрии рассматривали душевные болезни как божественную кару или как последствия распущенности. Мысль о том, что вещественные органические факторы, т. е. видимые изменения в мозге могут быть причиной, вызывающей душевные заболевания, не соответствовали духу времени. В 1906 году на собрании врачей-психиатров юго-востока Германии Альцгеймер впервые докладывал об особенной форме слабоумия, которая сопровождается резким сморщиванием головного мозга. Слушатели приняли сообщение Альцгеймера как личное оскорбление. Ни критики, ни обсуждения фактов! Молчание стало ответом ученому со стороны авторитетных коллег, присутствующих на конгрессе. Между тем врач представил интересные наблюдения: «Случай с Августой Д. полностью отличался от уже известных психических расстройств, что не позволяло причислить ее к обычным пациентам клиники. Заболевание этой женщины началось с возникновения сильного чувства ревности к мужу и продолжалось 4,5 года, вплоть до смерти. Болезнь сопровождалась глубоким помешательством, дезориентацией, потерей памяти, речи, неспособностью понимать то, что ей говорят».
Никто не задал Альцгеймеру ни одного вопроса, а секретарь, ведущий собрание, записал в протоколе: «Никакой дискуссии».
Но в историю медицины вошел именно Альцгеймер, который вскрыл череп умершей пациентки и предположил, что те видимые изменения которые он обнаружил в мозге, и были причиной заболевания. Врач, который еще на выпускных экзаменах в гимназии показал «превосходные знания естественных наук», предпринял в начале двадцатого столетия то, что в то время было совсем не само собой разумеющимся.
В 1910 году мюнхенский профессор психиатрии Эмиль Крепелин, коллега Алоиса Альцгеймера, в 8-м издании своей известной работы «Психиатрия – учебник для студентов и врачей» сделал более точное описание этого недуга: «Речь идет о медленном развитии необычайно тяжелой душевной болезни с размытыми проявлениями органических заболеваний мозга. Больные в течение нескольких лет сильно сдают в своем развитии, становятся забывчивыми, слабоумными, неясно выражаются, не могут себя идентифицировать и обслуживать, не узнают знакомых и близких, раздаривают и раздают предметы личного обихода».
Патологические изменения в мозге врачи обнаруживают и сегодня, но современные микроскопы, электронная и компьютерная техника не дают исчерпывающей однозначной информации, а та дополнительная информация, которая поступает от них, не является основополагающей для диагностики заболевания. В кабинетах невропатологов и специалистов по нервным заболеваниям звучат те же вопросы, которые доктор Альцгеймер задавал своей пациентке 100 лет назад.
Психиатры и невропатологи, собравшиеся зимой 1986 года в Базеле, несмотря на свои электронно-микроскопические снимки, точно так же, как их коллеги 80 лет тому назад, беспомощно смотрели на последствия катастрофы, разыгравшейся в мозге. Почти с философской изворотливостью пытались они выудить возможные причины или хотя бы стадии болезни. «Впечатление, которое я тогда получила – полное замешательство и беспомощность специалистов перед болезнью через 80 лет после ее открытия», – так описывает конгресс 1986 года одна из его участниц, автор книги «Большая забывчивость» А. Фуртмауэр-Шу.
Прошло еще более 10 лет, и в 1999 году на очередной конференции под названием «Молекулярный механизм болезни Альцгеймера», проходящей каждые 2 года, на этот раз в местечке Таос в Мексике, собрались более 200 ученых-микробиологов со всего мира.
Так случилось, что как раз во время открытия этой конференции по американскому каналу ABC передавалось интервью обозревателя канала Барбары Вальтере с Моникой Левински на тему ее взаимоотношений с президентом США. Вся страна замерла у телевизоров. И в этот же вечер, точно в 20 часов, одновременно с началом интервью, на трибуну конференции с приветственной речью поднялся лауреат Нобелевской премии 1997 года, биолог Калифорнийского университета Сан-
Франциско Стенли Прузинер. Он начал свою речь, пожимая плечами: «Я не могу конкурировать с Моникой, ибо всем, я думаю, понятно, что ничего нового мы на этой конференции не узнаем».
Итак, накануне нового столетия и тысячелетия выдающийся авторитет признает очередное поражение мировой науки в борьбе с БА, и это несмотря на то, что каждое новое десятилетие нам обещают наконец-то покончить с недугом с помощью современных методов.
В опубликованном в 1997 году объемном энциклопедическом издании монографии «Болезнь Альцгеймера. Руководство-справочник (неврология, диагностика, терапия)», объемом около 1400 страниц, авторы, крупнейшие европейские специалисты по БА, в предисловии сообщают о трудностях, которые нужно принимать во внимание: «Широта противоречивых диагностических составляющих (направлений, методов и т. п.) при сильно отличающихся друг от друга критериях ясно и четко доказывает, что невропатологические обследования и исследования могут дать однозначный и окончательный диагноз только при вскрытии мозга умершего человека». Далее авторы пишут: «Клинические, радиологические (КТ, МРТ) и функциональные – SPECT (Singl Photon Emission – простая фотоно-эмисионная компьютерная томография), РЕТ (позитронно-эмисионная томография) – методы обследований не могут обеспечить 100-процентно точной диагностики БА.
Многие опубликованные работы, касающиеся причин возникновения БА, больше похожи на псевдонаучные спекуляции. Их утверждения в действительности не базируются на реальных знаниях изменений, происходящих в человеческом мозге. Наличие большого количества мнений показывает, что должен пройти еще длительный период времени, прежде чем будет найдена удовлетворяющая всех теория возникновения БА. Возможно, из бесчисленного изобилия данных когда-нибудь родится новая единая концепция.
Пациенты и их близкие надеются и верят, но отрицательные результаты в борьбе с болезнью приносят лишь разочарования. Неспособность современной медицины эффективными терапевтическими методами вторгнуться в существующее положение вещей показывает беспомощность сегодняшних врачей. Если принять во внимание то, что многие механизмы возникновения и развития болезни досконально не выяснены, можно признать отсутствие унифицированной гипотезы патогенеза, которая может являться единственно верной.
Прогрессирующее заболевание заставляет постоянно ухаживать за больным и держать его под наблюдением. При этом наравне с самим больным в процесс болезни оказывается вовлеченным еще как минимум один член семьи, который принимает на себя все возрастающую тяжесть ухода за пострадавшим. Современное развитие и финансирование здравоохранения не позволяет государству полностью брать на себя обслуживание подобных пациентов, поскольку это требует слишком больших затрат. Но и не все родственники в состоянии возложить на себя столь дорогостоящие обязанности.
Если осмыслить сложившееся положение, можно увидеть, как социальные основы государства, неспособного обеспечить соответствующий уровень ухода за больными людьми, будут однозначно и необратимо подорваны.
Все понимают: здоровое общество стоит денег. Государство не должно перекладывать на кого-либо другого свою ответственность перед гражданами. Государство служит личности, а не наоборот. Это и есть предпосылки истинной демократии.
Проблема касается всех и каждого. Любой человек может оказаться под гнетом разрушительного воздействия БА, независимо от интеллектуальных возможностей, социального статуса и материального положения. В список пострадавших уже попали такие известные личности, как мыслитель и философ Эммануил Кант, американский писатель Марк Твен, интеллектуал Герберт Вернер, бывший президент США Рональд Рейган, богиня Голливуда Рита Хейворд, виртуоз советского футбола Игорь Нетто, звезда советской эстрады Клавдия Шульженко, звезда мирового футбола Ференс Пушкаш.
А что нового принесло нам начало столетия в диагностике, выявлении причин и механизма возникновения БА?
В 2003 году на вопрос редактора немецкого журнала «Bunte» относительно генной теории происхождения БА – теории, с которой многие ученые связывают большие надежды, – профессор Ханс Георг Нехен, руководитель клиники памяти в немецком городе Эссен, специализирующийся на лечении повреждений функциональной деятельности мозга, ответил: «Не существует одного-единственного гена, который бы необратимо и обязательно вел к этой болезни. В экстремально редких случаях – только в одном случае из 1 000 – БА переходит в рамках семьи от одного поколения к другому. К тому же должны совпадать и другие генетические условия».
На заданный профессору вопрос, известны ли причины возникновения БА, последовал его угрюмый, доходящий до капитуляции человеческих усилий ответ: «Действительно, проведено очень много опытов и исследований. Но они ничего не принесли. Единственный точно установленный фактор риска БА – это старость. Люди моложе 60 лет почти не болеют этой болезнью».
Как прав профессор в своей безнадежности и как не прав в отношении возраста! Пример моей жены, да и многие другие показывают, что болезнь может прийти гораздо раньше.
Горечь пессимизма слышна в его словах: «Современная медицина, к сожалению, не может обнадежить больных. Сенсационный скачок или прорыв в борьбе с БА до настоящего времени не произошел, а что касается работ по применению вакцин, то практическое избавление от болезни можно наблюдать только у крыс».
Единственный точно установленный фактор риска БА – это старость. Люди моложе 60 лет почти не болеют этой болезнью.
Пессимизм профессора, отчаяние миллионов больных и их близких не обескураживают более оптимистичных ученых, которые находятся в постоянных поисках новых средств борьбы с этой болезнью. Острота проблемы, с одной стороны, ускоряет возникновение новых взглядов и концепций, которые некоторыми светилами науки используются для привлечения новых финансовых потоков. С другой стороны, многие специалисты не хотят расставаться с надеждой, иногда переходящей в иллюзии. Третьи упорно продолжают идти неизведанными путями, мало-помалу раскрывая тайны этой коварной болезни.
Вопрос, который стоит в названии этой части – что мы знаем? – не сводится к доступной инвентаризации всех достижений современной науки в поисках средств борьбы с БА, начиная со времени ее открытия, ибо таких средств попросту еще нет. Речь пойдет о возможных путях и направлениях, ведущих к пониманию механизмов возникновения и развития этой болезни, которыми идут ученые разных стран и специализаций, включая биологов, нейробиологов, химиков, которые впоследствии сузили области своих исследований до протеиновых, инфекционных и генетических. За последние два десятилетия было сделано несколько сотен важных открытий, из которых, словно из мозаичных мелких камешков, удалось как бы создать картину понимания различных аспектов возникновения и распространения БА. Многое стало доступным и послужило основанием для новых дискуссий, гипотез и рассуждений.
Поражение мозга БА
Однако прежде чем соприкоснуться с миром теоретических предпосылок и фантастических прогнозов, гипотетических рассуждений и почти метафизизических допущений и абстракций, обратимся к картине функционирования головного мозга, подвергающемуся воздействию БА.
Она начинает свою разрушительную работу в той части мозга, в которой происходит соединение мышления с чувствами, в т. н. энторинальной коре, находящейся в области внутренней части мозга, ответственной за обоняние, и гиппокампе – части лимбической системы. Оттуда, как лавина, разрушение распространяется по пути длиной в четверть метра, состоящему из нервных клеток, и далее – до коры больших полушарий мозга, которая у человека особенно сильно развита. И не случайно, исследования последних лет сконцентрированы именно на этом пути развития болезни, ибо больной в первую очередь теряет способность определять запахи, его обоняние резко падает или пропадает вовсе. И большинство тестов, разработанных в последнее время, сводится к раннему определению БА именно в этой части мозга. Мы знаем из опыта, что запахи вызывают определенные чувства и настроения. Даже сегодня, если кто-то нам не нравится, мы употребляем выражение: «Я его на дух не переношу». И наоборот, сильное раздражение, напряжение, агрессия, страх вызывают определенные запахи различных частей тела. У животных, например у мышей, за обоняние ответственен практически весь большой мозг.
Наш мозг грубо можно разделить на четыре части. Спинной мозг плавно переходит в заднюю часть головного мозга. Здесь находится управление функциями жизнедеятельности человека: дыханием, пульсом, ритмом сердца и давлением. Затем следует средний мозг и промежуточный мозг с гормональными железами, гипофизом и гипоталамусом, которые управляют гормональным обменом веществ.
«Мозговой ансамбль» прикрыт большими полушариями мозга. Этот слой, толщиной от полутора до трех миллиметров, содержит 70 %наших нервных клеток. Из-за высокой клеточной плотности большая кора головного мозга представляется серой. Она разделяется на различные корковые поля, состоящие из клеточных образований или соединений, которые наделены различными функциями. Например, нервные клетки в моторных частях коры головного мозга управляют двигательной системой человека, в то время как в сенсорных полях коры головного мозга перерабатываются восприятия человеческих чувств.
Человек способен выполнять 104 движения телом, головой, конечностями, причем все они воспроизводимы. Например Гитлер, создавая свой образ оратора, политика и общественного деятеля, учился движениям у великих актеров своего времени.
В глубине мозга, находятся, выражаясь компьютерной терминологией, накопители и счетчики чувств: это лимбическая система. Такие чувства, как любовь и ненависть, радость и агрессивность разрабатываются в части мозга, ответственной за обоняние, которая, как мы уже установили, называется энторинальной корой.
В верхней части нашего мозга и находятся те самые накопители – приемщики и счетчики процессов мышления, логики, и особенно все то, что определяет интеллект человека, и именно в этой части БА разрушает связи между мыслящим, или думающим, и чувственным мозгом.
Так называемое «короткое замыкание» в мозге, разрушающее контакты между нервными клетками и вызывающее БА, начинается в «разделительной части», которая посредничает между мышлением и чувствами – в энторинальной коре. Это открытие было сделано сравнительно недавно во Франкфурте нейроанатомом Хейко Брааком.
Внутренняя область части мозга, ответственная за обоняние, которая в передней височной части соединяется с гиппокампом – областью лимбической системы – сильно увеличилась в ходе развития живого мира от примата до человека.
Человеческий мозг, с учетом большой погрешности, состоит из 30-100 млрд нервных клеток. При расчете следует исходить из того, что примерно 30 нервных клеток помещаются в один куб с длиной стороны 100 mm. Общая длина нервных окончаний мозга составляет 75 км, а включая межклеточные соединения – 500 тыс. км. Для того чтобы просто пересчитать клетки мозга, необходимо 23 млн лет.
Когда человек думает, например при игре в шахматы, он теряет до 2–3 кг за одну партию.
Нервные клетки во всем своем множестве объединены в различные группы и группировки, которые соединены между собой, образуя единую электрохимическую систему. Со всех областей думающего мозга, по нервным дорогам и дорожкам бегут сигналы через энторинальную кору, дальше, к лимбической системе, которая заботится о наполнении чувствами и настроениями процессов мышления и действия.
Различные информационные потоки не только проскакивают через энторинальную кору, они также в ней временно задерживаются, взаимосвязываются и взаимодействуют.
Все, о чем мы думаем, что мы видим, переживаем, в энторинальной коре будет смешано с чувствами, оценено и осмыслено, приобретая чувственный оттенок и окраску. Все, что нас глубоко волнует или, наоборот, кажется нам скучным и неинтересным, вызывая у нас радостное или траурное настроение, все это решается именно здесь.
При этом все нервные пути из думающего мозга в энторинальную кору должны пройти через узкую «улицу» – «трактус перфоранс». Другого пути или альтернативы не существует – его нельзя ни обойти, ни избежать. И именно этот путь в первую очередь разрушается при развитии БА. Отсюда процесс распространяется, словно пожар. Болезнь действует, как тонкий стратег и ведет себя, действуя в своей агрессивности согласно бескомпромиссной и категоричной оценке ситуации: «Его не объехать, не обойти, единственный выход – взорвать», – данной великим поэтом советской эпохи Маяковским, применительно к совсем другой проблеме. Именно взрыв, переходящий в пожар, на стратегически самом уязвимом месте напоминает эта болезнь, нанося свой коварный удар по человеческой жизни.
Больной при этом еще полон сил и энергии, еще может говорить, чувствовать и мыслить, но делает все это уже не так, как здоровый человек – он не может все это логически связать вместе, осмыслить, сделать выводы из всех охватывающих его ощущений.
Повреждению подвергается и сам гиппокамп, хотя и в меньшей мере, по сравнению с энторинальной корой.
Гиппокамп – это та часть мозга, которая отвечает за превращение краткосрочной памяти в долгосрочную. Он также участвует в процессах запоминания и внимания в рамках краткосрочной памяти. Его разрушение ведет к тому, что пациент может удерживать поступающую к нему информацию только короткое время.
Страдает от БА и миндалевидное ядро мозга – структура в лимбической системе, лежащая глубоко за височной частью мозга.
Этот исторически развитый, «старый» отдел мозга обеспечивает и наделяет содержание памяти не только эмоциональными оттенками, но также в значительной мере ответственен за возможность самого процесса восприятия. В миндалевидном ядре принимается решение о степени важности поступившей информации – нужно ее сохранить и запрограммировать в памяти или отсеять и забыть как несущественную?
БА поражает и затылочную область головного мозга, где расположены центры зрения, слуха и осязания, связанные с областями принятия решений. То же самое происходит и в лобовых областях, ответственных за способности к языкам, музыке и расчетам.
Картина процесса поражения мозга БА, описанная здесь, не возникла в представлениях ученых неожиданно, а явилась результатом многолетних попыток исследователей раскрыть механизмы возникновения и развития, определить причины появления БА. То, что мы знаем о болезни сегодня – это результат синтеза последних достижений различных направлений науки и техники. С того времени как Альцгеймер впервые увидел отложения в мозге больного в виде бляшек и узлов, не прошло и ста лет, но уже появилось более 1500 книг, брошюр и статей, на титульных листах которых значится имя Альцгеймера.
Большую часть этого времени психиатры и невропатологи вели дебаты о связи БА с бляшками, нейрофибрильными узлами и нейронными отложениями с учетом развивающихся методов диагностики, исследований и анализов, не приходя при этом ни к однозначной оценке и корреляции этих связей, ни к разработке методов борьбы с ними. Тем не менее изучение мозга все это время интенсивно продолжалось, начиная от простого установления влияния веса мозга на его функции и заканчивая разработкой сложных методик, например, определения степени пораженности болезнью Альцгеймера.
В середине 80-х годов XX столетия в процесс изучения БА стали вмешиваться ученые, занимающиеся молекулярной биологией.
Примерно в эти же годы в Америке эта болезнь, разрушив существующее табу, предстала перед глазами широкой общественности.
В 1976 году богиня Голливуда сороковых годов, всеми любимая Рита Хейворт, именем которой была названа первая американская атомная бомба, без присмотра безумно бродила вдоль улиц Беверли-Хиллз. Позднее, в конце 80-х годов, уже неспособная что-либо сказать, неподвижная, в полной отрешенности от всего мира, она умирала в Нью-Йорке. И тогда впервые ужасная картина страданий прорвалась к сознанию общественности Америки.
Газету именно с этим сообщением показала мне моя жена, сообщив, что эта болезнь станет причиной ее смерти.
Известно, что президент США Рейган (впоследствии также ставший жертвой этой болезни) в 1982 году, потрясенный заболеванием и смертью своей коллеги по кинематографу, спросил Жоржа Гленнера, директора университета молекулярной патологии: «Что это за болезнь?» – и получил ответ, что речь идет о бляшках и узлах, которые образуются в сером веществе мозга и препятствуют снабжению информацией нейронных клеток. После такого объяснения Жоржа Гленнера Рейган улыбнулся и, внимательно посмотрев на ученого, сказал: «Все, что я знаю об этом – это то, что моя мать умерла в приюте, в конце жизни не узнавая меня».
На эту встречу с Рейганом Гленнер привел с собой Завена Хачатуряна, молодого ученого, которому была поручена организация научно-исследовательских институтов по всей Америке для фронтального наступления на БА. Ознакомившись с состоянием вопроса, он приходит к заключению: «Мы обязаны решить эту проблему, иначе потерпим страшное поражение, потому что число пострадавших будет увеличиваться в два раза каждые 20 лет. Одновременно по нарастающей будет удлиняться период ее протекания. Но это еще не самое страшное. Люди, которые сейчас страдают БА, пережили Первую и Вторую мировые войны, годы тяжких экономических депрессий, некоторые имеют университетское образование (правда, большинство его не имеют). Те, что получат БА в следующем столетии – это представители поколений периода высокой послевоенной рождаемости. В большинстве своем они имели лучшее образование и лучшее питание, поэтому продолжительность БА у них увеличится, по сравнению с теперешними больными…Если всесторонне оценить значение этой болезни для общества, то это не только страдания и боль, которые, с точки зрения личности, весьма важные аспекты. Речь идет о периоде болезни и о том, насколько долго общество сможет себе позволять такое обременение. Рак и инфаркт имеют определенную продолжительность β-5 лет), вынуждая больного быть зависимым от общества на этот относительно короткий срок. С БА иначе. Срок может растянуться на 20 лет. В это время физически вы живы, не имеете никаких болей, нормально выглядите и, тем не менее, имеете БА и не можете быть независимы».
Жорж Гленнер, владеющий исчерпывающей информацией о состоянии исследовательских работ, направленных на борьбу со столь коварным недугом, знал также и о препятствиях, которые сдерживали поиски ученых, в частности, о неприступности амилоидных отложений, являющихся одной из главных предполагаемых тогда причин нарушения нормальной мозговой деятельности. Именно после этого разговора, а также после публичного обнародования факта заболевания самого президента Рейгана БА американская общественность все больше и больше стала поворачиваться лицом к этой трагедии, распространяющейся с быстротой эпидемии. И именно это внимание общественности было своего рода «стартовым выстрелом» для ученых в интенсификации их борьбы с этой болезнью, благодаря увеличению финансовых потоков.
В Европе психиатры считали эту болезнь чисто американской, которой по эту сторону Атлантики не стоит придавать особого значения. Но вскоре все резко изменилось.
Немецкой группе, руководимой Конрадом Бейройтером, в условиях лаборатории удалось преодолеть одно из препятствий – растворить те самые, до сих пор считавшиеся нерастворимыми, отложения, которые впервые в начале XX века увидел в мозге больной женщины и описал Алоис Альцгеймер и о которых уже в конце двадцатого века Жорж Гленнер докладывал Рейгану. Тем самым было положено начало научным поискам, которые продолжаются до сих пор.
Упоминаемая нами журналистка А. Фуртмайер-Шу с большим драматизмом описывает свой первый контакт с этой ужасной болезнью в феврале 1986 года.
В качестве корреспондента гамбургской еженедельной газеты «Die Zeit» она посетила симпозиум по анализу старения в Базеле, который регулярно проводит швейцарская фармацевтическая фирма «Сандос».
Заснеженные улицы базельской индустриальной метрополии располагали к хорошему настроению. Но журналистка не замечала прелестей швейцарской природы даже в самую снежную зиму двадцатого столетия. Перед ее глазами стояли кадры диапозитивов, показанные медиками различных стран мира. Это были срезы мозга людей, умерших от БА.
Микроскопические съемки срезов различных областей мозга были усеяны звездо-, кругообразными или подобными волоскам структурами, которые были окрашены в черные или фиолетовые тона. Они показывали характерные для этой болезни отложения. Собравшиеся в зале беспомощно разглядывали красочные диапозитивы с изображением разрушений мозга больных БА. Посредством наивных, неоднозначных толкований и намеков они рассуждали о звездообразных волокнистых отложениях, прорастающих в нервные клетки структурных тканей мозга, о нейрофибрильных узлах, о васкулярных амилоидах в кровеносных сосудах. Драматизм, с одной стороны, в смысле понимания надвигающейся проблемы, и полная прострация в научной подготовленности к борьбе с ней, с другой стороны, – такова была атмосфера, царившая на симпозиуме.








