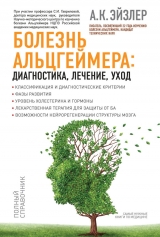
Текст книги "Болезнь Альцгеймера: диагностика, лечение, уход"
Автор книги: Аркадий Эйзлер
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Ретрогенез – назад в младенчество
Невропатолог Бэрри Райзберг из Нью-Йоркского университета открыл в 1980 году, что аналогия между периодом младенчества и БА – это не просто анекдот. Он подтвердил это сходство на научной основе. Райзберг был первым, кто посредством набора показателей определил и разграничил стадии течения болезни и попытался основательнее изучить течение БА. Чем доскональнее он углублялся в процесс перманентной утраты различных функций у больных БА, тем отчетливее становилось сходство этого процесса с развитием ребенка, но с обратной динамикой. Это затрагивало сферы познавательных функций, координации, речи, приема пищи, поведения.
Райзберг документировал свои наблюдения в таблицах. Если их положить рядом, можно установить полное сходство первой фазы развития ребенка и последней фазы развития БА: ребенок в возрасте I -3 месяцев начинает держать голову, больной БА в последней, 7-й стадии, больше голову держать не может.
Установлено, что активность ЭЭГ, обмен глюкозы в мозге и нервные рефлексы также подвержены обратному развитию. Райзберг пришел к единственно правильному заключению, что мозг, подобно огромному клубку из нитей, разматывается и снова сматывается. Под воздействием БА процесс сматывания происходит в динамике, обратной процессу разматывания «клубка». После Райзберг назвал это «ретрогенезом» – назад к рождению. Проф. Э.Я. Штернберг (1967, 1977) также указывал на эту закономерность, названную «законом Рибо».
Разумеется, ретрогенез – не абсолютно обратное развитие мозга. Но процесс деструктивного развития поразительно напоминает процесс становления по наличию одинаковых стадий.
Это познание позволяет нам лучше понять БА. Представьте себе, что быстрое развитие какого-либо знакомого вам подростка вдруг останавливается и идет в обратном направлении с такой же скоростью. Приблизительно через 12 лет этот подросток забудет все, чему он научился до сих пор, и этот процесс будет протекать медленно и непрерывно. Вначале он потеряет чувство юмора и свою манеру одеваться. Затем можно наблюдать, как угасает его честолюбие. Потом исчезает все, чему он научился в школе, от своих родителей, друзей, телевидения. Пропадает чувство восприятия внешнего мира и своего места в нем. Из недели в неделю он теряет словарный запас, независимость и свободу личности. Все труднее справляется с устным счетом и в конце концов забывает, что такое «мороженое». Когда-нибудь он не сможет сам выбрать нужную одежду. Большую часть сказанного им можно будет понять лишь с трудом, и наоборот – он не будет понимать многого, сказанного ему. Еще раз вспомните неопубликованную сказку Пушкина и представьте себе, что подросток превращается в неразумного младенца.
Этот мысленный эксперимент помогает нам удивительно хорошо представить, как БА разрушает разум, душу и тело.
Понятно, что сравнение БА-пациентов с детьми трудно принять персонам, ухаживающим за ними. Детей мы воспринимаем легко в качестве «несмышленышей» и с радостью несем за них ответственность. Но представить себя в роли опекунов наших старших родственников – родителей, дедушек, партнеров, бывших для нас всю жизнь авторитетом, – печально и горько. Это большая трагедия – рассматривать своих предков и партнеров как безавторитетных, интеллектуально неполноценных, зависимых персон. Тем не менее исследования ретрогенеза в какой-то мере помогают родственникам, ухаживающим за больными БА, переносить невероятные психические нагрузки, наблюдая, как к любимому ими человеку снова возвращаются детские представления и детские черты. И можно сказать, что, переживая вместе с больными процесс ретрогенеза, эти люди начинают по-другому смотреть на жизнь.
Когда в 90-х годах концепция ретрогенеза была признана медициной, началась новая фаза в области преодоления БА. Ученые стали пытаться сводить воедино все достижения в области биологии и психологии. Так, к примеру, Бэрри Райзберг подверг больных с резко выраженной деменцией тестированию, которое изначально было разработано для маленьких детей и базировалось на теории развития, автором которой являлся Жан Пежо. Этот эксперимент имел полный успех, так как не требовал для своего проведения способности говорить, и с его помощью можно было проверить больных БА в поздних стадиях, что ранее было невозможно. Огромное значение этого эксперимента состоит в том, что стало возможным определить, какие способности уже утеряны больным и утрату каких можно ожидать на следующем этапе болезни. Так можно лучше подготовить родственников, ухаживающих за больными, к будущим испытаниям, помочь им отличать закономерные отклонения в поведении больных от случайных и осознать особое их положение во взаимоотношениях с обществом.
В истории познания и обоснования эволюционных теорий, в частности, применительно к генетике, существовало множество и ошибочных интерпретаций, например, так называемая теория дегенерации, которая была наиболее экстремистской из их числа.
Цивилизованное человечество воспринимает новое как чужое, отталкивающее. Известная итальянская журналистка Ариана Фаллачи спросила бывшего духовного лидера иранских шиитов Хомейни, что он знает о Бахе. Хомейни ответил, что он не знает Баха, и шииты не хотят знать Баха, точно так же, как европейцы не хотят знать Магомета.
Интеграция – это не около, это вместе. Демократические принципы построения общества всегда предопределяли и допускали наличие и сосуществование различных по культуре, духу, религии и другим критериям сообществ и групп людей. Именно наличие таких разных слоев и категорий определяет многообразие общества, делает его общий уровень широким и многосторонним на основании взаимного проникновения и обогащения.
Но какого обогащения – духовного, морального, культурного или материального – можно ожидать от многочисленных неизлечимо больных людей, прикованных навечно к кроватям, к поддерживающим их жизнь современным машинам и установкам? Все станет на свои места, если поставить такой вопрос не от нас к ним, к ущемленным людям, а наоборот – от них к нам? Чего они ждут от нас? И ответа не придется долго ждать – милосердия! Именно милосердие к нашим обделенным соотечественникам обогащает нас, делает нас носителями и обладателями самой высокой морали – гуманизма.
И именно этой морали противостоит теория дегенерации, разработанная студентом психиатрии и теологии Августином Морелем.
Согласно этой теории, эволюция позаботилась как о выживании сильных представителей вида, так и о том, чтобы слабые особи были обречены на гибель, в связи с тем, что нежелательные характеристики не только передавались бы по наследству, но и были бы усилены в следующем поколении. Морель писал: «Эти отклонения, как бы минимальны они ни были в самом начале, обладают способностью передаваться по наследству и усиливаться, так что пациент уже не в состоянии выполнять свое назначение в этом мире. Отклонения в умственном развитии, имеющиеся у пациента, будут еще более заметны у его потомков». От поколения к поколению нарушения в развитии будут усиливаться, всему роду грозит дегенерация. Здоровье всего человечества зависит от гибели и уничтожения носителей дефектных генов.
Сама идея о том, что наука может помочь человечеству, уничтожая людей с «плохими» генами, была полна извращенности, основанной на невежестве и завышенной самооценке. Но в научном вакууме, существовавшем в то время (1850–1860), эта теория нашла своих последователей. Во всей Европе врачи прилежно занимались составлением списков физических и умственных отклонений, означавших дегенеративные изменения, присущие той или иной семье.
В Германии в 1905 году было создано общество расовой гигиены, ставившее своей целью защиту цивилизации от «генетической нечистоты». Эмиль Крепелин и Алоис Альцгеймер также являлись членами этого общества. И хотя «теория дегенерации» не была откровенно расистской, но тем не менее она подтолкнула немецкое общество на скользкий путь этических предубеждений и ненависти к «чужим». Логическое завершение этого пути – уничтожение Гитлером евреев, цыган, гомосексуалистов, физически и умственно неполноценных людей и других, в глазах общества, «дегенеративных» элементов.
Алоис Альцгеймер имел неоднозначное отношение к таким экстремистским теориям даже в силу личных причин, когда он говорил: «Возможно, в будущем мы все будем видеть яснее и действовать по другим, лучшим, принципам. Сегодня же нас ничто не может остановить – мы чувствуем себя вправе судить о второсортности детей душевнобольных родителей и решать о необходимости прерывания беременности в таких случаях».
А вот высказывания по этому вопросу нашего соотечественника, одного из выдающихся личностей XX века, «калужского мечтателя», как его принято было называть в народе, К. Циолковского, призывающего к принудительной стерилизации неполноценных людей, до последнего времени скрытых в архивах: «Произвести несчастного значит сделать величайшее зло невинной душе, равное примерно убийству или еще хуже. Так пускай же его не будет. Пусть общество, не препятствуя бракам, решительно воспротивится неудачному деторождению. Не преступник виноват в своих злодеяниях, не несчастный – причина своих горестей, а то общество, которое допустило в своей среде жалкое потомство. Поэтому неодобренное деторождение – ужасное преступление против людей, родителей и невинной души. Все общества, в особенности высшие, зорко следят за благоприятным деторождением. Насколько они и сами просвещенные родители мешают произведению слабых особей, настолько они всячески способствуют многочисленному и здоровому деторождению. Право родить должно быть предоставлено не мне, но обществу, на которое и ложатся все последствия» (1916).
«Надо всем стремиться к тому, чтобы не было несовершенных существ – например насильников, калек, больных, слабоумных, несознательных. О них должны быть исключительные заботы, но они не должны давать потомства» (1928).
Последние цитаты – это уже почти тезисы, то есть руководство к действию.
Наука как оружие – эта метафора говорит об огромном влиянии и ответственности ученых и врачей, принимающих решение о принадлежности индивидуума к числу полноценных, здоровых членов общества. И эта власть над здоровыми и больными должна контролироваться обществом.
«Шведский социализм» и игра в «тамагочи»
Существует много исторических примеров, в которых само общество или отдельные его представители создают условия, которые могут задерживать развитие индивидуума, способствуя его дегенерации и вырождению, лишая его, прежде всего, социальных контактов и сопутствующих им процессов обучения и познания внешнего мира.
И речь вовсе не идет о бомжах, которые, будучи зрелыми и полноправными членами общества, добровольно отказались от услуг современной цивилизации и опустились до уровня нравственной и социальной вегетации.
Часто приводимый пример «шведского социализма», когда государство полностью берет на себя ответственность за человека, ведет цивилизованное общество к обеднению и оскудению чувств его членов, утере таких компонентов социального общежития, как взаимопомощь, милосердие, коллективизм, сострадание и т. д., что вызывает, между прочим, и большое количество самоубийств. Бесчувственность членов общества по отношению друг к другу вызывает деформацию и подмену этих чувств, переноса их на другие объекты, в частности на животных и даже на неодушевленные предметы.
И по требованию рынка появилась, например, игра «Тамагочи» – игра в живое существо, которое проходит практически все этапы человеческой жизни: от влюбленности в противоположный пол до беременности по месяцам. Разработанное в 1996 году японской кампанией «Бандаи», это первое в мире виртуальное «домашнее животное» должно быть накормлено, напоено, выкупано. Мало того, посредством применения компьютерной техники, такая игрушка, в случае, когда ее хозяин забывал о ней и не обращал на нее внимания, могла умереть от печали и тоски.
В 1996 году по всему миру было продано 40 млн таких игрушек. Новая модель игры – «Тамагочи-плюс» – внешне не отличается от своей предшественницы, но имеет значительно больше функций. Производители «Тамагочи» считали, что их игрушка выполняет важную социальную задачу. Это подтверждалось ее спросом и сбытом в таких странах, как Япония и Швеция, где уровень самоубийств необычайно высок, и вскоре стало ясно, что забота о «Тамагочи» может нанести вред психике людей. Психиатры стали говорить о том, что люди начали слишком серьезно относиться к этой игре, которая вместо того, чтобы обучить их навыкам и подробностям жизни, стала частью самой их жизни и причиной многих аномальных ситуаций, в которых приоритеты человеческих чувств смещались в пользу виртуальной игрушки.
«Дикие дети»
А разве пример Маугли, которого волчица зачислила на свое полное довольствие и тем самым спасла от смерти, не свидетельствует о человеческой способности к обучению и адаптации к внешним условиям? Волчица, вырастившая Маугли, поставила своим примером это дело на поток: вспомним хотя бы римскую легенду о Ромуле и Реме. Не все подобные легенды и сказания правдоподобны. В них присутствуют, конечно, элементы фантазии рассказчика, религиозная, социальная и историческая интерпретация сюжета.
Для поиска примеров не следует устремлять свой взор в далекое прошлое. «Дикие дети» существуют и в действительности. Сегодня очень трудно извергам в человеческом образе подбросить кому-либо ребенка – существует очень большая вероятность быть пойманным с поличным. Тем не менее находятся такие «звери», которые оставляют детей прозябать и изнемогать в темных, холодных подвалах, на протяжении лет держат в неволе, в нечеловеческих условиях, в помещениях без окон, сексуально доводя до озверения и себя, и свою малолетнюю, беззащитную жертву, лишая ребенка возможности нормального развития.
В 1997 году «случай Марии» взбудоражил органы немецкоязычной печати. Венская учительница религии много лет подряд издевалась над своей приемной дочкой – держала ее в гробоподобном деревянном ящике, заставляя в нем спать; уходя из дома, привязывала девочку к мусорному контейнеру. Издевательства, насилие и длительная изоляция от внешнего мира заставили психику маленькой жертвы претерпеть существенные изменения. Она получала пищу из собачьей миски, регулярно подвергалась побоям. Жизнь Марии стала подобна жизни бездомной собаки, и развитие девочки было полностью остановлено. В конце концов учительница-садистка получила 5 лет тюрьмы.
Другой известный пример из 1830 года – изолированная жизнь Каспара Хаузера из Нюрнберга, детство и юность которого прошли в темном подвале. Он ничего не ел, кроме воды и хлеба. Его ноги искривились, так как в своем заточении он не мог встать и выпрямиться во весь рост, однако он видел и слышал лучше, чем нормальные люди. Однажды апатичный ребенок появился на улице, став сенсацией города. До сегодняшних дней существуют кривотолки, что Каспар Хаузер был сыном или прямым наследником великого герцога Карла. После возвращения в общество Хаузеру удалось войти в обычный ритм жизни, но секс и юмор оказались навсегда для него недоступны.
В 30-е годы прошлого столетия молодой психолог Кел-лог провел интересный эксперимент. Он поставил перед собой вопрос необычного содержания: как поведет себя детеныш обезьяны при человеческом воспитании и обучении?
Для этого 7-месячный детеныш шимпанзе по кличке Гуа и 10-месячный сын психолога Дональд должны были воспитываться как брат и сестра, члены одной семьи. По многим показателям Гуа быстрее усваивала знания, чем Дональд. Обезьянка раньше Дональда села на горшок, более ловко управлялась с ложкой и при ползании являлась образцом для мальчика. И лишь в одном Дональд оказался недосягаем – в подражании! Не обезьяна, а человек стал мастером «обезьянничания».
В 18 месяцев процесс развития речи у Дональда стал замедляться вплоть до полного прекращения: ребенок начинал «звереть». И спустя 9 месяцев Келлог прекратил эксперимент. Стало ясно, что не животное, как предполагалось, все больше будет походить на человека, а наоборот, человек ускоренно превращался в животное.
Этот эксперимент показал, какое значение приобретает подражание при воспитании «диких» детей. Кстати, Дональд впоследствии развивался нормально и стал врачом.
Сперма раскрывает секреты
Биологи, изучающие эволюцию, заглядывая в еще более отдаленное прошлое, предполагают и допускают, что на развитие видов влияют факторы окружающей среды, принимающие участие в формировании генов уже со времени беременности.
Именно с этой точки зрения следует рассматривать вопрос, поставленный известным австрийским врачом и теологом, руководителем отдела женских болезней Венского университета, профессором, доктором У. Хубером: «Почему Homo Sapiens строят кафедральные соборы и сочиняют симфонии, в то время как их «родственники» из рядов приматов этого делать не умеют?» Он как гинеколог пытается дать объяснение столь резкому различию, считая, что активность генов уже в период беременности у человека и приматов очень разная, поскольку у человека период развития и роста длится намного дольше. Это дает генам возможность «учиться» более продолжительное время, что в итоге и объясняет структурное многообразие человеческого мозга со всеми его интеллектуальными возможностями.
«Не в мозге, а в сперме лежит секрет, который делает нас людьми», – с пафосом писал недавно журнал «Neu sciense». Прозаическая причина: ученые группы Стюарта Нью-Йоркского университета обнаружили очередные гены, которые после эволюционного разделения людей и приматов особенно быстро подверглись изменениям. Они образуют протеины, которые упакованы в семенных клетках ДНК. Так называемые протамины, значение которых является определяющим в зарождении жизни, играют значительную роль в созревании спермы и влияют на шансы оплодотворения.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что протамины при нормальных условиях не могут так быстро изменяться. А то, что их эволюционное развитие тем не менее произошло очень быстро, дает нам возможность предположить, что эти изменения происходили вследствие значительного селекционного превосходства. Возможно, это было связано с процессом обучения и, соответственно, с процессом мышления и памяти – словом, с тем интеллектуальным комплексом, который и определяет статус человека. Согласно Стюарту, эти протамин-гены, вероятно, весьма активны в мозге зародыша и после его рождения.
Что отделяет нас от обезьян?
Как мы уже ранее отмечали, детеныши шимпанзе и человека внешне имеют много общего. Внутренняя форма лобовой части мозга как у шимпанзе, так и у человека одинакова. Какие же гены являются ответственными за очевидные различия между человеком и шимпанзе?
Нас отделяют от обезьян, которых мы посадили в клетки, всего 1,5 % ДНК. Действительно, у людей и обезьян 98,5 % ДНК идентичны. Это впервые было доказано в 1975 году и уже стало притчей во языцех. Многое зависит от того, где в геноме заложены эти различия – в «юнк-ДНК», в меньшей степени ответственной за информацию и несущей 95 % наследственной информации, или в функционирующем гене.
Именно эти различия, как предполагают ученые, должны наконец объяснить, почему шимпанзе находятся в клетках зоопарков, а мы по другую сторону решетки, а не наоборот.
Одно из таких различий можно увидеть уже под микроскопом: шимпанзе, так же как гориллы и орангутанги, имеют 24 хромосомные пары, а люди – только 23. Наша наибольшая хромосома, обычно обозначенная номером 2, – результат слияния двух хромосом, которые у обезьян разделены.
Было ли это слияние решающим фактором, ведущим к разделению между нашими предками и шимпанзе 5 млн лет назад в Африке? Или оно произошло позже? Никто не знает этого. Возможно, это был «антропологический прыжок» от обезьяны к человеку, который произошел в тот момент, когда соединились две хромосомы у человека, и гены, ответственные за «душу», оказались лежащими где-то в середине хромосомы № 2. Так, во всяком случае, изволит шутить острый на язык биолог Матт Ридей.
Шимпанзе, так же, как гориллы и орангутанги, имеют 24 хромосомные пары, а люди – только 23.
Внутри еще пяти других хромосом также имеются легко заметные изменения, только неизвестно, имеют ли они какое-либо существенное значение. В любом случае, ученых чрезвычайно интересует и увлекает разгадка разницы между шимпанзе и человеком, то есть стремление наконец определить геном шимпанзе.
Антрополог Свен Паабло заявляет: «Меня интересует не что общего у нас с мышью, а что отличает меня от ближайшего родственника». Эти знания помогут нам найти предпосылки и для многочисленных философских рассуждений.
Научное любопытство велико, коммерческий интерес пока незначителен. В конце концов, шимпанзе не являются полезными животными, и для трансплантационных операций, возможно, подойдет и свинья. Хотя при этом генетические различия могут играть в медицинских исследованиях очень большую роль. Шимпанзе, например, редко страдают от заболеваний раком. Они, по сравнению с человеком, обладают очень интенсивным сопротивлением многим инфекционным заболеваниям, таким как холера, малярия и СПИД.
Это может быть как-то связано с тем самым генетическим различием, которое недавно открыл Аджит Варки, биолог университета из Калифорнии: согласно его предположениям, человека от млекопитающих отличает преобладающее развитие мозговых структур, связанное с производством N-ацетилнойраминовой кислоты, которая играет определенную роль в клеточной коммуникации в период развития мозга. Наши предки вследствие мутации одного гена потеряли способность делать из нее N-глюкольнойраминовую кислоту, чем был отдан приоритет производству N-ацетилнойраминовой кислоты. Это и подтверждается, очевидно, тем, что мозг человека, уже при простом сравнении размеров, имеет в два раза больше мозгового вещества, чем мозг шимпанзе.
Различие в развитии структур мозга, как мы уже упоминали, может определяться очень небольшим количеством генов, которые регулируют деление стволовых клеток. Вальтер Мессир, ученый в области молекулярной биологии американской фирмы «Геноплекс», ищет такие ответственные гены и уверяет, что он уже обнаружил те из них, которые ответственны за процесс обучения, мышления и память. Он намерен опубликовать результаты только после получения патента. Как мы видим, начинает торжествовать материальная компонента.
Пока менее красноречив из-за отсутствия материального интереса, уже цитируемый здесь Свен Паабло: он систематически сравнивал раздражения, то есть активность некоторых генов, в различных тканях у людей, шимпанзе и резус-обезьян. При этом он обнаружил 165 генов с различными типами реакции на раздражение. Что особенно бросалось в глаза, в печени и крови типы реакций на раздражение сравнительно одинаковы как у шимпанзе, так и у людей, но не у резус-обезьян. А вот в мозге различия между типами реакции на раздражение у человека и обезьян обоих видов значительны, то есть человеческие гены активнее, и это о чем-то говорит.








