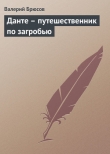Текст книги "Данте в русской культуре"
Автор книги: Арам Асоян
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Еще одна параллель, касающаяся романа и «Комедии», связана с мотивом славы. «Никому поэтическое самолюбие, – писал один из современников Пушкина, – не доставляло такой чистейшей радости, как Данте, когда он при входе в Чистилище услышал звуки своей канцоны»[220]220
Телескоп. 1832. № 17. С. 239.
[Закрыть]. В дантовской поэме жажда признания и известности соотносится с высоким самосознанием гения, полнотой развития личности и представлением о славе как высшем жизненном благе:
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной.
(Ад, XXIII, 4–6)
Вариация этой темы звучит в семнадцатой песне «Рая»:
Я многое узнал, чего вкусить
Не все, меня услышав, будут рады;
А если с правдой побоюсь дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить.
(116–120)
Эти и особенно предыдущие стихи словно отзываются в пушкинских признаниях; они, конечно, иные, на них печать иной культуры и иного жанра, наконец, иной, столь же неповторимой творческой индивидуальности, – и все же «отдаленные надежды» русского поэта как будто хранят память о дантовских стихах:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
(VI, 49)
У Пушкина, как у Данте, желание славы неотделимо от гордой веры в свое призвание, непоколебимое самостояние личности: «Ты сам свой высший суд» (III–1, 223). Завет Брунето Латини: «Звезде своей доверься…/ И в пристань славы вступит твой челнок» (Ад, XV, 55–56), – отвечал духу и позиции обоих поэтов. Один из них писал:
Толпа глухая,
Крылатой новизны любовница слепая
Надменных баловней меняет каждый день.
И катятся, стуча с ступени на ступень
Кумиры их, вчера увенчанные ею.
Это звучит как эхо дантовских строк:
Мирской волны многоголосый звон –
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.
(Чист., XI, 101–102)
Когда-то A. A. Бестужев заметил: чужое «порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры»[221]221
Бестужев-Марлинский A. A. Сочинения: В 2 т. Т 2. М.: Худож. лит-ра, 1981. С. 551.
[Закрыть]. Это замечание уместно вспомнить и при чтении черновика одного неоконченного пушкинского стихотворения:
Придет ужасный час… твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места.
Где прадедов твоих почиют мощи хладны.
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой…
(II-1, 296)
В композиции образов этого отрывка угадываются контаминация дантовских идей о Беатриче и Аде, реалии и ситуации «Божественной комедии». Но суть не в отдельных совпадениях. Безусловно, правы те, кто полагает, что приметы обращения Пушкина к художественным формулам «Комедии» следует искать скорее в структуре поэтических мотивов, чем в реальном содержании ее образов[222]222
Гаспаров Б. Функции реминисценций из Данте в поэзии Пушкина // Russian Literature. Amsterdam, 1983. Vol. 14, № 4. P. 38.
[Закрыть]. Скажем, в стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша…» нет ни ситуативного, ни образного параллелизма, но идея страны, где «смерти нет, где нет предрассуждений», куда душа, «от тленья убежав, уносит мысли вечны/ и память, и любовь в пучины бесконечны» (II–1, 295), так или иначе пробуждает ассоциации с дантовским Раем. Стихотворение датировано 1823 г., и здесь кстати привести замечание М. П. Алексеева, что именно в эту пору (1824–1825 г.) Пушкин отказывается от ориентации на французскую культуру и в его эстетических размышлениях появляется новое и устойчиво употреблявшееся созвездие: Данте, Шекспир, Кальдерон[223]223
См.: Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972. С. 246.
[Закрыть]. Без этих поэтов, утверждал почти в те же годы Шелли, было бы невозможно представить нравственное состояние мира. В Данте он видел мост, переброшенный от Античности к Новому времени. По его словам, великий тосканец был вторым, после Гомера, поэтом, чьи создания определенно и ясно связаны со знаниями, чувствами, верованиями и политическим устройством эпохи; из хаоса неблагозвучных варваризмов, писал Шелли, Данте создал язык, который сам по себе стал музыкой и красноречием[224]224
Шелли П. Б. Защита поэзии // Манифесты западноевропейских романтиков. М.: Наука, 1980. С. 343, 340, 341.
[Закрыть].
Эти черты творческого гения поэта были, несомненно, близки молодому Пушкину. В декабрьском письме 1823 г. поэт признавался Вяземскому, что желал бы оставить русскому языку «некоторую библейскую похабность». «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке, – заявлял он, – следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе» (XIII, 80). А через два года, уже преодолев «привычку» и вновь касаясь языковой проблемы в статье «О предисловии г-на Лемонте…», автор «Бориса Годунова» прямо свяжет ее с именем Данте, заметив, что Мильтон и творец «Божественной комедии» писали «не для благосклонной улыбки прекрасного пола» (XI, 32). Так художественный опыт Данте пригодился Пушкину в осмыслении народности литературы, которая, впрочем, никогда не смыкалась с простонародностью. «Пушкин, – писал Шевырёв, – не пренебрегал ни одним словом русским и умел часто, взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Данте, Шекспиром, с нашими Ломоносовым и Державиным»[225]225
Шевырёв С. П. Сочинения Александра Пушкина // Моквитянин. 1841. Ч. 5, № 9. С. 268.
[Закрыть].
Поворот Пушкина к народу, воспользуемся выражением Достоевского[226]226
См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. М.; Л.: Госиздат, 1930. Т. 9. С. 185.
[Закрыть], определил обращение к новому созвездию поэтических кумиров, где первым среди равных явился автор «тройственной поэмы», в которой, как писал поэт, «все знания, все поверия, все страсти средних веков были воплощены и преданы… осязанию в живописных терцетах» (XI, 515). В это время он все чаще начинает заговаривать об «истинном романтизме», противопоставляя его произведениям, отмеченным печатью уныния и мечтательности (см.: XI, 67). Пушкин не сомневался, что если вместо «формы стихотворения» критика будет брать за основу только дух, то никогда не сможет выпутаться из произвольных определений (см.: XI, 36). И журнальные Аристархи будут по-прежнему «ставить на одну доску» Данте и Ламартина, самовластно разделять литературу Европы на классическую и романтическую, уступая первой языки латинского Юга и приписывая второй германские племена Севера (см.: XI, 67).
К романтическим формам Пушкин относил те, которые не были известны древним, и те, в которых «прежние формы изменились или заменены другими» (XI, 37). Романтическая школа, проповедовал он, есть отсутствие всяких правил, но не искусства (см.: XI, 39). «Единый план „Ада“ есть уже плод высокого гения» (XI, 41), и «какое бы направление ни избрал гений, он всегда остается гением» (XI, 63)[227]227
Здесь вспоминается спор о Данте, возникший в Италии во второй половине XVTII столетия: – «Божественная комедия» написана не по правилам. Она не похожа ни на какую другую!» – Отлично! – поддразнивал оппонентов Гаспаро Гоцци. – Пусть педанты размышляют о том, какая это поэма… Это поэма Данте!». – Цит. по: Реизов Б. Г. Итальянская литература XVTII века. Л.: Изд-воЛГУ, 1966. С. 131.
[Закрыть].
Разграничение европейской культуры по принципу, раскритикованному Пушкиным, было предпринято H. A. Полевым. В рецензии на «Полярную Звезду» он писал: «Кажется, что классицизму и романтизму суждено разделить Европу: латинской Европе суждено первое, германской и славянской – второе. У итальянцев (несмотря на Данте – единственное исключение из общего) едва ли овладеть романтизму литературою…»[228]228
Московский Телеграф. 1825. № 8. С. 323.
[Закрыть] Это заявление вызвало решительное возражение Пушкина. «В Италии, кроме Данте единственно, не было романтизма, – комментировал поэт сомнительное утверждение. – А он в Италии-то и возник. Что ж такое Ариост? а предшественники его… как можно писать так наобум?» (XIII, 184).
Собственная концепция романтизма складывалась у Пушкина при живейшем интересе к истории европейской литературы и пристальном внимании к литературно-критическим выступлениям современников. «Сколько я ни читал о романтизме, – замечал он, – все не то; даже Кюхельбекер врет» (XIII, 245). Вместе с тем его точка зрения была близка взгляду Кюхельбекера, утверждавшего, что романтическая поэзия «родилась в Провансе и воспитала Данта… Впоследствии… всякую поэзию, свободную и народную, стали называть романтической»[229]229
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 456.
[Закрыть]. Развивая эти воззрения, Пушкин отмечал, что Италия присвоила себе эпопею, «полуафриканская Гишпания завладела трагедией и романом, Англия противу Dante, Ариоста и Кальдерона с гордостью выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира» (XI, 37). Суждения такого рода были свидетельством достаточно широкого представления о литературном процессе, вобравшем в себя и явления такназываемого «истинного романтизма». В этой формуле и заключалось своеобразие пушкинского понимания нового направления в его историческом развитии. Не случайно поэт сообщал A. A. Бестужеву: «Я написал трагедию и ею очень доволен; но страшно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма» (XIII, 244–245). Примечательно, что вскоре он выскажется о ней почти теми же словами и в том же духе, что и о поэме Данте: «Это трагедия не для прекрасного полу» (XIII, 266).
«Истинно романтическая» пьеса Пушкина, как и «Комедия», была отступлением от сложившейся системы искусства, прорывом к действительности, не просеянной через решето эстетических норм. Она являла собой «напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных выражений» (XI, 39), образ мыслей и чувствований, «тьму обычаев и привычек», принадлежащих определенной эпохе, и ту высшую смелость – «смелость изобретения, смелость создания, где план обширный объемлется творческою мыслию» (XI, 60). Такова, говорил поэт, смелость Шекспира, Данте, Мильтона. Видимо, поэтому его мысль, занятая «Борисом Годуновым», нередко обращалась к художественному опыту не только «отца нашего Шекспира», но и автора «Комедии». У Данте, запальчиво утверждала «Галатея», более страсти, чем у Шекспира, более величия, чем у Тацита, а в отношении к самобытной простоте средневековый поэт превосходит того и другого[230]230
Галатея. 1829. № 40. С. 177.
[Закрыть].
Интерес Пушкина к поэме Данте в пору работы над трагедией подтверждается и единовременным с нею замыслом, который принято называть «Адской поэмой». Благой возводил наброски этой поэмы к пародированию Пушкиным «Фауста» и «Божественной комедии». Он считал, что пародия давала возможность поэту оттолкнуться от авторитетных влияний, расправить крылья своего собственного гения[231]231
Благой Д. Д. Фауст в аду // Исследования в чест на академик Михаил Арнаудов. София: Изд-во БАН, 1970. С. 274.
[Закрыть]. Другой точки зрения придерживался В. М. Жирмунский. Он считал, что обозрение адских мук скорее всего напоминает «Ад» Данте[232]232
Жирмунский В. М. Пушкин и западные литературы // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: АН СССР, 1937. Вып. 3. С. 96.
[Закрыть]. Но особенно важным представляется его замечание, что, по мнению Пушкина, все великие европейские литературы Нового времени имели народные корни. Поэт и в самом деле находил в народных вымыслах источник вдохновения и творческого воображения. «Таинства, ле фаблио, – писал он, – предшествовали созданиям Ариосто, Кальдерона, Данте, Шекспира» (XI, 25). Вероятно, к стихии народной фантазии и средневековым легендам, воспринятым через картины «Божественной комедии», и обращена несостоявшаяся поэма[233]233
Точно замечено, что не будь дантовской поэмы – и, может быть, ни историки литературы, ни поэты не обращали бы особого внимания на средневековые видения. – Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981. С. 184.
[Закрыть]. Недаром М. П. Алексеев, предполагавший, что наброски Пушкина – вариация имевшего давнее происхождение фольклорного мотива, все же не отрицал, что мода на «адский сюжет» возникла не без воздействия «мощных по своим импульсам „Комедии“ и „Потерянного рая“»[234]234
Алексеев М. П. Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина// Пушкин. Исследования и материалы. IX. М.: Наука, 1979. С. 35.
[Закрыть]. Убедительность этого мнения подтверждается редкостным вниманием Пушкина к Данте. В том же 1825 г. в стихотворении «Андрей Шенье» он писал:
Меж тем как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,
Зовет меня другая тень…
(11-1, 397)
Академик Благой был уверен, что имена поэтов оказались рядом благодаря поэме Байрона «Пророчество Данте», о которой Пушкин, конечно, знал, как, впрочем, и о той высокой оценке, которая дана автору «Комедии» в четвертой песне «Странствий Чайлд-Гарольда». Но, кажется, этим не исчерпываются пушкинские ассоциации. Ситуация, переданная поэтом третьим и четвертым стихом, напоминает одну из песен «Ада», где Данте зрит «сильнейшую из школ», «семью певцов»,
Чьи песнопенья вознеслись над светом
И реют над другими, как орел.
(IV, 95–96)
Поэт увенчивается «величавым титулом» и приобщается к их собору. Именно это и создает в пушкинском стихотворении реминисцентный фон, уподобляющий Байрона Данте Алигьери.
В следующем году из-под пера Пушкина появляется «Пророк». Источником этого стихотворения не без основания принято считать книгу пророка Исайи: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен»[235]235
Книга пророка Исайи. Гл. VI, ст. 8.
[Закрыть]. По мнению С. А. Фомичева, еще более точек соприкосновения у пушкинского стихотворения с легендарным событием, которое произошло, согласно Корану, на четвертом году жизни Магомета, когда ему явился архангел Гавриил, и, вынув сердце у Магомета, очистил его от скверны и наполнил верой, знанием и пророческим светом[236]236
См.: Фомичёв С. А. Поэзия Пушкина. С. 176. Автор ссылается на работу Н. И. Черняева «Пушкин в связи с его же „Подражаниями Корану“». (М.: Унив. тип., 1898. С. 33).
[Закрыть]. На наш взгляд, эти наблюдения могут быть дополнены еще одним, касающимся одной из терцин одиннадцатой песни «Рая»:
L'un fu tutto serafico in ardore;
Faltro per sapienza in terra fue
di cherubica luce uno splendor
(37–39)
Один пылал пыланьем серафима;
В другом казалась мудрость так светла,
Что он блистал сияньем херувима.
Комментируя эти стихи, известный дантолог Карл Витте, в частности, писал: свойство серафимов, имя которых у Дионисия переводится словом «согревающие», состоит в пылании к богу и в сообщении этого пыла другим; свойство же херувимов, имя которых означает «полнота познания», заключается в озарении лучами божественной истины, то есть в сообщении другим богопознания[237]237
См.: Данте Алигьери. Божественная Комедия. Рай / Пер. Д. Мина. СПб.: A. C. Суворин, 1909. С. 280.
[Закрыть].
Стихи Данте и комментарий к ним вряд ли в данном случае привлекли бы внимание, если б не одна знаменательная строка «Пророка»: «Как труп в пустыне я лежал», – которая побуждает тут же вспомнить хорошо памятный Пушкину последний стих пятой песни «Ада»:
e caddi come corpo morto cade
(и я упал, как падает мертвец).
Позже он почти дословно встретится в «Полтаве»:
затем в «Гробовщике», вернее вариантах этой повести, где Адриян Прохоров, напуганный явившимися с того света клиентами, упал «como corpo morto cade» («как падает мертвое тело»)[239]239
Благой Д. Д. Данте в сознании и творчестве Пушкина // Благой Д. Д. Указ. соч. С. 243.
[Закрыть]. Но вернемся к «Пророку». Полигенетическая природа художественных образов, их разветвленные корни в мировой культуре – отличительная черта пушкинского гения, наделенного необычайной способностью к творческому синтезу. В этом отношении «Пророк» отнюдь не является исключением. Сакральная поэтическая миссия, ставшая основным мотивом стихотворения, могла легко ассоциироваться с образом автора «священной поэмы» (Рай, XXVI), а дальнейшее развитие ассоциативных связей – вызвать в памяти дантовские образы. Такие ассоциации, по крайней мере, были характерны для читательского восприятия «Пророка». К. Ф. Сумцов когда-то писал, что начало стихотворения указывает на такое же тревожное состояние духа, каким проникнуты начальные терцины «Божественной комедии». Герой Пушкина, отмечал он, не первой молодости, испытанный жизнью человек, но и не старец, ибо ему предопределено обойти «моря и земли»… Вероятно, это человек средних лет, о котором, как и о герое Данте, можно сказать: «Nel mezzo del cammin di nostra vita… (В середине нашего жизненного пути…)» и т. д.[240]240
Сумцов К. Ф. Пушкин. Харьков: Печати, дело, 1900. С. 14. Знаменательно, что со стиха «В начале жизни мною правил…» (VI, 591) начиналась глава «Онегина», сочинявшаяся тоже в Михайловском.
[Закрыть] И в самом деле, лишь пройдя через муки и страдания, пушкинский герой обретает поистине дантовскую «полноту познания» и становится провозвестником и глашатаем истины.
В последующие годы творческое сознание Пушкина продолжает апеллировать к поэзии Данте, и не только к «Божественной комедии». В 1828 г. он пишет стихотворение «Кто знает край, где небо блещет», в первоначальном варианте которого были строки о «мрачном» и «суровом» Данте. В 1829 г. – «Зорю бьют… Из рук моих ветхий Данте выпадает», в 1830 г. – «Суровый Дант не презирал сонета…» и т. д. Лаконичными сигналами, будь то отдельный эпитет или парафраза, Пушкин создает поле взаимодействия своих и чужих идей, и на их пересечении рождаются новые художественные смыслы. Их связь с дантовским текстом порой недоказуема, и все же отвергать ее неразумно. Это означало бы произвольное ограничение «ауры» пушкинских произведений. Вспомним, например, стихи из послания Н. Б. Юсупову:
Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты. За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.
(III-1, 218)
Как интеллектуальное и духовное пиршество, «пир» в кругу различных культурных ассоциаций прежде всего вызывает представление о Платоне. На эту ассоциацию работает и строка об афинском софисте, несомненно, Сократе, но эпитет «суровый» не соответствует характеру платоновского диалога, где излагается философская концепция любви, а скорее сопрягается с «Пиром» Данте, замыкающим традицию подражаний древнему жанру. И по рационалистической ясности слога, и по содержанию дантовский трактат, в котором политика переплетается то с этикой, то с риторикой, а рассуждения о разуме переходят в размышления о судьбе, естественно было бы назвать суровым, т. е. приложить к нему эпитет, ассоциирующийся с самим автором. Тем более что и Данте определял свой «Пир» как «мужественный», «умеренный».
Другой пример – «Странник», вольное переложение одного из фрагментов книги Джона Беньяна «Странствие Паломника»[241]241
Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней. М.: Наука, 1972. С. 334–345.
[Закрыть]. В этом стихотворении бессказуемные обороты, отличающие стиль «Божественной комедии», сразу привлекают внимание:
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный
Я осужден на смерть и позван в суд загробный».
(III–I, 592)
И я: «Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?»
(Ад, III. 44–45)
Эти локальные переклички с «Комедией» свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что вся образно-философская концепция произведения обращена к мировой художественной памяти, а не только к английскому источнику. Пушкинское стихотворение шире своего источника. Как верно отмечал Д. Д. Благой, оно посвящено тягчайшему внутреннему кризису, крутому нравственному перелому, побуждающему человека полностью отречься от своей прежней жизни, порвать со всеми и всем, «страстно возжаждать нового спасительного пути и, наконец, решительно встать на него»[242]242
Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней. М.: Наука, 1972. С. 342.
[Закрыть]. А толчком к «повороту» от Беньяна к Данте явилось, вероятно, глубокое личное переживание поэтом этой психологической коллизии. Недаром повествование в «Страннике» ведется в форме взволнованной исповеди, а не в третьем, как у Беньяна, лице. Кроме того, драматические чувства пушкинского странника не инспирированы извне, но предстают как выстраданный результат глубинной жизни духа. Он – «духовный труженик», и в этом смысле более всего схож с автором и героем «Комедии». Видимо, от подобного самосознания и кристаллизуются как бы сами собой дантовские конструкции важнейших мотивов «Странника». Так, начальная строка стихотворения напоминает не только «loco selvaggio» (Inf., 1, 93) – «дикий лог», топографию преддверия Ада, но и те первые терцины «Божественной комедии», где дан образ потерявшего «прямой путь» – «dirittavia», блуждающего во тьме долины Данте. По его убеждению, лишь эта стезя приводит к духовному прозрению. О ней он и молит Вергилия:
Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых мне увидеть свет.
(Ад. I, 133–134)
В «Страннике» аналогичный мотив включает почти те же структурные элементы: «верный путь», «тесные врата спасенья» и, наконец, «свет». Возможно, сходство объясняется опорой обоих текстов на один религиозно-мифологический сюжет. Вместе с тем «дикая долина», бессказуемные обороты, страстотерпческая, мученическая напряженность нравственных исканий – все это в целом образует идейно-художественный сплав, близкий стилевым особенностям «Комедии».
В 30-е годы сопряжения пушкинской мысли с художественным миром итальянского поэта становятся еще многочисленнее. «Моцарт и Сальери», «Гробовщик», «В начале жизни школу помню я», «И дале мы пошли, и страх обнял меня», «Пиковая дама», «Анджело», «Медный всадник» – вот перечень только тех произведений, в которых образные импульсы, идущие от Данте, предстают с безусловной очевидностью. Они различны по глубине и значению, но некоторые из них нуждаются в особом внимании. Таковы, например, слова Сальери: «Мне не смешно, когда фигляр презренный/ Пародией бесчестит Алигьери». Эта отсылка к Данте, появление его имени в трагедии связаны, по-видимому, с признанием пушкинского героя: «Поверил я алгеброй гармонию», которое невольно соотносится с тем, что автор «тройственной поэмы» называл себя «геометром» и числом обуздывал воображение. Так возникает неожиданная параллель Сальери – Данте[243]243
Любопытный отклик на нее содержится в стихотворении Л. Гроссмана «Сальери»: «Как твой великий предок Алигьери, Ты был угрюм, честолюбив и строг…» – Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л.: Наука, 1967. С. 65.
[Закрыть], обретающая важнейший смысл по отношению к другой: Моцарт – Пушкин. Дело в том, что образ Моцарта – олицетворение мощи творческой воли, которая оборачивается легкостью, спонтанностью, иррациональностью созидательного акта. Он обретает характер божественной игры, исключительной свободы художнического сознания, неведомой даже таким «сынам гармонии», как Сальери или Данте, о котором Франческо де Санктис заметил, что он слишком серьезно относится к изображаемому миру, чтобы воспринимать его инстинктом художника[244]244
Де Санктис Фр. История итальянской литературы: В 2 т. Г I. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. С. 67.
[Закрыть]. Но Пушкин не только разгадал тип моцартовского гения – недаром его сочинение один из композиторов считал лучшей биографией Моцарта[245]245
Бэлза И. Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка: Очерки. М.: Музыка, 1985. С. 78.
[Закрыть], но и проникся духом моцартовского творчества[246]246
См.: Гаспаров Б. М. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя…» // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л.: Наука, 1977. С. 122; Бэлза И. Ф. Исторические судьбы романтизма… С. 186.
[Закрыть]. Тем самым, несмотря на безусловное признание поэтом высочайшего профессионализма Сальери, обнаруживалась пушкинская приверженность иному творческому сознанию, а следовательно, выявлялось и определенное сопоставление Данте с самим Пушкиным. Возможно, в этой едва намеченной оппозиции Пушкин – Данте находится один из ключей и к так называемым «Подражаниям Данту».
«Те ошибутся, – писал Шевырёв, – которые подумают, что эти подражания Данту – вольные из него переводы. Совсем нет: содержание обеих пьес принадлежит самому Пушкину»[247]247
Шевырёв С. П. Сочинения Александра Пушкина. С. 251.
[Закрыть]. Между тем он, как и Белинский, полагал, что оба стихотворения созданы совершенно в духе и стиле Данте. Несколько иного мнения придерживался H. H. Страхов. Одно из стихотворений он принимал за пародию на «Божественную комедию». «Грубо-чувственные образы и краски Данте, – рассуждал критик, – схвачены вполне и пересмеяны так же, как пересмеяна и наивная торжественность речи»[248]248
Страхов H. H. Критические заметки // Отечественные записки. 1867. Ч. 5. № 9. С. 186.
[Закрыть]. Позволим себе не согласиться с этим утверждением. В обоих стихотворениях Пушкин действительно выступал соперником Данте, но в чем? Шевырёв метко и точно сказал о Пушкине: «Чего он не знал, то отгадывал творческою мыслию»[249]249
Шевырёв С. П. Сочинения Александра Пушкина. С. 252.
[Закрыть]. Нет, поэт не подражал и не пародировал Данте, а творил в его духе, находя искомое в спонтанном вдохновении и в неисчерпаемой полноте своей поэтической индивидуальности. П. В. Анненков чутко уловил это. Отмечая, что стихотворение «И дале мы пошли…» порождено скорее эмпирической мыслью, чем какой-либо другой, он в то же время писал:«…но в развитии своем необычайная поэтическая мощь автора подавила первое намерение и вместо насмешки произвела картину превосходную, исполненную величия и ужаса. Так обыкновенно гениальный талант изменяет самому себе»[250]250
Анненков П. В. Материалы для биографии A. C. Пушкина. М.: Современник, 1984.С. 252.
[Закрыть]. Моцартианская свобода творческого поведения, способность легко и непринужденно отзываться на завлекающую власть вдохновения и в самом деле сказались в этом стихотворении с впечатляющей силой. Именно в этой свободе Пушкин и утверждал себя перед сонмом высочайших поэтов, создавая «замечательные суггестии духа и форм любимых авторов»[251]251
См.: Владимирский Т. Я. Пушкин-критик // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л: АН СССР, 1939. С. 323.
[Закрыть].
Печать истинно дантовского величия лежит и на другом «подражании» Пушкина – стихотворении «В начале жизни школу помню я». Здесь нетрудно угадать в изображении демонов смысловую связь с аллегорическими образами диких зверей первой песни «Ада», воплощавшими гордыню и сладострастие. И все же различия между ними не сводятся к чему-то чисто внешнему. Для пушкинского героя, едва вступающего в жизнь, самый порок, еще не изведанный, обладает таинственными чарами и влечет к себе той «волшебной красотой», лживость которой осознается лишь позже. Так соблазны лишаются однозначности, их искусительная суть оказывается сложнее, чем у Данте, и тем выразительнее. «Все царственные блага человеческого духа повергаются, разбиваются, никнут, – писала Н. С. Кохановская, – перед восстающими кумирами двух бесов, которые влекут с неодолимой силой»[252]252
Цит. по: Розанов М. Н. Пушкин и Данте. Л.: АН СССР, 1928. С. 29.
[Закрыть].
Столь же условно и сходство пушкинской героини с Беатриче. М. Н. Розанов резонно замечал, что созданный поэтом образ Наставницы, хранительницы нравственных начал человеческой жизни занимает некое срединное место между Беатриче «Новой Жизни» и Беатриче «Божественной комедии». И тем не менее дантовская героиня служит, пожалуй, лишь литературным прототипом пушкинского образа. Стремясь воссоздать характер образного мышления, присущего человеку юга, поэт ввел в картину Ада отсутствующую у Шекспира мглу, подобную вечной тьме дантовской преисподней. Сближение Пушкина с автором «Комедии» обнаруживается в духовном облике Наставницы, в котором олицетворены собственно пушкинские идеи целомудрия, смирения, долга и высокого служения. В связи с этим образом уместно привести слова Мольера (Теренция, Батюшкова…): «Я брал мое там, где его находил». Они удачно характеризуют одну из особенностей пушкинского гения.
Многогранность, многофункциональность обращений Пушкина к Данте по-своему проявляется в поэме «Анджело». Недавно Ю. Д. Левин показал, как ее автор, придавая эпическую форму одной из драм Шекспира, написанной на сюжет новеллы Джиральди Чинтио, одновременно возвращал этой истории итальянский колорит в его стремлении придать большую материальную конкретность изображениям загробной жизни, а страждущим в аду душам – телесность[253]253
Левин Ю. Д. Об источниках поэмы «Анджело» // Известия АН СССР. Сер. Лит. и яз. Т. 27. Вып. 3. С. 255–258.
[Закрыть]. Эти наблюдения над текстом, в котором распознаются реалии двадцать первой песни «Ада», дополняются при внимательном чтении первой главы «Анджело». В поэме вновь встречается дантовский образ мужающего младенца, кусающего груди своей кормилицы:
Сам ясно видел он,
Что хуже дедушек с дня на день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал…
(V, 107)
О неслучайном характере этих expression Dantesque свидетельствуют, в известной степени, строки «петербургской повести», над которой Пушкин работал в ту же пору, когда писал «Анджело». Образ разбушевавшейся Невы в поэме «Медный всадник» восходит к стихам шестой песни «Чистилища»[254]254
См. об этом: Лотман Ю. М. К проблеме «Данте и Пушкин». С. 89.
[Закрыть].
Е se ben ti ricordi e vedi lume,
vedrai te somigliante a quella inferma
che non puo trovar posa in su le piume…
(148–150)
Опомнившись хотя б на миг один,
Поймешь сама, что ты – как та больная,
Которая не спит среди перин…
Ср.:
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной.
(V, 138)
Пушкинские обращения к Данте охватывают все три части «Комедии», но наиболее частые цитации дантовских текстов относятся к первой кантике поэмы. «„Ад“, – писал наблюдательный Франческо де Санктис, – это человек, „реализованный“ как личность во всей полноте и свободном проявлении своих сил»[255]255
Де Санктис Фр. История итальянской литературы. Т. 1. С. 254.
[Закрыть]. Вероятно, этим и привлекала Пушкина «изумительная пластическая картина мира, напряженно живущего и движущегося по вертикали вверх и вниз» (М. Бахтин). Эта кантика «Божественной комедии» – сильнейшая и в чисто идеологическом и риторическом плане. С ней связаны самые «земные» дантовские мотивы в его творчестве: изгнанничество, сакральная миссия поэта, впечатляющая этико-изобразительная география «Inferno», да и бесподобные «гомеровские сравнения» и так называемая «гераклитова метафора», подчеркивающая текучесть явления (О. Мандельштам). И все-таки главная притягательная сила Данте заключалась для русского поэта, кажется, в том, что автор «Комедии» был, как писал один из отечественных журналов, «гигант в создании целого»[256]256
Галатея. 1829. № 40. С. 175.
[Закрыть]. Литое единство поэмы, пожалуй, сравнимо лишь с целокупностью недробимой терцины. Данте умел постичь, как и «каким средством можно охватить целостность нового времени и увидеть, что не всякий кое-как завязанный узел ее соединит»[257]257
Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Искусство, 1966. С. 456.
[Закрыть]. Его поэма была не только величайшим произведением переломной эпохи, но и общим типом «созерцания универсума»[258]258
См.: Там же. С. 451.
[Закрыть]. Вместе с тем в глазах Пушкина огромное значение имели историчность Данте и народные корни его «Комедии». Итальянский поэт, как Шекспир и Гёте, был создателем своего рода национальной библии. Наряду с ними и первый среди них он входил в великий триумвират современной поэзии. Эти выдающиеся деятели мировой культуры довершили литературное образование Пушкина. Он не только развил свою способность к суггестиям духа и форм избранных авторов, но и сам стал национальным поэтом, стал тем, «кто нашу речь вознес до полной власти» (Чист., VI, 17). Впервые в истории европейской мысли Пушкин «столкнул» в своем творчестве «Европу и Россию как однородные, равнозначные, хотя и не во всем совпадающие величины»[259]259
Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. Л.: Сов. писатель, 1967. С. 174.
[Закрыть]. Именно поэтому разнообразные источники его поэзии лишь умножают восхищение его гением.
Для пушкинской гениальности, как и для мусического дара Данте было характерно соотношение любого жизненного фрагмента с целостностью бытия, с его целеполаганием. Выход за пределы «конечного» существования, трансцендирование социально-исторического смысла в то измерение, где обнажался символ человека[260]260
Смысл истории вне ее, он сугубо трансцендентен (Л. Баткин).
[Закрыть] – основная особенность творческих дерзаний обоих поэтов. Они оба были пловцами за «Геркулесовы столбы».
Вместе с тем Данте впервые явил то, что европейская Античность изображала совсем иначе, а Средневековье не изображало вовсе: явил образ человека в полноте его собственной исторической природы[261]261
Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира. М.: РОССПЭН, 2004. С. 185.
[Закрыть] (Э. Ауэрбах). То же самое предъявил своему читателю родоначальник новой русской литературы – А. Пушкин.