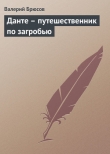Текст книги "Данте в русской культуре"
Автор книги: Арам Асоян
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Не победит <…> судьбы всевластной;
Верх близок – взялся за него рукой –
Вдруг камень вниз из-под руки рокочет,
Сизиф глядит изнеможенный вслед,
Паденью бездна вторит, ад хохочет;
Но он, – он выше и трудов, и бед:
Нет, он покинуть подвига не хочет[108]108
Кюхельбекер В. К. Избр. произв. Т. I. С. 420.
[Закрыть].
При таком самостоянии «путь бед» становился вместе с тем путем нравственных обретений, и поэт мог сказать о себе:
В этих стихах нельзя не расслышать мотива, характерного для «Божественной комедии» и связанного с общей идеей странствий ее героя. Ведь поэма Данте, что не раз отмечалось исследователями, огромная метафора: ад не только место, но и состояние, состояние душевных мук. Они и вырвали из уст Кюхельбекера отчаянное восклицание:
Одной из причин нравственных терзаний поэта были, вероятно, его показания против И. И. Пущина, который 14 декабря 1825 г. якобы «побуждал» Кюхельбекера стрелять в великого князя Михаила Павловича. В апреле 1832 г. поэт предпринял неудачную попытку снять с товарища по несчастью это незаслуженное обвинение[111]111
См. об этом: Кюхельбекер В. К. Избр. произв. Т I. С. 653.
[Закрыть]. Что же касается Данте, то о нем уместно вспомнить проницательное замечание французского филолога К. Фориеля: изгнание было для Данте адом, поэзия – чистилищем[112]112
См.: Тургенев А. И. Указ. соч. С. 135.
[Закрыть]. Для Кюхельбекера адом была крепость, а очищением, своего рода катарсисом, поэма:
А в небесном раю, где поэт мыслит себя после земных страданий, его встречают «Дант и Байрон, чада грозной славы… Софокл, Вергилий, Еврипид, Расин». Свой «бестелесный» шаг направляет к нему и тень Тассо:
Эти мечтания побуждают вспомнить IV песнь «Ада», где в Лимбе к Данте и Вергилию направляются
Гомер, превысший из певцов всех стран;
Второй – Гораций, бичевавший нравы;
Овидий – третий, и за ним – Лукан.
Они приветствуют Алигьери и приобщают его к «славнейшей из школ», к своему собору.
Таким образом, Данте оказался вдохновителем Кюхельбекера еще и потому, что «Божественная комедия» предвосхитила стремление романтиков к предельному самовыражению, ее главным мотивом стала судьба самого поэта, не случайно первые два столетия поэма называлась «Li Dante»[115]115
Скартаццини Дж. Указ. соч. С. 134.
[Закрыть]. «Дантеида» с авторской нацеленностью на глубоко личностное содержание не могла не возбуждать сознание русских и западноевропейских романтиков. Интерес к трагической судьбе Данте, в которой Кюхельбекер видел сходство со своей участью, должен был совпасть и совпал с романтическим пристрастием русского поэта к «Божественной комедии». Видимо, ей обязан «Давид» и сложной взаимосвязью антично-мифологических, библейско-христианских и реально-исторических элементов. От Сизифа и царя Саула до Грибоедова и Шихматова, от античных поверий до символики христианских добродетелей: Любви, Надежды, Веры – таков диапазон реалий поэмы Кюхельбекера. Как и в «Комедии», они служат стремлению автора «Возвыситься над повседневной былью» (Ад, 11-110).
задается вопросом русский поэт. Данте отзывается в его поэме и колоритом некоторых инфернальных эпизодов повествовательного сюжета:
Наиболее отчетливо эта картина ассоциируется с пятым рвом Злых Щелей. Здесь бесы вонзают в грешника зубцы, как только он высунется из кипящей смолы:
Так повара следят, чтобы их служки
Топили мясо вилками в котле
И не давали плавать по верхушке [Ад, XXI, 55–57].
Другая аналогия обнаруживается между схваткой Хуса с Мельхиусом (кн. «Воцарения») и сценой мести Уголино архиепископу Руджери; «дикие краски Данта» несомненно сказались на изображении крайнего ожесточения, которым охвачены герои «Давида»:
Как и других романтиков, Кюхельбекера не могла не заворожить поэтическая дерзость Данте, его способность к необыкновенному по художественной силе гротеску. Романтики считали, что гротеск чужд классическомуискусству и, наоборот, полагали его элементом, специфичным для современной поэзии, в корне меняющем все ее существо. В. Гюго, чей авторитет Кюхельбекер ценил весьма высоко, был убежден, что именно «плодотворное соединение образа гротескного и образа возвышенного породило современный гений, такой сложный, такой разнообразный в своих формах, неисчерпаемый в своих творениях и тем самым прямо противоположный единообразной простоте античного гения»[119]119
Гюго В. Предисловие к «Кромвелю» // Гюго В. Избр. произв.: В 2 т. Т 2. М.; Л.: ГИХЛ, 1958. С. 485. На русском языке «Предисловие» было опубликовано в «Московском телеграфе» за 1832 г. под названием «О поэзии древних и новых народов». Кюхельбекер ознакомился с этим манифестом французского романтизма лишь в 1834 г.
[Закрыть]. Гюго полагал, что «гротеск, как противоположность возвышенному, как средство контраста является <…> богатейшим источником, который природа открывает искусству…» «Разве Франческа да Римини и Беатриче были бы столь обаятельны, – спрашивал он, – если бы поэт не запер нас в Голодную башню и не заставил бы нас разделить отвратительную трапезу Уголино? У Данте не было бы столько прелести, если бы у него не было столько силы»[120]120
Там же. С. 488.
[Закрыть].
Мнение Гюго о гротеске представлялось сомнительным современнику Кюхельбекера Н. И. Надеждину Критик не считал гротеск специфическим средством романтического изображения жизни. Он не признавал за «музой новых времен» якобы исключительно ей принадлежащую способность чувствовать и ощущать, что «отвратительное стоит наряду с прекрасным, безобразное возле прелестного, смешное на обратной стороне высокого, добро существует вместе со злом, тень со светом»[121]121
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худож. лит-ра, 1972. С. 179.
[Закрыть]. В своей диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830) Надеждин писал: «Что же хочет Гюго доказать нам? На каком основании он утверждает, что тип смешного (grotesque) не был известен классической поэзии? Ужели можно отказать художникам Древнего мира в искусстве соединять свет с тенью»[122]122
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худож. лит-ра, 1972. С. 179.
[Закрыть].
В рассуждениях Гюго о гротеске Надеждин увидел упрощенное толкование различий между классической и романтической поэзией или легкомысленное решение «рассечь гордиев узел одним ударом», но не столь ревностно, как Гюго, он искал «верный и точный признак, отличающий один поэтический мир от другого»[123]123
Там же.
[Закрыть]. Автор диссертации был уверен, что все существующие мнения о романтической поэзии совершенно недостаточны, ибо учитывают «лишь внешний образ действования, не обращая между тем внимания на внутреннее ее направление»[124]124
Там же. С. 180.
[Закрыть]. Его собственная концепция сводилась к следующему: различия между классической и романтической поэзией обусловлены различным характером античной и средневековой эпох[125]125
Средневековую эпоху Надеждин заключил в границы XI–XVI вв. – См.: Надеждин Н. И. Указ. соч. С. 182–185.
[Закрыть].
Для первой, младенческой эпохи, писал Надеждин, характерно средобежное стремление человеческого духа – вне себя, поэтому высочайшим первообразом классической поэзии становится видимый мир; таким образом, искусство суть подражание окружающей природе. В средневековую эпоху возмужавший человеческий дух обращает взор на самого себя, и субъективность становится главным признаком искусства. Истинное содержание средневековой, то есть романтической поэзии – «духовность идеальных ощущений», отсюда и ее частные отличительные свойства: она более человечна, чем классическая поэзия; в отношении к организации – более фантастическая, в отношении к выражению – более живописная, в отношении к внешнему строению – более музыкальная[126]126
См.: там же. С. 191–201.
[Закрыть].
Все это воистину интересно, потому что оппонент Гюго за подтверждениями и примерами также обращался к «Божественной комедии». Он полагал, что перечисленные им свойства средневековой поэзии нигде не отражаются так ясно, как в поэме Данте, в «которой представляется полный и цельный отпечаток всего романтического мира <…>. В ней творческий гений разоблачил человеческую природу от телесного покрова. Это – действительная биография человеческого духа…»[127]127
Надеждин Н. И. Указ. соч. С. 201–202.
[Закрыть]. С точки зрения Надеждина, дантовское творение «было и осталось единственным: ему принадлежит собственная оригинальная форма, которой не может дать никакого названия эстетическая технология»[128]128
Там же. С. 204.
[Закрыть].
Между тем автор диссертации не только противопоставлял «Комедию» античной поэзии, но и находил в этом «самом романтическом» создании преемственность с классическим искусством. По его мнению, она сказалась и в обилии мифологических образов, и в зримых предметно-чувственных деталях, которые помогают бесплотные идеи воплотить в великолепные формы. В то же время Надеждин отмечал «непроницаемый мрак аллегорического мистицизма», высочайшую тонкость «бессущных сентенций», за которые поэт получил в старину имя «великого философа и божественного богослова», упоительную сладость чувства, образованного в «школе святой любви».
Кто, заключал диссертант, посвящен в таинства «Божественной комедии», тот может сказать о себе, что он открыл вход во внутреннейшее святилище романтической поэзии[129]129
Надеждин Н. И. Литературная критика. С. 204.
[Закрыть]. XVI столетие было для нее, по утверждению Надеждина, и золотым веком, и свидетелем ее быстрого падения[130]130
Там же. С. 215.
[Закрыть]. В самой Италии романтический дух замер с заточения Тассо. Печать окончательного вырождения романтизма лежит на музе Байрона, и любые попытки воскресить романтизм обречены, думал Надеждин, на несомненный провал, так как «дух человеческий, беспрестанно идущий вперед, не может снова вспять возвращаться и приходить в прежнее состояние»[131]131
Там же. С. 231.
[Закрыть]. И если для романтического искусства сверхъестественное было предметом религиозного верования, то для современной поэзии это лишь категория поэтического воображения. Теперь душа, не освященная благотворными лучами вечного солнца, погружается в бездонную пучину своего бытия, ожесточаясь против самой себя и всего сущего. Нельзя не удивляться, говорил Надеждин, «этой неукротимой гордости и непреодолимой силе духа, который в отпадении своем от бесконечного начала жизни, увлекает с собой весь мир и радуется адскою радостию разрушению своего бытия. Но это удивление есть точно такое же, какое восхищает у нас сатана»[132]132
Там же. С. 241. Ср.: в статье о романтической форме искусства Гегель писал, что оно «представляет собой возвращение человека внутрь себя самого, нисхождение в свое собственное чувство, благодаря чему искусство отбрасывает всякое прочное ограничение определенным кругом содержания и толкования и его новым святым становится humanuni – глубины и высоты человеческой души как таковой…» – См.: Конец романтической формы искусства // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т. 3. М.: Наука, 1967. С. 201.
[Закрыть]. Верный своему принципу иметь в виду суть, а не форму, Надеждин разграничивал средневековую и новейшую поэзию по существенному признаку – по отношению к бесконечному. Именно «религиозно-поэтическое отступничество от сыновней любви к бесконечному», на его взгляд, породило в области «обмоложенного» романтизма Байрона. На этом основании Данте противопоставлялся Надеждиным поэту Британии. Байрон и творчество «байронистов» служили доказательством, что время романтической поэзии уже минуло.
Этот вывод вызвал горячие возражения. Магистр Московского университета, где Надеждин защищал свою диссертацию, H. H. Средний-Камашев выступил с полемической рецензией. Правда, он не расходился с Надеждиным в общей оценке «Комедии». «Когда Данте, – рассуждал перед этим Камашев, – написал свою „Божественную комедию“, тогда можно было еще подумать, что она есть произведение случайное, выражающее только частность, индивидуальность поэта; но когда это произведение прожило века, когда много столетий после того человечество находило в нем постоянно что-то родное, когда целый продолжительный ряд совершеннейших проблесков поэтической жизни народов являлись постоянно в одном свете, общем гениальному Данту хотя и выражали другие частности, тогда нельзя уже было смотреть на него как на что-то, имеющее основанием одну личность писателя, тогда должно было возвысить его на степень деятельного органа в Истории литературы, на степень поэта, в котором разительно обнаружилась жизнь человечества в решительном переломе ее, в котором, как в зерне, сосредоточилось бытие целого периода»[133]133
Средний-Камашев И. Смерть Генриха III//Атеней. 1830. Ч. 1. № 2. С. 184.
[Закрыть]. Вместе с тем, солидаризуясь с Надеждиным в том, что XIX столетие весьма отличается от «средних веков рыцарства, обнаруживших романтизм в полнейшем развитии», Средний-Камашев резонно полагал: «…отличаться и почти ни в чем не сходствовать – большая разница. Мы до сих пор еще те же европейцы, которые были за пять столетий тому назад: у нас та же религия, несмотря на то, что Реформация была причиною многих изменений; политическая жизнь наша есть непосредственное следствие феодализма <…> наконец, самая философия наша еще вполне носит на себе признаки происхождения ее из форм человеческого духа; мы до сих пор те же еще рыцари, но только охладевшие; если у нас и нет Дантов, Тассов, то мы имеем Байронов, Гёте…»[134]134
Средний-Камашев H. H. Несколько замечаний на рассуждение г. Надеждина «О происхождении, свойствах и судьбе поэзии так называемой романтической» // Русские эстетические трактаты первой трети ХГХ века: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1974. С. 413. Подобное мнение ранее высказывал Рылеев: «Новая поэзия имеет еще свои подразделения, смотря по понятиям и духу веков, в коих появились ее гении. Таковы „Divina Comedia“ Данта и чародейство в поэме Тасса, Мильтон и Клопшток с высокими религиозными понятиями и, наконец, в наше время поэмы и трагедии Шиллера, Гёте и особенно Байрона, в коих живописуются страсти людей, их сокровенные побуждения, вечная борьба страстей с тайным стремлением к чему-то высокому, бесконечному» (Рылеев К. Ф. Несколько мнений о поэзии // Литературно-критические работы декабристов. М.: Худож. лит-ра, 1978. С. 220).
[Закрыть].
В полемике Среднего-Камашева с Надеждиным обнаружилось любопытное явление. Как тот, так и другой исходили из идеи закономерного развития. Но для Надеждина такая закономерность лежала в сфере диалектической логики и отождествлялась с гегелевской триадой: классическая поэзия (тезис) – романтическая (антитезис) – новая (синтез). В этом заключались свои достоинства и свои недостатки. Мысль Надеждина, как верно отметил Ю. В. Манн, была сильна в своем философском, абстрагирующем качестве[135]135
Манн Ю. В. Факультеты Надеждина // Надеждин Н. И. Литературная критика… С. 15.
[Закрыть]. Правда, идея трехфазисного развития искусства не являлась абсолютно новой. В 1824 г. Ф. Шлегель писал одному из своих корреспондентов: «…сохранилась еще та традиция, согласно которой нужно возвратиться к древности и к природе… Винкельман учил рассматривать древность как нечто целое и первый дал пример обоснования искусства через историю его развития»[136]136
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Г I. М.: Искусство, 1983. С. 380–381.
[Закрыть].
Вслед за Шлегелем Надеждин полагал, что синтез классицизма и романтизма должен дать форму искусству, соответствующему характеру новой эпохи, но в отличие от Шлегеля, считавшего Данте основоположником и отцом современной поэзии[137]137
Там же. Т I. С. 376.
[Закрыть], Надеждин не признавал связей современного романтизма со средневековой поэзией и обвинял его в пустом подражании, которое наносит «ущерб нашему времени и позорит его»[138]138
Надеждин Н. И. Указ. соч. С. 253.
[Закрыть]. К слову сказать, журналист и известный историк H. A. Полевой, для которого романтизм был формой борьбы западноевропейских народов против феодализма, находил это мнение заимствованным и ложным; в поэзии от Данте до Байрона он видел развитие одной и той же эстетической идеи и утверждал, что «Данте, Шекспир, Кальдерон, Гёте, Байрон, новая философия германская, новая история Европы являются для нас не нелепостью, не бредом, но важными и великими задачами»[139]139
Полевой H. A. Очерки русской литературы: В 2 т. СПб.: Б.и., 1839. Т. I. С. 38.
[Закрыть].
Если для Надеждина «Божественная комедия» была полным выражением духа феодальной эпохи, то для Полевого именно с поэмы Данте начиналось разрушение этого духа в западноевропейском искусстве, и потому связь новейшей поэзии с «Комедией» Данте казалась ему несомненной. XIX век мыслился Полевым как век романтизма. Того же мнения придерживались и другие апологеты нового искусства, в том числе и Средний-Камашев. Но в отличие от Полевого, чья точка зрения не учитывала качественных изменений в развитии европейской поэзии от «Божественной комедии» до «Путешествия Чайльд-Гарольда»[140]140
Это ни в коей мере не означает, что исторический подход в анализе литературных явлений был чужд Полевому. Мысль об изменчивости искусства в связи с историческими условиями была одной из основ его критического метода. «Идеал, – писал Полевой, – воспитывается обстоятельствами, духом времени, которые дают ему особенный цвет, особенное направление, особенную форму» (Московский телеграф. 1825. № 6. С. 30). В данном случае Данте и Байрон объединились Полевым в контексте одной эпохи по главной, «философической» сути их творчества, т. е. не по «соображению исторического века», а по «соображению философическому важнейших истин души человеческой» (Московский телеграф. 1837. № 37. С. 38).
[Закрыть], взгляд Среднего-Камашева на новейшую литературу исходил из представления как о неповторимости различных стадий в развитии поэзии, так и об исторической преемственности между романтизмом и средневековым искусством. В своих воззрениях на этот предмет Средний-Камашев занимал как бы промежуточную позицию между Полевым и Надеждиным. Его взгляды на становление западноевропейской литературы были историчнее, чем философски абстрагирующая точка зрения Надеждина, но она позволяла автору диссертации предвидеть наступление новой эры в поэзии.
Вместе с тем нетрудно заметить, что спор видных представителей русской эстетической мысли о прошлом, настоящем и будущем романтизма постоянно включал в себя разговор о Данте и его «Комедии». Итальянский поэт играл немалую роль в обновлении русского эстетического сознания. Этому способствовали и труды адъюнкта кафедры истории русской словесности Московского университета С. П. Шевырёва.
В 1833 г. он защитил диссертацию «Дант и его век», а через два года опубликовал «Историю поэзии», в которой не мог и не хотел обойти вниманием «Божественную комедию». Известно, что романтики первые возвели личность и судьбу писателя в степень эстетической категории. «Рассматривая творения отдельно от жизни их авторов, – полагал Шатобриан, – классическая школа лишала себя еще одного могущественного средства оценки. В изгнании Данте – ключ к его гению»[141]141
Шатобриан Ф. Р. Опыт об английской литературе // Эстетика раннего русского романтизма. М.: Искусство, 1982. С. 225.
[Закрыть]. Вникнуть в жизнь Данте призывал и автор «Истории поэзии». «Не из источникали несчастья, – писал о поэте Шевырёв, – этого глубокого источника жизни, почерпнул он свою поэзию?»[142]142
Шевырёв С. П. История поэзии. М.: Б.и., 1835. Ч. I. С. 90.
[Закрыть]
Рецензируя фундаментальный труд Шевырёва, «Библиотека для чтения» сопроводила эти слова ироническим междометием[143]143
См.: Библиотека для чтения. 1836. Т. 15. № 4. Отд. 5. С. 1.
[Закрыть]. Видимо, рецензент расценил риторический вопрос как утверждение в поэзии беспредельного субъективизма. Между тем русский дантолог еще в диссертации стремился доказать, что поэма Данте есть «слияние учености века с народностью»[144]144
Шевырёв С. П. Дант и его время // Ученые записки императорского Московского университета. М., 1834. № 7, январь. С. 134.
[Закрыть]. «Божественная комедия» была для него прекрасным примером историзма художественного произведения, который ставился романтической эстетикой во главу угла. В то же время она представляла богатый материал для размышления об активности авторского сознания. «Где же создался этот мир, – спрашивал о „Комедии“ Шевырёв, – где он принял образ стройного и целого мира, если не в духе?»[145]145
Шевырёв С. П. История поэзии. С. 93. О дантологии Шевырёва см. также: Ракитин К. В. Данте в творчестве С. П. Шевырёва // Дантовские чтения. М.: Наука, 2005. С. 69–93.
[Закрыть]
Такое суждение исключало свойственное классицистской эстетике убеждение, что подражание природе является сущностью искусства. «Каким же образом, – писал Шевырёв, продолжая рассуждать о „Божественной комедии“, – жизнь бурная эпических поэтов переходит в спокойное созерцание, напротив, жизнь покойная драматиков выражается в бурях поэм? Как разрешить это противоречие, если не предположить свободной творческой силы в фантазии человека, которая по-своему претворяет данные от жизни и природы?»[146]146
Шевырёв С. П. История поэзии. С. 93.
[Закрыть] Кстати сказать, замечание, достойное настоящего шеллингианца, каким был С. П. Шевырёв[147]147
В распоряжении Шевырёва были записки Йенских и Вюрцбургских чтений Шеллинга по философии искусства, список А. Вагнера (1798–1799) и Расмана (1805). См. об этом: Попов ПС. Состав и генезис «Философии искусства Шеллинга» // Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 5.
[Закрыть]. Жанр «Божественной комедии» он определял как лиро-символическую поэму и подчеркивал, что это «совершенно свой собственный тип Поэмы», для которой характерно органическое сочетание поэзии и религии[148]148
Шевырёв С. П. Дант и его век (продолжение) // Ученые записки Императорского Московского университета, 1834. № 8. С. 372–373.
[Закрыть]. Свобода художественной формы, но при этом тесные узы поэзии с религией входили в ту формулу романтического искусства, которая складывалась в литературной теории немецкого романтизма. Однако религию йенские романтики трактовали как «особое чувство зависимости от бесконечного»[149]149
См.: Тулыга А. Шеллинг. М.: Мол. гвардия, 1982. С. 81.
[Закрыть]. В этом плане замечание Шевырёва о слияниии в «Комедии» поэзии с религией вскрывало особый смысл их единства и служило объяснением «лиросимволического» содержания поэмы. Недаром Ф. Шлегель утверждал, что бесконечное нельзя фиксировать в застывших понятиях, его лишь можно открывать и созерцать в символах[150]150
См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 782.
[Закрыть].
Тут кстати вспомнить и самого Шеллинга. Он писал: «Изображение абсолютного с абсолютной неразличимостью общего и особенного в особенном возможно лишь в символической форме»[151]151
Шеллинг Ф. Философия искусства. С. 106.
[Закрыть]. Материалом и средством такого изображения была, по его мнению, мифология. Именно здесь происходит совпадение общего и особенного, что и дает в результате символ. В связи с этим понятен интерес романтиков к мифологии и мифотворчеству. Они полагали, что великий художник – это великий мифотворец. Данте – один из творцов «вечных мифов», ибо его поэма, «взятая всесторонне, не есть отдельное произведение одной своеобразной эпохи, одной особой ступени культуры, но есть нечто изначальное, что обусловливается ее общезначимостью, которую поэма соединяет с абсолютнейшей индивидуальностью, обусловливается ее универсальным характером, обусловливается в конце концов формой, которая представляет собой не специальный, но общий тип созерцания универсума»[152]152
Там же. С. 45.
[Закрыть].
Вероятно, Шевырёв разделял эту точку зрения, по крайней мере она была ему известна, но тем не менее его собственные суждения, касающиеся «мифотворчества» и мифологических реалий в «Комедии», самостоятельны и глубоки. Он считал, что значение языческой мифологии в дантовском произведении чисто историческое, в Средние века она утратила религиозный смысл и существовала во всей силе только как история, в виде предания[153]153
См.: Шевырёв С. П. Дант и его век // Ученые записки Императорского Московского университета. М., 1834. № 7. С. 135.
[Закрыть]. Но новая эпоха творила и новые мифы. Вергилий в «Божественной комедии», писал Шевырёв, совсем не тот, которого мы знаем по его стихам и из истории Древнего Рима. «Нет, это Вергилий средних веков, облеченный в новое звание мистика, это Вергилий – маг, о котором сохранилось и теперь устное предание в простом народе Италии… это Вергилий-заклинатель, который знается с подземным миром, сходил в Ад еще до пришествия Спасителя и вызывал из него теней…»[154]154
Там же. С. 130.
[Закрыть]
Русский дантолог не только обнажал мифологическое содержание образов «Комедии», но и выявлял мифотворческую ситуацию, в которой возникали эти образы. «Вергилий, – продолжал он, – был поэтом национальным, поэтом верований древней жизни. Надо было по новому христианскому чувству или поссориться с ним, – но по старой любви и доверенности к нему это было невозможно, – или найти в нем отголосок своему чувству и освятить его символическим значением. Так Парнас был соединен с Эдемом; райская вода с нектаром языческим <…>. Так поэзия языческая освятилась богословским значением…»[155]155
Там же. С. 131.
[Закрыть] Эти высказывания Шевырёва утверждали романтическое понимание мифа. Дело в том, что в классицистской эстетике господствовало аллегорическое толкование мифологии. Вольтер, Монтескье, Дидро и другие деятели французского Просвещения уподобляли ее суеверию, производному невежества или обмана. Иную позицию занимал И. Г. Гердер; он воспринимал мифологию как поэтическое богатство и мудрость народа и тем самым прокладывал путь новому романтическому взгляду. Романтическая же концепция, получившая наиболее полное выражение и завершение у Шеллинга, трактовала миф как эстетический феномен, занимающий промежуточное положение между природой и искусством и содержащий символизацию природы[156]156
«Мифологические сказания, – заявлял Шеллинг, – не могут мыслиться созданными ни преднамеренно, ни непреднамеренно». – Шеллинг Ф. В. Указ. соч. С. 113.
[Закрыть]. Причем, как отмечает A. B. Гулыга, поэт-романтик, говоря о природе, имел в виду нечто большее, чем понимают обычно под природой, он поклонялся в природе чему-то таинственному, неизведанному, по сути дела, сверхприродному[157]157
См.: Гулыга A. B. Философия искусства Шеллинга // Вопросы философии. 1982. № 6. С. 73.
[Закрыть]. Следуя новой концепции, Шевырёв сумел объяснить некоторые моменты мифотворчества, т. е. показать, каким образом могут создаваться новые поэтические символы. Комментируя дантовскую поэму, он вел читателя к тонкому осознанию структурных свойств мифологии и ее исторического характера, к осознанию ее сущности как образной формы мировоззрения.
Столь же важным представляется другое суждение Шевырева. Как известно, романтизм дорожил пафосом освобождения личности, особым интересом к ее запросам и возможностям. Романтики первые начали художественную и теоретическую разработку концепции автономной личности, которая опирается только на себя и сама для себя создает собственные законы. Этим духом всестороннего раскрепощения личности, впервые воспринятой как самоцель, проникнуто внимание Шевырева к дантовской доктрине свободы воли и нравственной ответственности. Он писал: «Дант допускает влияние неба на движения человеческие, но не на все. Он вооружается против мнения фаталистов и утверждает свободный произвол в человеке. С таким только понятием совместна мысль о божественном правосудии…»[158]158
Шевырёв С. П. Дант и его век (продолжение) // Ученые записки Императорского Московского университета. М., 1834. № 7. С. 169.
[Закрыть] (другими словами, о моральной ответственности. –A.A.).
Задачам, которые решала романтическая эстетика, отвечали замечания Шевырева и по поводу языка «Комедии». Он сравнивал язык поэмы с Геркулесом, выбивающимся из своих пеленок: всякое движение сильно, естественно, но резко и не имеет пластики вполне развитого возраста[159]159
Там же. С. 153.
[Закрыть]. В целом эти слова содержали положительную оценку. Романтики уже в самом начале своего становления брали непосредственность в искусстве под энергичную защиту[160]160
Современная наука видит ранний романтизм в делах и днях йенской школы. См.: Берковский H Я. Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит-ра, 1973. С. 17.
[Закрыть]. В их философии познания она занимала важное место и рассматривалась как предсостояние познающей души и познающего ума, когда многое ловится и улавливается без воли и расчета[161]161
Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 41.
[Закрыть]. Уповая на это, Ф. Шлегель взывал к деятелям современной литературы: «Чувству доступно лишь то, что было им воспринято в качестве семени, питалось им, росло, покамест не дошло до цветения и не стало приносить плоды. Итак, засевайте святое семя в почву духа, бросьте искусничанье и празднословие»[162]162
Цит. по: Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 42.
[Закрыть].
В русской критике Шевырёв был единственным, кто прямо связывал художественные устремления некоторых представителей современного романтизма с воздействием на них «Божественной комедии». В «Истории поэзии» Шевырёв писал: «…лира Байрона подверглась отчасти и итальянскому влиянию: он любил и изучал Данте»[163]163
Шевырёв С. П. История поэзии. С. 63.
[Закрыть]. Имена этих поэтов встречались рядом и на страницах других изданий. Издатель «Московского телеграфа» H. A. Полевой видел в их творчестве элемент типологического сходства. Данте и Байрон, говорил он, певцы отчаяния[164]164
См.: Московский телеграф. 1825. Ч. 4. № 13. С. 66.
[Закрыть]. Уже это мнение свидетельствует о характере пристрастий критика к романтизму вообще и Данте в частности. В то время как любомудр Шевырёв осмыслял романтическое движение и «Комедию» с философско-исторической точки зрения, Полевой искал в этом движении и поэзии Данте социально-историческое и политическое содержание. Он утверждал, что романтизм ценит «глубокое познание человека в мире действительности», и за это готов простить «неровности» великих созданий Гёте, Данте, Гофмана[165]165
Там же. 1832. Ч. 43. № 1–3. С. 386.
[Закрыть].
Политическая, антифеодальная направленность эстетических идей Полевого проявлялась и в его интерпретации творчества Данте. Авторы «Истории русской драматургии» справедливо отмечают буржуазно-демократические симпатии писателя в его драматическом представлении «Уголино», основу которого составил трагический конфликт, обозначенный в XXXII–XXXIII песнях «Ада»[166]166
См.: История русской драматургии XVII – первой половины ХГХ века. Л.: Наука, 1982. С. 360.
[Закрыть]. Видимо, эти социальные тенденции в изображении враждующих феодалов и заставили драматурга так сильно волноваться по поводу цензурного разрешения пьесы[167]167
См.: Полевой H. A. Дневник // Исторический вестник. 1888. № 1–3. С. 659.
[Закрыть]. К счастью, все обошлось. В начале января 1838 г. известный трагик В. А. Каратыгин – он исполнял роль Нино – сообщил Полевому, что «Уголино» пропущен, а 17 числа, в день представления, автор записал в дневнике, что пьеса имела успех, 20 января – необыкновенный успех![168]168
Полевой H. A. Там же. С. 661.
[Закрыть] Но спустя несколько месяцев Полевому довелось испить и горькую чашу. В «Московском наблюдателе» появилась разгромная рецензия В. Г. Белинского: «„Уголино“ есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драм, не будучи поэтом»[169]169
Белинский В. Г. Уголино. Драматическое представление. Сочинение Николая Полевого // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 443.
[Закрыть]. Впрочем, далее следовала важная оговорка: «Если хотите, у Гюго и Дюма найдетсядрам хуже „Уголино“ и мало столь хороших; но это не похвала, а приговор…»[170]170
Там же. С. 448.
[Закрыть] Новую романтическую драму французских писателей Белинский рассматривал как искусство «субъективное» и риторическое, ориентированное на эффекты. Драма Полевого была для критика «пьеской» той же пробы, и его отношение к ней определялось не одними художественными просчетами, но и критерием объективности искусства, которыйвэтупору был для Белинского меройтворческойудачи художника. По его мнению, принципу объективности противоречили не только дидактизм, но и прямая социальная тенденция, явная в «Уголино» Полевого.
Итак, именно романтизм положил начало глубокому освоению «Божественной комедии» в России, освоению читательскому, творческому, научному. Он проявил и вызвал разносторонний интерес к великой поэме и ее создателю. Так, декабристы-романтики смотрели на Данте как на одного из «самых творческих, оригинальных гениев земли»[171]171
Бестужев-Марлинский A. A. Указ. соч. С. 582.
[Закрыть], подлинно национального поэта и родоначальника романтической поэзии[172]172
См. об этом: Илюшин Е. А. Данте в судьбах и поэзии декабризма // Дантовские чтения. М.: Наука, 2000. С. 71–77.
[Закрыть]. Они чтили в его лице мужество изгнанника и достоинство борца, чтили избранника правды и поэта справедливости, одного из тех, на кого мир налагал «терновый венец, облекал в багряницу и посмеянием плевал в лицо; бил палками и называл царями!» Данте был дорог декабристам суровостью судьбы и непримиримостью гордого судьи зла и порока. Ощущение ими духовной связи с Данте нашло любопытное отражение в одном из литературных опытов середины ХГХ века. Через два-три десятилетия после восстания декабристов свободомыслящий офицер русской армии А. Э. Циммерман (1825–1884) написал фантастический рассказ, в котором основные персонажи будили ассоциации о Вергилии и Данте. Опасаясь полицейских репрессий, автор сжег свое сочинение, но позже рассказал о нем в неопубликованных воспоминаниях: «Мне, – сообщал он, – вздумалось написать фантастический рассказ: несколько молодых людей, в том числе и я, собравшись у одного из нас, говорят о политике и произносят речи в защиту революции, разбирая ее с разных точек зрения; вдруг является среди нас незнакомый человек и говорит примирительное слово, его спрашивают, кто он? незнакомец отвечает, что он – Рылеев, что его тень встает из могилы и бродит в Петербурге, что он, как вечный Иудей, осужден появляться на этот свет, пока не наступит в России царство свободы. Рылеев уходит, я следую за ним; тень манит меня к себе; мы приходим на берег Невы, садимся в лодку и едем в крепость. Тень Рылеева вводит меня в Петропавловский храм, и в нем я вижу страшное зрелище: казнь царей, там погребенных. Сцену эту я написал под влиянием Дантовской поэмы»[173]173
Циммерман А. Э. Воспоминания // Рукописный отдел Гос. библ. им. В. И. Ленина, ф. 326, п. 1, ед. хр. 2, л. 69 об. (На этот документ автору указал Б. Ф. Егоров.)
[Закрыть].
Представители другой волны в русской эстетике А. И. Галич и Н. И. Надеждин, определившие пути будущей поэзии как результат синтеза классицизма и романтизма, первые предприняли попытку характеристики «Божественной комедии» как целостного выражения духа Средних веков. «Для греческого искусства, – отмечал Галич, – круг идеалов есть Гомер и его „Илиада“, для романтического – Данте…»[174]174
Галич А. И. Опыт науки изящного // Русские эстетические трактаты: В 2 т. Т 2. М.: Искусство, 1974. С. 227.
[Закрыть] Вместе с тем они утверждали историческую неоспоримость перелома, разделяющего Новое время от Средних веков[175]175
См.: Надеждин Н. И. О современных направлениях русских изящных искусств // Там же. С. 445–446.
[Закрыть], и этим подталкивали к осознанию своеобразия современной эпохи и тех проблем, которые ставила история перед искусством.
Значение «деятельного органа» определенной эпохи признавал за «Божественной комедией» Средний-Камашев. Но он, как и H. A. Полевой, главное внимание сосредоточил на преемственности романтической поэзии с творчеством Данте. Общность их взглядов на этом и кончалась. Оценивая «Комедию» с буржуазно-демократических позиций, Полевой с особой настойчивостью выявлял в ней антифеодальные тенденции. Иным был подход любомудра С. П. Шевырёва. «Божественная комедия» была для него ключом к решению задач, имеющих самый серьезный смысл для развивающейся эстетической мысли.
Таким образом, каждый находил в поэме Данте свое, но искал он его во имя нового литературного направления. Именно поэтому творческое наследие итальянского поэта стимулировало самосознание русского романтизма. Вместе с тем именно романтики своими литературно-критическими трудами, переводческими опытами и «подражаниями Данте» заложили основы интеллектуально-эстетического постижения «Божественной комедии», ее историзма, символизма, универсализма и открыли перспективы для дальнейшей рецепции дантовской поэмы. Умозрительная оптика романтиков сыграла важнейшую роль в начале пути русской культуры к Данте.