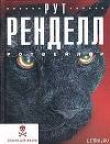Текст книги "Слоновья память"
Автор книги: Антунеш Антониу Лобу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Обморок старинного здания, – сказал он вслух, – обморок здания – лауреата премии виконта ди Валмора в области архитектуры, пораженного проказой и древоточцем.
Дама с мороженым бросила на него косой взгляд бродячей собаки, видимо встревоженная возможной угрозой ее праву исследовать на собственной шкуре съедобный мусор: первым делом – взбитые сливки, а метафизика – уж потом, подумал психиатр.
– Так что? – спросил друг.
– Что что? – переспросил врач.
– Ты все треплешь языком, а я пока не услышал ни слова, – сказал друг. – Бормочешь, как последняя ханжа в церкви.
– Я тут вообразил, что писать – это почти то же, что реанимировать словарь Морайша[54]54
Знаменитый толковый словарь XVIII в.
[Закрыть], грамматику для четвертого класса и прочие залежи мертвых слов, и я то полон кислорода, то пуст и преисполнен сомнений.
Напротив них косоглазая девица, этакий сексуально озабоченный воробышек, что-то шептала, хихикая, на ухо сорокалетнему мужчине, согнувшемуся в три погибели, чтобы расслышать ее чириканье. Психиатр готов был чуть ли не биться об заклад, что это бывший падре, судя по округлости его жестов и по вялому изгибу толстых губ, между которыми он с четким ритмом метронома совал кусочки хлеба, в промежутках пережевывая их медленно и слегка брезгливо, как верблюд. С его тяжелых век стекали медленные и тусклые взгляды в сторону косоглазой, и она в восторге покусывала ему гнилыми зубами ухо, как жирафа, тянущаяся толстым языком поверх ограды к листьям эвкалипта.
Второй официант, вылитый Харпо Маркс[55]55
Адольф Артур Маркс, более известный как Харпо Маркс (1888–1964) – американский актер, комик, участник комедийной труппы Братья Маркс.
[Закрыть], подтолкнул к ним, поставив на бумажные скатерти, ломтики жареной свинины и гамбургер. Занеся вилку, медик почувствовал себя теленком, силком влекомым к кормушке, которую он делит с другими телятами, стонущими под игом служебного рабства, не оставляющего времени ни радости, ни надежде. Работа, поездка по воскресеньям в автомобиле в пределах обязательного треугольника дом – Синтра – Кашкайш, снова работа, снова поездка, и так без конца, пока внезапно из-за угла наперерез не вылетит инфаркт и, завершая порочный круг, катафалк не подбросит нас до конечной остановки «Кладбище Празереш». Скорее, скорее бы, молил он всем существом бога своего детства, бородатого буку, закадычного друга тетушек, работодателя хромого ризничего из Нелаш, любителя голубей, хозяина ящиков для пожертвований и начальника святых Экспедитов[56]56
Два католических святых-тезки, оба мученики, дни поминовения которых – 18 и 19 апреля.
[Закрыть] из боковых алтарей, к которым, судя по всему, он относился как к осточертевшим любовникам. Поскольку никто врачу не ответил, он съел единственный красовавшийся на гамбургере гриб, похожий на пожелтевший, давно не чищенный зуб. По молчанию друга было понятно, что тот, как обычно терпеливый, словно дерево, дожидается объяснений по поводу утреннего звонка.
– Я дошел до ручки, – сказал врач, все еще с грибом во рту, вспоминая, как в детстве на уроках катехизиса ему объясняли, что говорить, не проглотив облатки, – великий грех. – До самой ручки. Если не сказать до ножки.
Сидящий рядом с косоглазой девицей старец в ожидании обеда читал «Ридерс Дайджест» с заголовками типа «Я – тестикул Иоанна». Подумал бы лучше, что ей толку от его шестидесятилетних тестикул.
– Я дошел до ручки, – продолжал психиатр, – и не уверен, что выберусь. Не уверен даже, что есть выход, понимаешь? Я, бывало, слушал пациентов и удивлялся: ну как вот этот или вот эта умудрились провалиться в колодец, откуда у меня руки коротки их достать? Или – помнишь – нам в студенческие годы показывали раковых больных, которых на этом свете удерживает одна тонкая пуповина морфия. Я им от души сочувствовал, брал лекарства и слова с полки собственного страха, но чтобы стать одним из них – ну уж нет, потому что у меня, черт побери, были силы. У меня были силы: была жена, были дочери, были планы стать писателем, конкретные вещи, которые держат. Чуть возьмет тоска, знаешь, как это бывает по вечерам, идешь в комнату к малышкам, пробираешься среди разбросанного детского барахла, смотришь на их спящие мордочки и успокаиваешься: мне было на что опереться, я ощущал опору, я был защищен. Как вдруг жизнь, сука, вывернулась наизнанку, и вот я валяюсь, как таракан, на спине, дрыгаю лапками, а опоры нет. Мы, видишь ли – я о себе и о ней, – мы очень друг друга любили, да и сейчас любим, но вся гадость в том, что я не могу перевернуться на брюхо, встать на ноги, позвонить ей, сказать: давай бороться, потому что, похоже, разучился бороться, руки опускаются, голос осип, шея голову не держит. Но, мать твою, я только того и хочу, на что не способен. Похоже, мы потому проиграли, что оба не умели прощать, не смогли смириться с тем, что не во всем согласны, и все равно, сколько мы друг друга ни раним, сколько ни получаем друг от друга тычков, наша любовь (да, вот так и надо говорить: наша любовь) не сдается и крепнет, и ни один порыв ветра не смог до сих пор ее загасить. Я как будто только и в состоянии любить ее издалека, и при этом так мечтаю, черт меня дери, любить ее лицом к лицу, любить врукопашную, как было у нас с самого начала, с тех пор как познакомились. Подарить ей то, чего до сих пор не смог дать, но что есть во мне, возможно, уснувшее, застывшее, оно во мне дышит, как ждущее своего часа зерно. То, что я хотел дать ей с самого начала и хочу до сих пор, нежность, понимаешь? Нежность без эгоизма, повседневность без рутины, полное растворение в «мы», простое и теплое, как птенец в руке, как маленький дрожащий звереныш, наш.
Он замолчал: перехватило горло. А тем временем господин с «Дайджестом», предварительно загнув уголок страницы, наклонил пакетик с сахарным песком, осторожными щелчками помогая содержимому высыпаться в желтушный настой лимонной корки. Тучная дама прикончила мороженое и теперь слегка клевала носом, как сытый удав. Трое близоруких подростков что-то обсуждали, склонившись над бифштексами и искоса поглядывая на одинокую блондинку, застывшую с поднятым ножом, как журавль, задравший ногу и в этот миг застигнутый мыслью о вечном.
– Ни ты ей не найдешь замены, ни она тебе, – сказал друг, отодвигая пустую тарелку тыльной стороной ладони, – никто так не подходит каждому из вас, как ты ей и она тебе, но ты наказываешь и наказываешь себя, как алкоголик, переполненный чувством вины, сидишь в своем дурацком Эшториле, пропал, тебя нигде не видно, ты испарился. Я все еще жду, когда мы закончим работу об Acting-Out[57]57
Психоаналитический термин, часто употребляемый без перевода, однако имеющий несколько синонимов на русском языке: отыгрывание [вовне]; отреагирование вовне; разрядка – психический механизм защиты, состоящий в бессознательном провоцировании развития тревожной для человека ситуации.
[Закрыть].
– У меня сейчас голова пустая, – сказал врач.
– Да ты весь пустой. Так почему бы тебе прямо сейчас не убиться об стену?
Психиатр вспомнил, что сказала ему жена незадолго до расставания. Они сидели на красном диване в гостиной под его любимой гравюрой Бартоломеу[58]58
Бартоломеу Сид душ Сантуш (1931–2008) – португальский художник, проживший бóльшую часть жизни в Лондоне.
[Закрыть], кот грелся, примостившись между ними, и тут она подняла на него свои большие и решительные карие глаза и заявила:
– Я не согласна, чтобы – со мною или без меня – ты сдался, потому что я верю в тебя, я сделала на тебя ставку.
Он вспомнил, как это пронзило его, какой болью отозвалось, как он прогнал кота, чтобы обнять стройное смуглое тело жены, повторяя в тоске и отчаянии ЛТВ, ЛТВ, ЛТВ: она была первой, кто полюбил его целиком, со всем гигантским грузом недостатков. И первой (и единственной), кто побуждал его писать, чего бы ему ни стоили эти, как каждый раз представлялось, бесцельные и мучительные попытки впихнуть стихотворение или рассказ в границы прямоугольного листа. А я, спросил он себя, что я-то для тебя сделал, в чем действительно тебе помог? В обмен на твою любовь – эгоизм, в обмен на заинтересованность – равнодушие, пораженчество в обмен на стойкость.
– Я кричащий караул засранец: я так обосрался, что ножки не держат. Все требую внимания от других, а сам другим – ни шиша. Лью крокодиловы слезы, которые меня самого не утешают, да, похоже, я только о себе и думаю.
– Попробуй для разнообразия побыть мужчиной, – сказал друг, ловя одного из братьев Маркс за рукав, чтобы заказать двойной кофе. – Попробуй побыть мужчиной хоть чуть-чуть. Может, это тебя удержит в вертикальном положении.
Врач опустил глаза и наткнулся взглядом на свой нетронутый гамбургер. От вида остывшего мяса, политого жирным соусом, его мучительно замутило, внезапный водоворот поднялся от внутренностей к горлу. Он сполз с табуретки, как с жесткого, неожиданно неустойчивого седла, мышцами живота сдерживая тошноту и подставив ладони к подбородку. Ему удалось добежать до уборной, и, согнувшись, он начал потоками изрыгать в ближайшую к двери раковину остатки вчерашнего ужина вместе с ошметками сегодняшнего завтрака, белесые скользкие отвратительные куски, сползавшие в отверстие слива. Когда он очухался настолько, что смог сполоснуть рот и руки, то увидел в зеркале, что друг стоит у него за спиной и смотрит на его осунувшееся и бледное лицо, все еще кривящееся от удушья и колик.
– Вот надо же, – сказал он отражению ангела-хранителя своей тоски, запечатленного, будто на изразцах, на фоне кафельной плитки, – вот надо ж, блядь, пизда с ушами, триппер ей в жопу, до чего хуево быть мужчиной, а?

Тень от туч, ночным колпаком накрывших будто вырезанный из картона силуэт тюрьмы, простиралась аж до середины парка, когда врач отправился на поиски своего автомобиля, оставленного, по обыкновению, неизвестно где под золотисто-зеленой сенью платанов, окружавших огромное, но отнюдь не внушительное пустое пространство, подступавшее к самой реке. Кучка цыган, сидя на корточках на тротуаре, вела громогласную дискуссию о праве собственности на дряхлые настенные часы с агонизирующим маятником, болтавшимся, как свисающая с каталки рука больного, издававшие время от времени еле слышное тик-так, подобное последнему вздоху умирающего. Еще не настал час, когда силуэты гомосексуалов в выжидательных позах заполняют промежутки между деревьями, и дорогие автомобили, в которых тихо угасают важные сеньоры подобно горько-сладким увядающим фиалкам, не принялись еще, как голодные коты, оглаживать их своими лоснящимися боками. Именно здесь произошла первая встреча психиатра с проституткой, мерявшей широкими хозяйскими шагами восемь метров известняка, величаво красуясь в фальшивых жемчугах и ужасающих кольцах со стекляшками; эта гигантская пекарша из Алжубарроты спасла его решительными ударами дамской сумочкой от зазывных улыбок двух сирен-трансвеститов, затянутых в красные шелка, но при этом обутых в здоровенные армейские башмаки, видимо, каптенармусов, восполнявших скудное денежное довольствие этаким маскарадом, чтобы властно увлечь его в комнату без окон, украшенную изображениями пьяных монахов и портретом Кэри Гранта в кружевной рамке на комоде. Разрываясь между вожделением и страхом, будущий врач наблюдал, стоя в одних носках и прижав к животу одежду, которую не знал, куда деть, за преображением этой дешевой Маты Хари в монстра с геркулесовыми сиськами, рвущего одним движением толстую телефонную книгу, из того самого цирка, который выгуливал каждое лето по пляжу шелудивых тигров и артистов в костюмах, усыпанных тусклыми блестками. Женщина улеглась меж простыней, как кусок ветчины между половинами булки, и он, совершенно обалдевший, осторожно приблизился и робко коснулся покрывала, как боязливый купальщик в позе продрогшей балерины пробует пальцами воду в бассейне. Потолок являл собой карту неведомых континентов, писанных сыростью по штукатурке. Нетерпеливый окрик: ну, до завтра управимся или как? – швырнул его на кровать с нездешней силой волшебного пенделя, и психиатр лишился девственности, нырнув целиком в огромный мохнатый тоннель и уткнувшись носом в подушку, усыпанную, как новогодняя елка клочьями ваты, шпильками, к которым прилипли жирные и плоские, словно лезвия, чешуйки перхоти. Два дня спустя, обнаружив в трусах капли жгучего стеарина, он обрел через уколы аптекаря уверенность в том, что любовь – опасная болезнь, которая лечится коробкой ампул и омовениями теплым раствором марганцовки в биде горничной, чтобы скрыть жар преступной страсти от вопрошающего взгляда матери.
Но нынче, невинной дневною порой, парк был населен только жизнерадостными, попугайски щебечущими что-то друг другу японцами, которым цыгане впаривали настенные часы не менее решительно, чем мамаша, лопатой запихивающая еду в глотку непослушным отпрыскам, и японцы разглядывали этот странный сундук, набитый минутами, снабженный маятником за стеклянной дверцей, напоминавшим сердце Христа, отштампованное на бумажных образках, со смесью удивления и ужаса, с которым смотрели бы на доисторического предка, лишь отдаленно смахивавшего на хромированные НЛО, посылавшие световые сигналы с их тонких запястий. Психиатр внезапно ощутил себя ископаемым рядом с этими существами, чьи узкие глаза щурились объективами фотоаппарата «Лейка», а на место желудков давным-давно были пересажены карбюраторы «Датсун», навсегда свободные от изжоги и от газов, норовивших вырваться наружу то ли вздохом, то ли отрыжкой: кто знает, несварение это или печаль, не раз думал доктор, когда грудь его теснил и подступал к горлу как бы шар, надутый из жвачки, но без жвачки, вырываясь изо рта с тихим свистом пролетающей кометы, и предпочитал думать, что разыгрался эзофагит, тогда как на самом деле это искала выхода его заблудившаяся тоска.
Машина оказалась зажатой между двумя громадными «универсалами», слонами цвета слоновой кости, этакими подпорками для книг на полке у двоюродной бабушки, вынужденными нехотя подпирать какую-то жалкую брошюрку. В ближайшие же дни куплю себе восьмиосный грузовик и тут же стану волевым до умопомрачения, решил врач, втискиваясь в свой маленький автомобильчик с бардачком, заваленным неиграющими кассетами и упаковками давно просроченных лекарств: он хранил это барахло, как другие хранят в ящике письменного стола склянку с камнями, извлеченными из собственного желчного пузыря, в трогательной надежде расставить в прошлом вешки теми предметами, которые поток жизни за ненужностью оставляет валяться на берегах, и время от времени перебирал коробочки с медикаментами, подобно арабу, ласкающему свои таинственные четки. «Я человек уже не молодой»[59]59
Первая фраза из рассказа американского писателя Германа Мелвилла (1819–1891) «Писец Бартлби».
[Закрыть], – процитировал он вслух, как делал всегда, когда Лиссабон, неторопливым и задумчивым жестом лангуста в виварии смыкал клешни у него на горле и дома, деревья, площади и улицы толпой ломились в его мозг, отплясывая, как на картинах Сутина[60]60
Хаим Соломонович Сутин (1893–1943) – французский художник парижской школы, уроженец Минска.
[Закрыть], сумасшедший хищный чарльстон.
Крутя руль, как штурвал корабля, то в ту, то в другую сторону, он ухитрился прошмыгнуть между двумя дремлющими гиппопотамами-«универсалами», чьи ленивые глаза-фары едва виднелись над поверхностью асфальтовой реки, между этими гигантскими млекопитающими, чьи погонщики, сладкоречивые коммивояжеры, в поисках охотничьих трофеев мотались по провинции, то останавливаясь в туземных поселках, то взбираясь на помосты, покрытые псориазными пятнами ржавчины, вокруг которых старички, опираясь на палки, с авторитетным видом сплевывали между грубых кожаных сапог, и влился в нескончаемый всхлипывающий муравьиный поток автомобилей, регулируемый равнодушным миганием светофоров. Ярко-зеленый был похож на цвет радужек старшей дочери, когда она радостно улыбалась из-под взлохмаченной светлой челки, маленькая ведьма, оседлавшая вместо метлы деревянную зебру карусели и все скакав-шая, скакавшая на ней в бешеном восторге. Психиатру представлялось тогда, будто она гораздо старше, чем на самом деле, и он, облокотившись на железные перила и меланхолически отсчитывая деньги за очередной билет кассиру, ощущал себя престарелым рыцарем, запутавшимся в собственных кальсонах, на пути к близкому финалу в виде рака простаты и последнего в жизни катетера – аттракционам, так часто кладущим конец множеству безвестных судеб.
Мотор чихал и задыхался: бесконечная вереница капотов еле двигалась вперед рывками по страдающей несварением проезжей части, тем временем доктор на ходу высматривал среди лауреатов премии виконта ди Валмора в стиле барокко, монастырей Жеронимуш в миниатюре, скрывавших в чреве династии полковников запаса и ярких громогласных восьмидесятилетних полковничих, дом, где вел прием его дантист; психиатр по пятницам работал только до обеда, так что старался обставить пустой туннель безразмерных выходных мелкими второстепенными занятиями, как в свое время его тетушки, вооружившись четками, добрым словом и мелкими монетами, заполняли удобное утреннее время посещением тех, кого они с гордостью именовали «наши подопечные», покладистых бедняков, которым неуемный жупел коммунизма не внушил еще сомнений в непорочности девочки-святой, отучавшей их собратьев материться. Будущий врач иногда сопровождал теток во время этих жутковатых благотворительных рейдов («Не подходите к ним близко: еще подхватите заразу!»), от которых сохранил мучительное воспоминание об остром запахе голода и нищеты и о паралитике, ползающем в грязи между бараками и тянущем руку к тетушкам, твердо обещавшим ему, потрясая в воздухе молитвенниками, вечное блаженство при условии безграничного почтения к нашему фамильному серебру.
По возвращении домой будущий психиатр, в свою очередь, получал урок Закона Божьего («Молитесь, дитя, чтобы не было революции: этот народец вполне способен перебить нас всех, как мух»), ему объясняли, что Бог, существо по определению консервативное, обеспечивает институциональное равновесие, одаривая тех, кто не имеет прислуги, эффективной скоротечной чахоткой, освобождая их от ежедневной монотонной работы по дому и приливов в начале менопаузы, тех мучительных моментов, когда, внезапно густо покраснев, тетушки вынуждены были со стыдом вспоминать о том, что и у них под юбкой имеются хоть и придушенные, однако все еще теплящиеся сексуальные потребности. И тут ему вспомнилось, что, когда он начал мастурбировать, мать, озадаченная, пошла показывать мужу пятно на трусах, после чего будущий психиатр получил официальное приглашение в отцовский кабинет, в домашнюю святая святых, где отец вечно изучал, посасывая трубку, загадочные болезни по немецким книгам. Вызовы в кабинет сами по себе были наиболее торжественными и страшными эпизодами его детства, так что он просачивался в монаршие покои, заложив руки за спину, причем язык сам принимал форму, удобную для извинений, сердце при этом колотилось, как у теленка, посланного на убой. Отец, писавший что-то, примостив доску на коленях, бросил на него косой строгий взгляд, похожий на черное платье, из-под которого виднеется как знак тайного понимания краешек кружевной нижней юбки, и красивым глубоким голосом, каким он декламировал детям, когда те валялись с ангиной, сонеты Антеру[61]61
Антеру Таркиниу ди Кентал (1842–1891) – португальский лирик, публицист, основатель португальской секции Первого интернационала. Одна из его книг так и называется – «Сонеты».
[Закрыть], присев на край кровати с книгой в руке, произнес торжественно, будто проводил обряд инициации:
– Будь аккуратнее и не забывай мыть руки.
И только тогда, подумал врач, он впервые физически ощутил, что и отец тоже был когда-то молодым и ему, тому самому, в чье серьезное, худое, будто выточенное лицо, в чьи светящиеся карие глаза сын сейчас всматривался, в свою очередь приходилось сталкиваться с тоскливой неизбежностью перехода от метаморфоза к метаморфозу по пути к идеальному насекомому, в которое так и не суждено перевоплотиться. Я не справлюсь, не справлюсь, не справлюсь, твердил он про себя, стоя на ковре в отцовском кабинете и созерцая строгий силуэт отца, склонившийся над бумагами сосредоточенно, будто вышивальщица. Будущее представлялось ему жадной и мрачной соковыжималкой, готовой засосать его тело в свою ржавую горловину, путешествием кувырком по сточным канавам к безысходному морю старости, оставляющему на песке во время отлива зубы и волосы как свидетельства отнюдь не величавого возраста патриарха, а бесславного одряхления. Портрет матери улыбался с полки меланхолическими розовыми отблесками, как будто радостное солнечное утро с трудом пробивалось сквозь витражную смальту ее губ: она ведь тоже не справилась, не в силах выбрать между корзинкой с вязаньем и романами Эсы, одиноко забившись в уголок дивана, погруженная в загадочные размышления; да, возможно, и с остальными, с оставшейся частью семейной стаи, произошло то же самое, все они остались одинокими, если не вовсе всеми покинутыми, безнадежно отрезанными от мира пропастью отчаяния. Он будто вновь увидел деда на веранде дома в Нелаш в те вечера, когда закат тянет по горам лиловый туман из экранизаций Библии, увидел, как дедушка созерцает каштаны с горечью адмирала, замершего на мостике тонущего корабля, увидел вновь бабушку, шагающую туда-сюда по коридору, сжигаемую лихорадкой никому не нужной энергии, увидел дядюшек, задавленных повседневностью, вспомнил вялое смирение гостей, услышал молчание, внезапно прерывавшее разговоры, увидел, как в эти мгновения все испуганно дергались, ерзали, пораженные невысказанным ужасом. Кто же справился, вопрошал сам себя врач, пытаясь припарковать машину у кабинета дантиста и наконец пристроив ее задом к шелудивой бакалейной лавке, удушенной вместе со своими рисом и картошкой гигантским супермаркетом, предлагавшим портясенным покупателям заранее пережеванную американскую пищу, упакованную в целлофановый голос Энди Уильямса, вырывающийся клубами соблазнительного пара из расставленных повсюду с хитрым расчетом громкоговорителей, кто же умудрился явить себя себе идеальным румынским гимнастом, застывшим в воздухе во время упражнения на кольцах, роняя хлопья талька из тарзаньих подмышек? Возможно, я мертв, подумал он, почти наверняка, я умер, и ничего важного со мной уже не случится, гангрена жрет внутренности, в голове – пустота, а там наверху, над землей, мягкая рука ветра шелестит в тщетных поисках не пойми чего кронами кипарисов, будто перелистывая мятую газету.
В прихожей у дантиста в полутьме незримо парило жужжание бормашины, готовое жадной мухой спикировать на сладкий сахарок зазевавшегося зуба. Худая и бледная регистраторша, похожая на страдающую гемофилией графиню, протянула ему через стойку прозрачные пальцы:
– Что у нас хорошенького, сеньор доктор?
Она принадлежала к особой разновидности португальцев, переплавляющих события жизни в пугающую цепь уменьшительно-ласкательных суффиксов: так на прошлой неделе врач был буквально раздавлен подробнейшим рассказом о гриппе ее сына, маленького извращенца, любителя поиграть со штекерами хозяйского телефонного коммутатора, направляя в Бостон или Непал стоны боли от лиссабонских абсцессов:
– Бедняжечка страдал животиком, я ему градусничек под мышечку, а глазики у малышечки вот такусенькие от воспаленьица, целую неделю сидел на куриных бульончиках, я даже думала позвонить вашему папочке, сеньор доктор, в таком возрасте никогда не знаешь, не отразится ли это на головке, но уже, слава Богу, идет на поправочку, я обещала поставить свечечку святой Филомене, а сейчас оставила его в кроватке, он там сидит спокойненько и играет в телефонисточку: раз уж здесь не может отвечать на звоночки, делает вид там, что отвечает, вот только что инженер Годинью, такой полненький симпатичный господин, звонил, что его, мол, беспокоит зуб мудрости, и очень удивился, что не слышно моего Эдгарушечки, он так к нему привык, даже вот прямо и говорит мне: дона Делмира, а мальчик-то где? А я ему: волей Божьей через недельку будет тут как тут, сеньор инженер; не потому что он мой сынок, мне даже неудобно из-за этого, но вы не представляете, как он ловко управляется с наушниками, когда вырастет, точно устроится в Радиокомпанию Маркони, моя сестра так и говорит: никого не видала, кто как Эдгар Филипи (она его называет Эдгаром Филипи, потому что его так зовут: Эдгар по отцу и Филипи по крестному), так вот, она говорит: Никого не видала, кто так ловко, как Эдгар Филипи, управляется с коммутатором, и это правда, моя сестрица замужем за электриком, и тут ее не проведешь, только бы, Боже и Пресвятая Богородица, грипп не дал ему осложнения на ушки. Но я даже думать об этом не хочу, а то мне плохо станет, вот видите: эффортил принимаю, меня доктор из поликлиники предупредил: сеньора, следите за давлением, с почками у вас все в порядке, но за давлением следите, так что вот вам, доктор, талончик на следующую пятницу.
Подобные речи, смахивающие на сувенирные каравеллы, сплетенные из филиграни, подумал психиатр, приводят меня в такой же восторг, как кружевные напероны и расписные карусели – амулеты народа, агонизирующего среди пейзажа, состоящего из сплошных кошек на подоконниках и подземных писсуаров. Сама река астматически, а отнюдь не величаво вздыхает из глубины отхожих мест: обогнув мыс Доброй Надежды, море непоправимо разжирело и стало ручным, как собаки консьержек, трущиеся о наши щиколотки с раздражающей покорностью кастратов. Опасаясь нового потока жалоб на нездоровье, врач скрылся в глубине пещеры-приемной, подобно крабу, убегающему от настойчивого ловца морских деликатесов. Там стопка миссионерских журналов под железной кованой лампой, изливающей мутный свет своим скошенным глазом, гарантировала ему безгрешный покой за чтением «отче наш» на языке зулу. Примостив свои кости на изрядно потертом сотнями или тысячами предыдущих носителей кариеса черном кожаном сиденье, этаком коне, забальзамированном в форме стула, однако еще способном на пару-тройку неловких антраша, он выудил из стопки благочестивой периодики остатки еженедельника со смеющейся монахиней-мулаткой на обложке, где священник-шотландец в длинной статье, иллюстированной фотографиями зебр, повествовал об успешной христианизации племени пигмеев, двое из которых, диакон М’Фулум и субдиакон Т’Локлу, работают в настоящее время в Ватикане над революционной диссертацией, в коей приведут расчет реальной высоты Ноева ковчега, исходя из средней длины шеи жирафы: этнотеология ниспровергает катехизис. Скоро какой-нибудь каноник из Саудовской Аравии станет доказывать, что Адам был верблюдом, змей – движущимся конвейером, Бог Отец – шейхом в очках «Рей-Бен», погоняющим стадо ангелов-евнухов не вылезая из своего шестидверного «мерседеса». Иногда психиатру казалось, что Ага Хан[62]62
Принц Карим Ага-хан IV (р. 1936) – духовный лидер, имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов, мультимиллионер, основатель курорта Порто-Черво. В 1964 г. принимал участие в горнолыжных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Инсбруке.
[Закрыть] на самом деле и есть воплощение Христа, отыгрывающегося за крестные муки скоростным спуском на лыжах со швейцарских вершин в компании Мисс Филиппины, а истинные святые – это загорелые парни, рекламирующие «Ротманс-Кинг-Сайз», застыв в мужественных позах ветеранов эротического фронта. Он мысленно сравнил себя с ними, и воспоминание об отражении, которое он время от времени внезапно ловил в зеркалах кондитерских, отражении тощего, хилого типа, слегка даже забавного, заставило его в миллионный раз с горечью вспомнить о своем земном происхождении и, следовательно, бесславном будущем. Упорная нудная боль терзала его челюсть. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным, вынужденным играть в какие-то безумные шахматы по неведомым ему правилам. Срочно требовалась нянька, которая учила бы его ходить, нависая над ним щедрыми горячими сосцами капитолийской волчицы, затянутыми в шелковистый розовый бюстгальтер. Никто и нигде не ждал его. Никто о нем особенно не беспокоился. И черный кожаный стул нес его, как плот после кораблекрушения, по пустынному городу.
Эта ошеломляющая уверенность в том, что кругом ни души, посещавшая его чаще всего по утрам, когда он мучительно сгребал сам себя в кучу вязкими и склизкими движениями астронавта, очнувшегося по возвращении со звезд в двух метрах от сбитых в комок простыней, слегка ослабла при звуке шагов из коридора и слов приветствия от бледной жертвы гемофилии («Добрый день, барышня Эдит, боюсь, вам придется немножечко подождать в приемной»), доносившихся из ее каморки с интонацией слезной мольбы, подобной заунывному чтению Корана за решетчатым окошком мечети. Оторвав взгляд от благочестивых пигмеев, постигших свет христианства на поучительном примере жития святого Алоизия Гонзаги, он узрел юную блондинку, которая подошла и села на стул – точную копию его стула, только по другую сторону лампы, и, сначала искоса бросив на врача быстрый и проницательный оценивающий взгляд, как бы лизнув языком прожектора, остановила на нем ясные глаза и захлопала ресницами, как горлицы хлопают крыльями, пристраиваясь в локтевом сгибе статуи. В доме напротив какая-то толстуха вытрясала половик, протиснувшись между зарослями гераней, а ее сосед сверху, сидя в одной майке на складном брезентовом табурете посреди балкона, уткнулся в газету с новостями спорта. Было четверть третьего. Блондинка достала из сумки книгу из серии «Вампир», заложенную билетом на метро, скрестила ноги, как лезвия ножниц, и свод ее стопы выгнулся, как у балерин Дега, застывших в мгновенно-извечном движении и окутанных ватным паром нежности художника: у летучих существ всегда найдется восторженный почитатель.
– Привет, – сказал врач таким тоном, каким Пикассо обращался, должно быть, к своей голубке.
Брови блондинки двинулись навстречу друг другу и сошлись, образовав фигуру, напоминающую очертаниями крышу беседки, которую слегка задевают, подобно ветвям платанов, непослушные пряди.
– Это случилось в те давние времена, когда зубная боль умела говорить, – сказала она.
Тембр голоса у нее был такой, каким представляется голос Марлен Дитрих в юности.
– У меня ни один зуб не болит, потому что все вставные, – сообщил врач. – Я просто пришел заменить их на акульи, чтобы сподручнее было заглатывать рыбок из аквариума крестной.
– А я пришла убить дантиста, – заявила блондинка. – Только что в конторе у Перри Мейсона[63]63
Перри Мейсон – адвокат из серии детективных романов Эрла Стенли Гарднера (США).
[Закрыть] мне подсказали, как провернуть это дело.
В школе ты наверняка мгновенно щелкала квадратные уравнения, решил психиатр, опасавшийся прагматичных женщин: его вотчиной всегда был смутный блуждающий сон или мечта, которую не расчислишь с помощью таблицы логарифмов, он с трудом мог свыкнуться с идеей геометрической упорядоченности жизни и оттого чувствовал себя заблудившимся и растерянным муравьем без компаса. Отсюда его ощущение, что дни ползут в обратном порядке, как старинные часы, чьи стрелки движутся в обратную сторону, пытаясь оживить покойников с портретов, становящихся все отчетливее с каждым возвращенным часом. Бороды дедушек из Бразилии торчали из семейного альбома, юбки с кринолинами топорщились в ящиках, набитых фотографиями, кузены в гамашах вели светские беседы в гостиной, сеньор Барруз-и-Каштру необыкновенно выразительно декламировал стихи Антониу Гомеша Леала[64]64
Антониу Дуарте Гомеш Леал (1848–1921) – португальский поэт-декадент и литературный критик.
[Закрыть]. Сколько мне лет? – спросил сам себя врач, приступая к очередной самопроверке, позволявшей ему кое-как разобраться с внешним миром, этой вязкой субстанцией, в которой тонули его растерянные шаги. Дочери, удостоверение личности и работа в больнице еще привязывали его к повседневности, но такими тонкими нитями, что он парил, как семечко одуванчика, готовое улететь прочь с каждым порывом ветра. Расставшись с женой, он потерял опору и направление: брюки болтались на поясе, на воротничках не хватало пуговиц, он постепенно становился похожим на бродягу, в тщательно выбритой бороде которого угадывался пепел прошлой достойной жизни. В последнее время, глядя на себя в зеркало, он стал замечать, что знакомые черты и те его покидают: на месте мимических складок от улыбки он замечал морщины отчаяния. Лба на лице становилось все больше и больше, так что скоро впору будет делать пробор у самого уха и зачесывать на лысину липкие от фиксатуара пряди в смешных потугах выглядеть моложе. Внезапно он вспомнил ностальгический вздох матери: