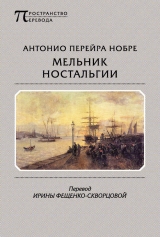
Текст книги "Мельник ностальгии (сборник)"
Автор книги: Антонио Перейра Нобре
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
«Письмо Мануэлу» написано в форме разговора с другом. Великолепны пейзажи Коимбры и её окрестностей, которые идентифицируются с состояниями души самого поэта. Детально описана повседневная жизнь университетского города, даны портреты друзей поэта и компаньонов по дому, некоторых преподавателей. Одушевление стихий (профессор Океан), деревьев (чёрных тополей) выдают в Нобре пантеиста, близкого по духу поэту Антеро де Кента л.
«Непорочная» – серия зарисовок, в которых на фоне традиционно португальского сельского пейзажа происходит венчание знатного сеньора, принимаемое народом и слугами с почтительным восхищением, сцены семейной жизни. Образ невесты, затем жены поэта выведен нежно и восторженно, подчёркнут духовный характер их любви. Излишняя порой идеализация снижается, благодаря шутливому тону описания сцен с Феей и рефрену-припеву: «Скажите мне, юные девы, чей образ так светит вдали?..», который сближает поэму с образцами народной поэзии.
Следующие два раздела книги: «Полная луна» и «Луна ущербная». Луна имела в творчестве Нобре особое значение, наиболее полно им раскрытое в первом стихотворении раздела – «Под влиянием луны»:
Луна, в чей плен так сладостно попасть!
Луна, чьи фазы помнят при посеве!
На океан твоя простёрта власть,
На женщин, тех, что носят плод во чреве.
Луна как небесное тело, отвечающее за ритмы жизни на всех космических уровнях, символизирует время, которое проходит, измеряемое последовательными, регулярно повторяющимися фазами, напоминает о циклическом обновлении, является символом перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни. Эти два раздела книги говорят об интересе Нобре к астрологии и оккультным наукам, что подтверждают и его стихи, и переписка. Интерес этот не возник в последние годы. Ещё в первом издании книги образ новой луны – символа смерти – насыщал собою почти все стихи, начиная от первого – «Память» и заканчивая «Горестями Анту».
В разделе «Полная луна» собраны восемь поэтических композиций, но только одно стихотворение появилось лишь во втором издании книги. Это «Дон Неудачник» – иронический автопортрет поэта, написанный простым разговорным языком. Тема фатализма, горького конфликта героя с действительностью подана с лиричным юмором, а по форме выдержана в традициях национальной народной поэзии.
«Закаты Франции» и «У огня» написаны под явным влиянием символизма и декадентства, но их совершенная форма и оригинальные образы-метафоры восхищают читателя. Объединяет оба стихотворения ностальгическое описание португальского пейзажа, который пробуждает в герое состояние внутренней чистоты и простодушной веры, напоминающее детство.
«Закаты Франции» сделаны в характерной для Нобре манере: на два голоса. Это подчёркивает контраст между мрачной красотой французских закатов, описанных в основной части стихотворения с помощью сложных метафор, и родными поэту пейзажами с их покоем и невинностью, о которых повествуется простым разговорным языком.
«У огня» особенно интересно противоположностью разговорного языка лирическому тону, ритмической вариабельностью, свободой, позволяющей Нобре достигать такой натуральности в этих зарисовках действительности.
Рубрика «Ущербная луна» содержит семь композиций, среди которых сонет «Мальчик и юноша», наиболее известный португальскому читателю. В стихах этого раздела, усиливаются трагичность восприятия жизни, зачарованность смертью, дающей забвение, желание навсегда заснуть – характерные темы для конца девятнадцатого столетия. Сюда входят «Всадники» в форме традиционного романса с перекрёстной рифмой; «Прощай!», также в форме романса; «Литания» – по ритму настоящая колыбельная; «Сон Жуана», по музыкальности и тону напоминающий стихи Алмейды Гаррета и Жуана де Деуш.
Раздел «Элегии» содержит стихи и поэмы, повествующие о смерти, главным образом, женщин, чистых и идеальных, часто мучениц при жизни. Среди них – сонеты, повествующие о смерти Офелии и Святой Ирины. Стихи полны нежности и глубокого религиозного чувства. Особенно обращают на себя внимание «Бедная чахоточная» и «Какая-то старушка». Первое пронизано глубокой нежностью к умирающей от чахотки девушке, во втором дана персонификация Смерти в образе старушки, причём ей приданы некоторые атрибуты Девы Марии, что соответствует народным верованиям.
Смерть для поэта имеет черты его матери, которая ждёт сына в могиле, он рисует её в образе старой кормилицы, просит её напоить его грудным молоком. Но поэт должен пройти долгий путь страданий в поисках этой своей первоначальной родины, где лишь и начнётся его настоящая жизнь: «Приведёт домой дорога // В тёплые объятья Бога».
Несмотря на непонимание и нападки, которыми было встречено первое издание книги Нобре, её оригинальность и художественная ценность в конце концов заставили признать её автора одним из лучших португальских поэтов, а его творчество – переходным от поэзии романтизма XIX столетия к творчеству поэтов XX столетия, многими своими чертами предвещающим современную португальскую поэзию. В статье «В память Антонио Нобре», написанной в 1915 году, Фернандо Пессоа, символ португальской словесности уже нового времени, подчёркивает, что Антонио Нобре первый раскрыл европейцам душу и национальный уклад жизни португальцев, раскрыл наивный пантеизм рода, который имеет такое ласковое слово для деревьев и камней, меланхолически в нём расцветающее. Ф. Пессоа находит для этого поэта удивительно тонкие, проникновенные определения: «Он пришёл осенью в сумерках. Несчастен тот, кто понимает и любит его!.. Когда он родился, родились мы все».
Ирина Фещенко-Скворцова
Переводчица выражает свою благодарность людям, без чьей неоценимой помощи и поддержки было бы невозможным появление этой книги:
Евгению Витковскому – основателю и руководителю Форума Век перевода, на котором шлифовались переводы Нобре;
Вадиму Фещенко – мужу и другу, создавшему все условия для работы над переводами.
Память

О, ты, Траз-уж-Монтеш, моя сторона,
Где в камушке каждом жива старина!
Один португалец оттуда далёко
Судьбой был заброшен, и жил одиноко.
По Борбе[1] родной на чужбине скучал,
Вернулся и девушку он повстречал.
Решилась судьба их за пару мгновений,
Венчали их в церкви, денёк был осенний.
И мальчик родился… Судачит молва:
Тот месяц злосчастный был месяцем льва[1]1
Знак созвездия Льва, соответствующий августу, считается злосчастным в народе.
[Закрыть].
Ах, девственна мать, что рождает поэта,
В очах её отблеск небесного света…
Луна для младенца плела ворожбу[2]:
Шли три мавританки пророчить судьбу.
Сказали, внушаемы дивною силой,
Что станет он принцем, но лишь за могилой.
И годы прошли, вновь осенний денёк:
«Я в Кову[2]2
На севере в районе Барселуш есть местечко под названием Кова, но слово «Кова» также в португальском языке означает могилу.
[Закрыть] поеду, прощай, мой сынок!»
Скорбящей Марии на матери платье,
В цветы убралась, на прощанье – объятье.
«Мы скоро увидимся, путь недалёк!»
Да, вот, не вернулась в назначенный срок.
Найти её муж безутешный пытался,
Поехал за нею, да там и остался.
Ах, воин отважный! Была в нём видна
Младенчески чистой души глубина!
Миры пересёк я, тоскою ведомый,
Без вас воротился дорогой знакомой.
Душа стала вещей под чарой луны,
Сбывается рок, нет в том вашей вины…
И всё же, чудесно, коль сын твой – Вергилий,
Пусть грустной судьбою его наградили.
Для вас, португальцы, я песню пою,
От вас не укрою тревогу мою.
Не ранить бы души вам песней унылой:
Нет книги грустней в Португалии милой!
Антонио
Какая нынче ночь! Мой уголь, словно лёд:
Принёс его из клети;
Сую его в камин, пусть пламя запоёт
О милом жарком лете!
Рождён в королевстве златых алтарей
У берега моря.
Карлота старая[1]! Рассказывай опять,
Люблю твои сказанья:
Ведь ты поможешь мне их в прошлом откопать —
Мои воспоминанья.
Я – внук мореходов, героев морей,
Правителей индий, бродяг, бунтарей,
Властителей моря!
Могильщик молодой, тебе вольно не спать,
И петь, и веселиться!
Мне тяпку одолжи, мне надо откопать,
Что в памяти хранится.
Какие ветра! Ах, какие ветра
Гуляют на море!
Вставайте из могил, у церкви, на дворе,
Наивны, нелукавы,
Вставайте из могил, все в лунном серебре,
Вы, детские забавы.
Ночь нынче грознее, страшней, чем вчера!
Зажги у купели свечу, о, сестра,
За тех, кто на море…
Карлота у окна, шептала в кутерьму
Дождя и бездорожья:
«Мой мальчик, о, мой принц!
Ты счастья дай ему, Святая Матерь Божья!»
Во вторник пришёл я в неласковый мир,
Под звон колокольный!
Антонио взрастал, судьба его ласкала:
Был счастлив и любим!
(И боль, что с ним жила, в груди квартировала, —
Взрастала вместе с ним…)
В карете судьбы захандрил пассажир,
Задумал покончить, печален и сир,
Я с жизнью бездольной…
Был ангелом одет на шествии он вскоре,
Осенней тусклой желтью
Пришлось ему нести (как плакал он, о горе!)
Большую губку с Желчью…[3]3
Антонио заставили идти в костюме ангела на религиозной процессии, где представлялась жизнь Христа, Его крёстные муки. Плакал, потому что дети не любят участвовать в таких шествиях. Мальчик нёс губку с желчью, аллегорию той губки с уксусом, которую римские солдаты дали Христу.
[Закрыть]
Вы скоро замёрзнете, воды реки, Замёрзнете скоро!
Ах, тётушка моя, почтенная Дельфина[2],
Она деньком дождливым
Молилась за меня у жаркого камина —
И вырос несчастливым!
О, воды речные и вы, родники!
Баюкают душу, чисты, глубоки,
Напевы немолчного хора…
В новены[4]4
Новёна (латинское novena – девять), у западных христиан девятидневное моление: молитвы, совершаемые ежедневно на протяжении 9 дней по образу девятидневного ожидания апостолами по вознесении Иисуса Христа ниспослания Святого Духа. В Католической Церкви и ряде протестантских деноминаций проведение новен не подчинено строгим нормам богослужебного устава. Они проводятся в отдельных общинах в период между Вознесением и Пятидесятницей, а также приурочиваются к другим временам церковного года или определенным ситуациям, когда желательны усиленные молитвы.
[Закрыть] вечером ходил Христа просить:
Невинный детский лепет!
О, как хочу сейчас его я воскресить:
Тот пыл, тот чистый трепет!
Студенты бродили, где шум, толчея.
Ах, им за столом не сидится…
И крёстная[3] времён с французами войны
Зарею голубою
На исповедь во храм, где горы зелены,
Брала меня с собою.
Таким же, как вы, был когда-то и я!
Повесы и плуты, плохие друзья!
Позвольте поэту трудиться.
Святым я шёл туда, но голос падре сдержан:
Он думал: озорство!
Я плакал и твердил, хоть был старик рассержен:
«Грехи? Ни одного!»
Ах, Иов – страдалец, весь – гной и гангрена,
Ты – мой аватар!
Молился по ночам (да так молюсь и ныне),
А дождь всё свирепел…
Казалось: я один средь водяной пустыни,
Лишь чайник пел-кипел…
Я жажду того же, склоняя колена,
Я подвигов веры ищу неизменно,
Пока я не стар!
Молил за тех, в Аду, кто стонет, изнемогший,
Чьё – всё в огне чело…
Некстати бормоча, продрогший и промокший:
– Какое там тепло!
Мука просыпалась из мельницы той,
Что в небе работает споро…
Звонарь бил тяжело в гудящую утробу:
Звон ввечеру суров!
И я на кухню шёл: бульон готов на пробу,
Бульон для бедняков…
Ах, мельник, что славен своей добротой!
Муки ты не трать так впустую, постой!
Зерно прорастает не скоро…
Служанки старые за прялкой коротали
Неторопливо ночь.
Чернушка лаяла, как совы пролетали,
Крича, летели прочь.
Вы по снегу шли у замёрзшей реки,
Босые, холодной весной!
Зе ду Теляду жил поблизости от нас[4]:
Монахини смиренней
Вдова его просить ходила к нам не раз
Под вечер, в дождь осенний…
Раздетые, вот вам мои пиджаки,
Босые, носите мои башмаки…
Мне пары довольно одной…
Сентябрь, ещё жара, и праздник винограда[5]!
И бедняки о хлебе
Нас просят ради душ, – да будет им награда! —
У Бога, там, на небе.
Когда я умру, этой болью объятый,
Меня упокойте вы в море!
Там были и слепцы с нетвёрдою походкой,
С незрячим взглядом вдаль!
И в язвах, в лишаях, а всё ж больных чахоткой
Мне было больше жаль…
От горя до горя, печалью заклятый,
Бреду я, покуда, водою разъятый,
Не стану частицею моря!
Вот в рамке траурной письмо[6] – рыданье в ночь,
Родительское горе!
Как их утешить, тех, кто сына или дочь
Теряет там, на море!
Бьёт полночь… Удары! как медленно их
Звонарь отбивает – пластает….
О, этих родников вечерний плач осенний
Средь жаждущей травы!
И лунный свет кропит водою вдохновений
Всё тленное, увы…
И Виктор опять в уголочке притих,
Он – снова дитя, и слагает он стих,
Все слоги по пальцам считает!
Часы о полночи торжественнее били:
«Труш!» – так спадает груз.
И дедушка, что спал спокойным сном в могиле,
Входил, о, Иисус!
Сосед мой заходит, я стул пододвину:
Он голоден, жаль мне вдовца-горюна.
В прополку – тишина, как не было народа,
Никто не заходил.
А управляющий[7] наш выбран от прихода:
Могильщиком он был…
Сосед, не спеши, сядь поближе к камину!
Вот ужин мой, видишь? Ты съешь половину
И выпей стаканчик вина!
Слуга скончался в ночь, заставил всех страдать:
О, горькая разлука!
Дрожа, его просил бабуле передать
Слова любви от внука…
Латинский квартал, ты усталый от зноя,
Усни после тяжкого дня!
О, африканские гитары рек, альты
И фадо[5]5
«Фадо» или «фаду» – особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления, называемое по-португальски «саудаде». Песни исполняются под аккомпанемент гитар и виол.
[Закрыть] в тишине!
О, говорящих рек вода! Живая ты,
С угрями в глубине!
Ах, Жорж[8], замолчи! Что же это такое?!
Ты даже охрип! Ну, оставь же в покое,
Безумный, оставь же меня!
На смоквы я влезал, что щедростью дивили:
Плодов – как в небе звёзд!
И в шапки рваные их нищие ловили:
Тянулись в полный рост…
О, добрые души, придите ко мне!
О, духи-кочевники, в вас – моя грусть!
В колодце заперта, как мавританка в замке,
Печальная луна!
Я опускал ведро, но в деревянной рамке
Была вода одна….
Я вас воскрешаю в ночной тишине!
А вы мне не верите там, в вышине…
И пусть вы не верите, пусть…
Мой первый стих упал на известь, точно слёзы, —
Церковный двор затих…
Нет в Португалии прекрасней Девы-розы,
О Ней мой первый стих.
О, если бы мог я помочь вам прозреть,
Слепцы, как легко вас обидеть…
Жнея-луна серпом вздымает звёздный прах,
Кружась в ночи нагая.
А лунный свет идёт часовням здесь, в горах,
Их известь обжигая.
Мне больно смотреть на вас, больно смотреть!
Но Боже! Уж лучше не видеть и впредь,
Чем мир, вроде этого, видеть…
Наш граф из Лиша был Горация знаток,
Большой знаток латыни!
И он меня учил, я помню тот урок,
Стихи те и доныне!
О, Смерть, ты теперь – моя добрая няня!
Чудесно баюкаешь ты!
Мой первый школьный день! Вернись! Кто может снова
В те дни меня увлечь!
Я помню дивный цвет костюма выходного
И волосы до плеч…
И ночью, как сон подкрадётся, дурманя,
Прошу я его, чтоб пришла его няня
С могил, где сажала цветы…
Ребята, сколько гнёзд вы погубили втуне!
Я гнёзда не искал.
Но покупал у вас прелестных щебетуний,
На волю отпускал…
Камоэнс, прославивший бурное море!
Приди мне помочь!
И узники тюрьмы в глаза с тоской глядели,
Как жаль их! Нету сил…
Я подходил туда, где стражники сидели,
За узников просил…
Зовусь, как твой раб, кто был верен и в горе,
Ты ради него и штормящего моря —
Приди мне помочь!
А если видел я: в опасности ребёнок,
Боязнь свою гоня,
Обидчика держал я изо всех силёнок:
«Не тронь! Ударь меня…»
Ну, ветер! Ну, ветер! Он парус сорвал,
У мачты трещат крепежи!
Когда колокола по мёртвому звонили,
Минутку улучу:
Шепну отцу, и он просил, чтоб разрешили
Мне подержать свечу[9]…
Ну, волки морские, сжимайте штурвал,
Как судно трепещет, как пенится вал.
По ветру! По ветру держи!
Ах, ангелочков смерть! День похорон тяжёл,
Родным нет злее доли…
Есть сладости, вино – для тех, кто в дом пришёл[6]6
В деревнях существовал обычай давать вино и сладости людям, которые приходили утешать скорбящих.
[Закрыть]
Утешить в этой боли…
О, старый мой пёс, ты – мой друг!
Что хочешь сказать этим взглядом?
Кузина[10] по горам бродила в покрывале,
Как бы в мирах иных.
Признаюсь без стыда: безумные бывали
Среди моих родных.
Как тесен друзей моих круг…
Но ты, старый пёс, – верный друг,
И если я плачу, ты рядом.
Года росли, как я, мы словно сад росли
Под звёздами одними.
Мечты мои цвели… и умерли, ушли,
А я не умер с ними…
Вы, братья с отрогов Крештелу[11]!
Откройте мне двери, о, братья!
Пришлось читать в сердцах, что лгут другим в миру,
Лгут, сильным угождая,
Я был открыт добру, я думал, я умру,
Но лишь душа – седая!
Влекусь я всем сердцем к такому уделу,
Лишь ряса пристала усталому телу…
Откройте мне двери, о, братья!
И вот, я нищим стал: развеялись химеры,
Как Педро Сень, я стал,
Как тот, что всё имел: фрегаты и галеры,
Имел и потерял…
Земляк – лузитанец! О чём нам молиться?
Вихрь замки воздушные сдул, как солому…
Снег в волосах залёг, морщин глубокий след —
Утёс, поросший мхом…
Слепец, навек слепец, мне бельма застят свет
В углу моём глухом!
Родителей видишь печальные лица,
И рушится, рушится всё – только длится
Большая печаль по былому…
Карлота старая, ты плачешь почему,
Пред Девой у подножья?
«Ах, счастья не дала ты принцу моему,
Святая Матерь Божья!…»
Париж, 1891
Лузитания в Латинском квартале
1
Один!
Ах, горе лузитанцу, горе:
Изведав гнев морских глубин,
Приплыл издалека, с собой в раздоре, —
Не любящим пришёл и не любимым, —
Апрель в октябрьском сумрачном уборе!
Уж лучше плыть в Бразилию, за море,
Солдатом быть, скитаться пилигримом…
Дитя и юноша, я жил в молочной башне,
Которой равных – нет[7]7
Одна из башен средневековой крепостной стены в Коимбре, она называлась Суб-Рипаш, впоследствии известна как башня Анту, одно из самых примечательных мест города. Здесь Нобре жил в октябре 1890 года в течение одной недели перед отъездом в Париж.
[Закрыть]!
Оливки зрели, а на тучной пашне
Цветы льняные голубили свет.
Святой Лаврентий мельницы крутил[8]8
У моряков из приморского города Леса-да-Палмейра был обычай во время затянувшегося штиля призывать на помощь Святого Лаврентия, чтобы он послал ветер.
[Закрыть],
Что крыльями махали мне вослед…
Коровы белые, сам Бог им позлатил
Крутые бедра, молоко давали,
А козочки – нарядней щеголих,
Овечек стадо: ты найдёшь едва ли
Белее шерсти, чем была у них.
Антонио пастух был им прилежный:
Я с ними в горы шёл, где травы зеленей,
Часы текли, текли в простор безбрежный,
Платок я расстилал среди камней,
В компании своих любимец милых,
Для ужина в горах, где всё видать далече,
Просторен зал, и звёзды в нём как свечи.
А все питомицы мои – так непорочны,
Сродни моей, я знаю, кровь в их жилах,
Ах, братства узы между нами прочны!
Столь чистыми они созданиями были,
Что только им недоставало речи…
Когда же в церкви к Троице звонили,
Меня овечки часто окружали:
Разумнейшие очи человечьи.
Молился я… Они мне подражали…
Дитя и юноша, я жил в молочной башне,
Которой равных – нет!
Посевов льна разлив лазоревый на пашне…
Но миг – и рухнул замок мой под грузом бед!
Оливковые высохли деревья,
Коровы пали, нет моей отары,
Закончились счастливые кочевья…
А крылья мельниц – сломаны и стары.
Какая грусть! Судьба – как дом в разоре.
Уж лучше быть безумным, быть увечным,
Уж лучше быть слепцом, идти босым по снегу…
Ах, горе лузитанцу, горе!
Он мельницу принёс в мешке заплечном.
Когда-то двигала её вода Мондёгу[9]9
Мондегу – река на севере страны, её истоки – в горной стране Серра-да-Эштрела, она протекает через Коимбру, где учился поэт.
[Закрыть],
Сегодня крутят крылья воды Сены[10]10
Поэма написана во время обучения в Париже – в Сорбонне.
[Закрыть]…
Черна её мука! черней угля…
Молитесь за того, чьи думы неизменны:
За мельника тоски…
О, ты, моя земля,
Моя земля, заполненная светом,
Земля, которую давно заколдовали,
Ты – в полнолуние, ты – в дождь тишайший летом,
Повозки, что в полях заночевали,
Скрипящие повозки и волы,
Поющая в тумане утра жница,
И чёрных тополей надменные стволы,
Июльского рассвета багряница,
Стирающие простыни на речке девы,
И колокольный звон, что заполняет небо!
Что сталось с вами? Где вы, где вы?
Вы, те, что тесто месите для хлеба,
Вы, булочницы деревень окрестных,
Старушки, что сидят у пряслица зевая,
В седых кудрях в своих каморках тесных,
И рыбаки, что ловлю затевая,
Наладят сети, полные крючков…
О, чёрный бык меж красными плащами!
Его рога и блеск его зрачков!
И зрители в домах, окутанных плющами…
О, праздник Путника – Сеньора Вианданте[1],
Процессия под звук мелодий плавных,
Аббата два, сеньоры д’Амаранте
Три выводка племянников их славных!
О, гдé вы? гдé вы?
Мой плащ студенческий – нарядов всех милей!
Аве-Марии зорь – печальные напевы!
Озябший город между чёрных тополей!
Спят бедняков дома, луне в тиши внимая…
Дорога из Сантьяго! Сет-Эштрéлу!
Мыс Мира[2]! Ты, Морéйра д’Мáйя[3]!
О, крепость Липп[4]! я вижу цепкую омелу,
Во рве морской укроп, чьи стебельки упруги,
А губернатор подстригает стебли роз.
Там ящериц тела – сплетённые супруги…
А «ведьма падре»[11]11
«Ведьма падре» старая служанка одного священника в Леса-да-Палмейра. Она следила за домом падре, а также гадала на картах.
[Закрыть] в карты тычет острый нос…
Вы, Жоаки́н Тереза и Франсишку Óра[5]!
Вы были начеку – и летом, и зимой!
Без бдительного вашего надзора
Немало лодок не вернулось бы домой…
Ты, Аррабáлде[6], волк морской, при вечной трубке!
Поведай мне о корабле Персеверáнса[12]12
«Персеверáнса» – испанский корабль, который разбился на скалах Лейшойш на Байша ду Мосу ночью 25 августа 1872 г. по причине плохой видимости из-за сильного тумана. Почти все моряки погибли.
[Закрыть]:
Ночь августа, туман был молока белей,
И гибли моряки, тонули шлюпки —
Сюжет короткий для печального романса.
Помилуй, Боже, души тех бедняг…
Маяк, внимающий сигналам кораблей!
О, флаги дальних стран, лихих морских бродяг,
На фоне волн вы – волшебство, словарь цветов!
О, море бурное, ты – Сéрра-да-Эштрéла,
Когда грозишь порвать у корабля швартов!
Твоя безбрежность снежной пеной запестрела —
Как шапки гор, вы, бездн разинутые зевы,
Вы, моряки, вы, пенных пастухи гуртов, —
О, гдé вы? гдé вы?
О, зелен монастырь, что в бездне вод возник,
Чья аббатиса вечная – Луна,
А ветер – неизменный духовник…
Солёная вода зелёных пропастей,
Чьей глуби мера не вмещает ни одна!
О, Море – ты судов могила и костей!
И ветер их порой выносит на песок:
Невеста мёртвая, в фате – цветок жасмина!
На девушке ещё нарядный поясок…
А руки матери сжимают руки сына!
Вот головы – в беретах – сини и раздуты!
Скелеты эти – в дорогих плащах до пят!
И ноги мертвеца – в сандалии обуты!
А рты, открытые навек, ещё вопят!
Глаза из камня на песке – глядят, блистая!
И ротик боле не поёт – прелестной девы!
И новобрачные – в объятиях доселе!
Нетленно тело на волнах: святая?
О, мёртвые морей в солёной колыбели!
О, гдé вы? гдé вы?
Часовня Доброй Вести[7] – ты морской цветок!
Цветёшь, где на песке обречены посевы.
Я имя написал там, где алел восток,
И вот, с известняка ещё оно не смыто.
Любимые места! По ним бродил я встарь:
Земля Ролдáн и ты, местечко Перафи́та[8]!
Ах, Санта Ана[9], в ней – сияющий алтарь,
И при луне кресты – скользят по стенам там!
А вот часовенка Сеньора да Арéйя[10],
В ней сам Господь явился беднякам.
Пляж Памяти: закат, среди камней алея,
Напомнит, как причалил здесь в один из дней
Дон Педро[П], назывался он «Король-солдат».
Рассветы в Барра, ах[12]! пожара багряней!
Меж соснами в бору – торжественный закат.
В церковных окнах пышно солнце умирает,
Палитра витража окрасит весь приход.
А море в этот час морской травой играет:
Обрывками плаща сирены здешних вод!
Вот, рыбаки из Пóвоа[13] идут на ловлю…
Я будто снова слышу их напевы,
Молюсь, чтоб Бог привёл их под родную кровлю!
О, где вы!








