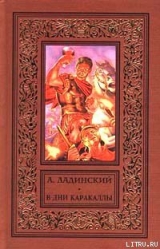
Текст книги "В дни Каракаллы"
Автор книги: Антонин Ладинский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Между тем костер разгорался. Люди смотрели на пламя, и каждый думал о своем. Коклатин Адвент, вероятно, о том, что скоро пробьет и его смертный час. А я лишний раз удивлялся своей судьбе, которая дала мне случай присутствовать при таких церемониях, хотя я был всего только бедным писцом и уроженцем мало чем примечательного города.
Потребовалось некоторое время для того, чтобы кипарисовое дерево превратилось в золу. Страдая от жары, люди нетерпеливо ждали, когда же можно будет собрать пепел Фаста в алебастровую урну и навсегда покончить со всем этим. Рабы в белых туниках с золотой каймой, как положено для императорских слуг, разносили в амфорах вино и подавали чаши, чтобы присутствующие могли утолить жажду. Дион Кассий сказал Марию:
– Еще хорошо, что вина поднесли… А помнишь, в Никомедии?.. Целый день стояли на ногах в ожидании августа, во рту пересохло, а мимо нас таскали мехи с вином для стражи.
Меня удивляло, что здесь говорят так свободно, не опасаясь императорских соглядатаев. Потом Вергилиан открыл мне, что слишком смелые высказывания объясняются раздражением против императора, основывающего свою власть на любви воинов и земледельцев, в то время как Дион и многие другие владельцы крупных поместий являются сторонниками восстановления древних привилегий сената.
Слышал я и другого рода разговоры. Ритор Умбрий, на которого Вергилиан указал мне как на тайного христианина, шептал другому римлянину, склонившему набок лысую голову:
– Жалкие предрассудки! К чему эти пышные погребения, фимиам, биение в перси? Мы собираемся почтить Фаста ристаниями, а он, может быть, уже горит в аду.
Костер угасал. Я вспомнил, как отец рассказывал мне, что в его стране покойника опускали в могилу и рядом клали горшок с пшеницей, чтобы он мог насытиться пищей и по ту сторону гроба, опоясывали мертвеца мечом, если он был воин, а потом пили перебродивший мед, плясали и боролись, чтобы показать, что жизнь на земле не прекращается, даже если один из нас покидает ее.
XI
Ни в одном городе я не наблюдал такого трудолюбия, как в Александрии. Здесь все работают или торгуют, и даже безногие, однорукие и слепцы находят для себя какое-нибудь занятие, чтобы добывать пропитание. Поэтому среди александрийского населения много ремесленников и беспокойных людей всякого рода, и власти бдительно смотрят за тем, чтобы в городе не нарушалось спокойствие и ничто не мешало доставке пшеницы в Рим.
Александрия ведет торговлю с далекой Индией, хотя эти торговые сношения замирают с каждым годом. В середине лета александрийские купцы везут свои товары вверх по Нилу, до города Копта, на что требуется при благоприятных обстоятельствах двенадцать дней. Здесь тюки перегружают на верблюдов и направляют на юго-восток до Вереники – оживленного порта на Чермном море, с удобными караван-сараями и складами. На это уходит еще двенадцать дней. Затем товары перевозят на кораблях в Индию или Эфиопию. Пользуясь ветрами, которые в это время года неизменно дуют в сторону Индии, корабли приплывают в Кану на берегу Аравии, а потом в индийский город Музирас. Там товары распродаются и корабли вновь спешно грузятся индийскими материями и пряностями, чтобы воспользоваться благоприятными ветрами, превращающимися теперь из юго-западных в северо-восточные, что позволяет кораблю доплыть к зиме в Чермное море. Но в Александрию стекаются самые разнообразные и дорогие товары: из страны эфиопов – золотой песок, слоновая кость и черепахи, из Аравии – благоухания и специи, с берегов Персидского залива – жемчуг, из Индии, как мы сказали, виссон, пряности, а кроме того, драгоценные камни, из Серики – шелк, – и все это в десять раз дороже продается в Риме.
Александрию называют житницей государства, Египет питает до сих пор хлебом римское население и многие легионы. Тот, в чьих руках эта провинция, может считать себя господином мира, и, опасаясь, чтобы она не попала в руки узурпаторов, цезари особыми декретами запрещают вступать на ее территорию сенаторам и вообще возбраняют въезд в Александрию всем, кто кажется подозрительным или пользуется влиянием среди местных жителей. Тем не менее этот город всегда был очагом смут, да и теперь часто проявляет неповиновение предержащим властям. Нигде не возникало столько философских школ, литературных споров, ересей и сатирических песенок, как в этом центре папирусной и стекольной промышленности, и нигде нет столько недовольных существующим порядком; толпы бедняков, корабельщиков и грузчиков всегда готовы здесь к возмущению.
Но следует сказать, что Александрия не египетский, а греко-восточный город; в нем обитает около миллиона жителей – греки, римляне, иудеи, а также эфиопы, ливийцы, индийцы, бактриане, поэтому в городе много храмов самым разнообразным богам и синагог. Главная, так называемая Канопская, улица вся в колоннадах, имеет в ширину сорок локтей, и такова же поперечная улица, идущая от ворот Солнца к воротам Луны. Двенадцать других улиц направлены в сторону моря, чтобы их могли овевать морские зефиры, умеряя африканскую жару, и все они снабжены подземными клоаками и проточной водой. Особенно великолепна та часть города, в которой расположены царские дворцы; там находятся Музей и усыпальница, где прах Александра Великого покоится в стеклянном гробу, наполненном медом. Мне очень хотелось взглянуть на него, но Септимий Север почему-то запретил доступ к гробнице. Еще привлекают внимание путешественников портики, библиотеки, сады Цезаря, так называемый Серапей, где стоит колонна Помпея, и, конечно, Фарос. Чтобы дать представление о климате этого города, достаточно сказать, что в нем даже зимою цветут розы.
Узнав, что корабль Вергилиана по пути в Остию должен зайти в Александрию, Маммея просила поэта передать письмо Аммонию Саккасу. Это был прославленный философ платоновской школы, с которым антиохийская красавица находилась в переписке, хотя Аммоний и уверял, что читал Платона невнимательно, с пропусками, и поэтому отнюдь не может считаться его истолкователем. По прибытии в Александрию Вергилиан целыми днями пропадал в Академии, где Аммоний беседовал со своими учениками о судьбах человеческой души, а я бродил по городу и любовался прекрасными общественными зданиями.
В Александрийском порту в любое время находится множество кораблей, и над ними возвышается Фарос – одно из семи чудес света. Я часто ходил смотреть на него вблизи. Знаменитый маяк стоит на базальтовом острове, построен из огромных, вплотную пригнанных одна к другой гранитных глыб и покрыт мрамором. Внизу он имеет четырехугольное основание, на нем поднимается шестиугольная башня такой же высоты, а наверху – круглая, увенчанная клубами черного дыма. Стоя у подножия маяка, надо высоко задирать голову, чтобы увидеть его вершину, и только тогда постигаешь все величие сооружения. День и ночь по устроенным внутри маяка винтообразным, но отлогим лестницам без ступенек поднимаются ослы, нагруженные смолой и другими горючими материалами, и за исправностью маяка наблюдают особо приставленные для этой цели общественные рабы, которым не разрешается покидать Фарос даже на один час.
Однажды во время прогулок я нос к носу столкнулся с Вергилианом. Я знал, что поэт все еще ищет свою танцовщицу. Но он развел руками от удивления:
– Где ты пропадаешь, несчастный маратель папируса? Я разыскиваю тебя по всему городу. Мне необходимо переписать несколько важных писем для сенатора.
Мы вернулись вместе в тот дом, где поэт нашел гостеприимство в Александрии, я без труда выполнил заданную мне работу, а потом Вергилиан сказал:
– Я направляюсь сейчас в легионный лагерь. Август собирает там для какой-то цели александрийскую молодежь. Интересно. Не хочешь ли и ты пойти со мной?
Я поспешил выразить согласие, и мы отправились вдвоем, среди людской толкотни, к воротам Луны, откуда дорога вела в лагерь III легиона.
Каракалла уже несколько дней находился в Александрии, якобы для поклонения Серапису. Но ему пришла в голову мысль создать особую александрийскую фалангу, наподобие македонской, и городские глашатаи объявляли в общественных местах, что император призывает всех молодых людей в новый воинский отряд. Со смехом и шуточками, на которые такие мастера александрийцы, молодежь отправилась в лагерь, чтобы посмотреть на чудака, корчившего из себя нового Александра. В большинстве случаев это были сыновья местных торговцев папирусом или пшеницей, менял и математиков, жизнерадостные юноши – греки, сирийцы, иудеи. Они с любопытством смотрели на Каракаллу и не скрывали насмешливых улыбок. Александрия была богатым городом, а богатство неизменно придает людям независимость в мыслях.
Император с некоторыми друзьями стоял на особом возвышении, какие обычно устраиваются в лагерях для ораторов, и, как всегда на Востоке, где люди любят пышность, носил в тот день палудамент – широкий пурпуровый плащ, расшитый золотыми пальмовыми ветвями. В руке он сжимал свиток и, видимо, не без волнения оглядывал многочисленное собрание. На этот раз предстояло произнести речь не перед воинами, которые удовлетворяются самыми простыми словами и на каждое обещание денежных выдач охотно отвечают бурными рукоплесканиями, а перед понимающими толк в ораторском искусстве александрийцами. Речь для императора составил какой-то ритор, вероятно, Антипатр, и ее надлежало прочесть со всеми правильными придыханиями. Но императора явно раздражали легкомысленные юнцы, без всякого стеснения разглядывавшие победителя пиктов, гетов и каледонцев. Пред ними красовался на помосте довольно крепкий, но кривоногий человек в пышном воинском плаще и фантастическом шлеме, каких уже не носят римские воины. Нетрудно было заметить, что Каракалла испытывал смущение, хотя поблизости стояли вооруженные воины, конные и пешие. Когда центурионы установили тишину, август развернул свиток и стал читать, но до нас долетали только отдельные слова. Каракалла нелепо размахивал руками, и будущие гоплиты, как некогда называли тяжеловооруженных воинов, едва удерживались от смеха. Префект Египта, дородный и добродушный старик, любитель устриц и редких рыб, больше всего на свете опасался александрийских насмешников и благосклонным попустительством приучил здешнюю молодежь открыто высказывать свое мнение. Из задних рядов какой-то шутник, приложив руки ко рту, крикнул нарочито низким басом:
– Привет тебе, Гетийский победитель!
Послышался смех. Каракалла побледнел и опустил свиток. Лицо императора исказилось от негодования, он обернулся и хрипло сказал префекту, стоявшему за его спиной:
– Что это значит? Выгони бездельников из лагеря! Они забыли, что находятся не в лупанаре, а на легионном форуме!
Никто из присутствующих не предполагал, что собрание закончится трагически. Но уже насмешливые улыбки на лицах сменились страхом. Поднялось смятение. Тотчас появились разъяренные воины и стали бить молодых людей по головам древками копий. Большинство из приглашенных решили не дожидаться худшего и побежали, за ними погналась конница. Какой-то юноша крикнул ударившему его центуриону:
– Собака! Я такой же римский гражданин, как и ты! Не смей прикасаться ко мне!
Очевидно, эти слова долетели до слуха императора.
– Римский гражданин? Где ты получил это звание? В сражениях с врагами республики или в своей вонючей лавчонке? Центурион, ударь его мечом!
Император рвал в исступлении свиток, содержавший злополучную речь о фаланге, и, видя гнев августа, центурион обнажил меч и ударил юношу. Бедняга рухнул, хватаясь руками за голову. Я заметил, что кровь обильно потекла между пальцами, и мне показалось, что я даже услышал предсмертный крик несчастного.
Это убийство послужило примером для остальных воинов. Вид бегущих александрийцев возбуждал их, как псов, преследующих на охоте оленей. Солдаты с утра хлебнули вина. Началось избиение безоружных. Конные преторианцы с грохотом скакали по Канопской дороге, на которую спешили юноши, спасая свою жизнь.
Я стоял с Вергилианом в центре этого замешательства, и мы не знали, что предпринять. Вдруг одни из воинов подскочил к моему спутнику и замахнулся на него мечом. Еще одно мгновение – и Вергилиана не было бы в живых, однако мне удалось схватить воина за руку. Я никогда не отличался исключительной силой, но, будучи в состоянии опьянения, воин не мог оказать большого сопротивления. Без труда выхватив у него меч из рук, я толкнул пьянчужку, и он упал, задирая ноги и выкрикивая ругательства, мы же с Вергилианом побежали прочь, но не к лагерным воротам, где нас ожидала бы верная смерть, а к небольшой дверце, которую я еще раньше успел рассмотреть за каменным строением, вероятно, каким-нибудь складом, и таким образом мы благополучно выскользнули из лагеря. Вергилиан тяжело дышал и держался рукой за сердце. Немного придя в себя, он произнес:
– Если бы не ты, друг, все было бы кончено! Само небо надоумило позвать тебя в лагерь. Чем я смогу вознаградить твое мужество?
Я смеялся. То обстоятельство, что мы только что избегли смертельной опасности, наполняло меня радостью жизни. Сияло солнце. В эти минуты я казался самому себе сильным и ловким.
Теперь мы находились в пальмовой роще. Справа от нас, за лагерной стеной, бушевало человеческое море, с Канопской дороги доносился топот подков. Там столбом поднималась пыль. Крики то усиливались, то затихали. Опасаясь, что нас могут увидеть воины, мы взялись за руки и побежали через рощу. Я уже бывал в этих местах и знал, в какую сторону идти. Под пальмами мы встретили еще одного беглеца, насмерть перепуганного происходящим, и втроем пошли в том направлении, где расположена Александрия. Спустя некоторое время мы очутились около храма с колоннами из розового гранита, окруженного лавровыми деревьями. Он стоял высоко над морем. Мы возблагодарили обитавших в нем богов или богинь и спустились к песчаному побережью, спеша в сторону Лохии, никого не повстречав на своем пути. Нам уже не угрожала никакая опасность, и Вергилиан разговорился с юным александрийцем, оказавшимся, несмотря на свою молодость, обладателем весьма наблюдательного ума.
Первоначально разговор вертелся около сегодняшнего события. Рассказав о том, как он едва спасся от смерти, и излив весь свой гнев на императора, юноша, которого звали Олимпием, стал более спокойно отвечать на вопросы, и скоро беседа приняла философический характер. Речь зашла о настроении умов в римском государстве. Олимпий говорил, сопровождая свои слова взволнованными жестами:
– Ты говоришь, Вергилиан, – ведь тебя так зовут, поэт? – о смятении, охватывающем все более и более наши умы. Но посмотри внимательно вокруг себя. Мы все принадлежим к миру, который уже клонится к упадку. Что это так, не понимают одни глупцы. Ведь стоит только сравнить настоящее с прошедшими веками и стихи современных стихотворцев с созданиями эллинского гения. Не обижайся, Вергилиан! Я знаю, что ты прекрасный поэт. Но не только стихи. А прежнее величие римского духа и уныние нынешних дней? Или жертвенность предков и теперешнее равнодушие к государственным делам? Однако мы обвиняем во всем не свою собственную слабость, а приписываем вину христианам, или варварам, или еще кому-нибудь, чтобы отклонить от себя ответственность за наши неудачи. Мы устали и уже ничего не в состоянии создать, что оправдывало бы наше существование на земле. Где новый Аристотель? Новый Эсхил? Мы только объясняем, подсчитываем, сколько раз Сафо упомянула слово «роза» в своих стихах.
– Ты прав, конечно, – перебил его Вергилиан, – но не забудь все-таки, мой юный друг, что Рим мудро управляет миром, издает равные для всех законы, строит удобные дороги и акведуки…
– Все это замечательно, – рассмеялся александриец, даже не давая себе труда дослушать старшего по летам собеседника до конца, – я сам, например, недавно имел случай видеть в Сирии храм Юпитера в Гелиополе, построенный Септимием Севером. Великолепное строительство! Чудовищные столпы! Но они сделаны из цемента и скреплены железом. Между тем эллинский зодчий только незначительно увеличивал в одном известном ему месте толщину скромной по размерам мраморной колонны, и от этого она приобретала не только необыкновенную прочность, а и божественное величие. Дело ведь не в величине, а в пропорциях. Хотя речь идет даже не о колоннах…
– О чем же?
– Об отношении к жизни. Мы помышляем только о своем благополучии, о мягком ложе. Единственное наше устремление – золотой телец. Главная наша забота – о богатстве. Тот, кто наторгует двадцать тысяч сестерциев, умнее, а главное – более достоин уважения, чем тот, кто наторговал десять тысяч. Бедняк же достоин презрения. Но хуже всего, что мы хотим, чтобы все осталось так, как есть. Потому что такой порядок позволяет нам наживаться и даже повелевать миром.
– Как ты говоришь!
– Я прав. Мы только умеем рассуждать о том, что такое жизнь и смерть. А разве мы способны на страсти и дерзания? И потомки никогда не простят нам нашего равнодушия.
Вергилиан опустил голову, и видно было, что эти слова понятны ему.
– Ты прав, конечно, – произнес он наконец, – я сам неоднократно высказывал подобные же мысли. Но в чем же наше спасение, по-твоему?
Александриец, уже окончательно успокоившийся от пережитого, блистая черными глазами, сказал с горьким смехом:
– Кажется, для нас уже не может быть спасения. Для мира нужны какие-то простые и ясные истины, доступные миллионам, а мы спорим о пустяках.
– Слишком поздно?
– Может быть, слишком поздно.
Смех в устах юноши оборвался. На какое-то мгновение Олимпий устремил взгляд вдаль, точно видел там свою гибель, а у меня опять от этих разговоров почему-то учащенно забилось сердце, хотя повсюду я видел мощь Рима, его легионы, его прекрасные дороги, мощенные камнем.
Мы благополучно добрались до Лохии, как называется в Александрии царский дворец, ныне обиталище римлян, и проследовали далее в порт, где Вергилиан должен был встретиться с Аммонием Саккасом. В те дни знаменитый философ, слава о котором долетела в Рим и в отдаленные пределы Азии, уже оставил ремесло портового грузчика и посвятил себя исключительно поискам истины. У Аммония появились богатые покровительницы среди образованных женщин города, и теперь он уже не носил дырявую хламиду и избегал есть чеснок. Но мудрец по-прежнему оставался привержен простой жизни. По старой привычке его тянуло посмотреть на пришедшие издалека корабли, побродить по набережным, заглянуть в шумные таверны, где мореходы рассказывали о посещенных ими странах и о том, что происходит в мире. Здесь был тот воздух, в котором прошла молодость Аммония: именно среди грубых окриков надсмотрщиков, площадных ругательств и изнурительного труда родились его мысли о красоте. С тех пор я встретил на своем жизненном пути немало людей и убедился, что трудная человеческая жизнь часто родит в душе потребность прекрасного.
В порту все имело такой вид, точно ничего в Александрии не произошло. На спокойной воде круглой гавани, куда спускалась лестница из розового гранита, отражались прибрежные здания и колонны, корабли и гигантский мост Гептастадиона, соединяющий одним сплошным белоколонным портиком берег с островом, на котором все так же дымил маяк. Справа, около Лохии, стояло несколько боевых римских галер, черно-красных, с медными таранами. Впереди, около Фароса, большой торговый корабль с желтым четырехугольным парусом осторожно огибал мыс и храм Посейдона, чтобы бросить якорь в гавани Благополучного Прибытия, как называется торговый порт Александрии.
– Александрия! Звезда Эллады, взошедшая над морями! – напыщенно произнес, подняв руку, Олимпий и снова рассмеялся. Удивительно было у этого юноши соединение разочарования и любопытства, печали и смешливости! Но здесь он распрощался с нами и удалился, чтобы поскорее добраться до дому. Отец его, как мы выяснили во время пути, был владельцем меняльной лавки.
Таверна, в которой философ назначил свидание Вергилиану, находилась недалеко от Фароса и оказалась опрятнее других. Она называлась «Свидание мореходов». Когда мы вошли в это низкое помещение, чужеземные корабельщики, – может быть, приплывшие в Александрию из Понта Эвксинского, так как в их разговоре, полном варварских слов, часто упоминались Херсонес Таврический и гавань Символов, – пили вино и расспрашивали о ценах на пшеницу. Разговорами о пшенице, кораблях, благоприятных ветрах или пошлинах был наполнен весь этот торгашеский и беспокойный город.
Вскоре явился Аммоний. Толстогубая служанка с серебряными серьгами в грязных ушах поставила перед нами на стол деревянную миску с оливками, блюдо с жареной рыбой, а также круглый хлеб, две головки чесноку, вино в кувшине. Потом она ушла и вернулась с тремя чашами из розоватого стекла. Я заметил, что другие посетители пили из глиняных. Но у Вергилиана был значительный вид даже в скромной хламиде, которую он легкомысленно набросил сегодня на плечи, отправляясь в лагерь, считая, что этого требуют особые обстоятельства, и хозяин харчевни решил почтить его дорогими кубками или, может быть, знал философа, которого иногда здесь разыскивали богато одетые люди.
Аммоний поднял чашу, сделал один глоток с закрытыми глазами, точно принося жертву какому-то божеству.
– Итак, ты скоро покидаешь нас, Вергилиан?
– Но с огромной печалью.
– Печаль неприлична для человека, вкусившего философии, – улыбнулся Аммоний. – Ведь каждое мгновение мы расстаемся с чем-нибудь. Следовательно, разумному человеку надо от юности привыкнуть к утратам и не скорбеть по поводу их. Не нужно, чтобы земные привязанности затемняли стремление души к божественному свету.
Мне было приятно брать оливки из одного сосуда с таким прославленным философом. Масло стекало капельками с пальцев Аммония на его жалкую бороду, нечесаную и запущенную браду мудреца. Вергилиан иногда смотрел на меня с братской нежностью, может быть вспоминая утреннюю сцену в легионном лагере. У меня в тот день было хорошо на сердце. А кроме того, я снова присутствовал при волнующем разговоре. Вергилиан прежде всего рассказал Аммонию о том, что произошло на лагерном форуме, и философ сокрушенно качал головой. Потом беседа обратилась к учению платоновской школы. Поучая поэта, философ по привычке прикрывал тяжелыми веками глаза.
– Начнем с того, что душа отлична от плоти. Это может послужить для нас отправной точкой. Ибо во сне она покидает тело, оставляя ему только дыхание, чтобы мы не погибли на ложе. Освободившись от телесного бремени, душа действует, ищет, обретает и приближается к вещам несказуемым и не знает преград. И как солнце изливает свой свет на вселенную, не ослабевая в силе, так и душа. Она едина и неизменна. Но не душа в теле, как в некоем сосуде, а скорее…
Вергилиан перестал есть и весь обратился во внимание.
– А скорее плоть в душе, в тех границах, которые она одухотворяет и не может перейти. Так, одному душа позволяет быть с огромным брюхом, а другого делает худым, ибо такова его сущность. Ведь один – чревоугодник и стремится к наслаждениям, а другой помышляет о высоком и о добродетели.
– Но бывают худые люди, преисполненные злобы и зависти.
– Бывают.
– В чем же тогда дело?
– Я говорю об общем законе души. Но разве все можно уложить в рамки закона?
Вергилиан слушал с напряженным вниманием, боялся пропустить хоть одно слово: это пропущенное слово уже мешало понять дальнейшее.
– Душа покидает тело, покоящееся во сне, – горестно поучал Аммоний, – и никто не знает, где она витает. Некто спящий на улице Тритона, около ворот Луны или в гостинице на Канопской дороге говорит: «Душа моя в Египте». А она, может быть, созерцает хрустальные сферы, где обитает божество.
Я слушал и наблюдал выражение лица Вергилиана, старался уразуметь эту мудрость, но, очевидно, надо родиться эллином, чтобы постигать подобное. Я же был варвар по рождению, и мне казалось, что трудно дышать на таких высотах. Мне пришлось однажды видеть в Александрии уличного фокусника. Играя тремя разноцветными шариками – красным, желтым и голубым, он подбрасывал их поочередно и ловил, и ни один шарик не упал на землю. Не такая ли игра мыслями была и в данном случае? Хотя Аммоний не походил на обманщика. Он верил в то, что проповедовал. Но верил ли его словам Вергилиан? Приносили ли ему эти слова утешение?
Только теперь я стал постигать, как сложна жизнь больших городов, где каждый говорит на своем языке, где речь философа иная, чем болтовня базарной торговки, и существование людей полно противоречий. Все ждали в мире каких-то перемен. Я встречал разнообразных людей – простых рыбаков в Томах, ораторов и философов, корабельщиков и рабов; теперь судьба забросила меня в Александрию, где сталкивались Африка и веяния Индии, платоновские идеи и вера в древних египетских богов, торговля и томление души по небесам.
Вергилиан с осторожностью коснулся тонкими пальцами жилистой руки философа:
– Позволь мне спросить тебя.
– Спрашивай.
– Некоторые утверждают, что тело подлежит ежеминутному изменению, способно делиться на мельчайшие частицы и в конце концов превращается в прах…
– По-видимому, это так. И нужно какое-то начало, чтобы соединить атомы в одно целое. Жалкую храмину плоти объединяет душа.
– Но для чего она хлопочет над телом, тратит время на его жалкие потребности, а не остается в музыке небесных пространств, в лоне божества? К чему ей земное пребывание и грубая материя?
Аммоний нахмурил брови и не донес до рта кусок хлеба, на который положил свою часть рыбы. Вергилиан вопросительно смотрел на философа и ждал ответа.
– Этого никто тебе не откроет, – опять вздохнул Аммоний, с таким трудом произнося слова, точно ворочал тяжелые камни.
– Но ведь это же самое важное.
– Христиане утверждают, что человеческая душа должна испытывать земные превратности, чтобы быть достойной блаженства.
– А если человек не верит в загробную жизнь?
– Такие, как ты, не верят. Я знаю. Но думаю, что мы оба согласимся в следующем. Человек должен стремиться к прекрасному, иначе его жизнь будет прозябанием бесплодного растения, уготованного в пищу скотам.
– В этом я согласен с тобой, – тихо ответил Вергилиан, и я тоже закивал головой, хотя никто не спрашивал моего одобрения.
В таверну приходили новые посетители, садились за столы, заказывали кувшин вина или жареную рыбу. Многие из них уже знали, что произошло в лагере на Канопской дороге, и обсуждали событие. Другие, подвыпив, затягивали нестройным хором мореходские песенки. Неподалеку от нас три приятеля, три косматые головы, обнявшись в трогательном единении, пели нескладными голосами:
Мы плыли в Понт
и в Геллеспонт
среди опасностей
и страшных бурь…
Самый пьяный из корабельщиков, закрыв глаза от умиления перед собственным сладкогласием, повторил:
и страшных бурь…
Они продолжали уже все вместе:
Но морехода
волчица ждет,
набухли млеком
ее сосцы.
Все тот же пьянчужка, растолкав приятелей, встал и, поднимая заскорузлые руки, козлиным голосом затянул:
набухли млеком
ее сосцы.
Среди этого нелепого рева беседа Аммония и Вергилиана казалась разговором богов. Что же отличало поэта от грубого корабельщика? Еще утром Вергилиан едва не лишился жизни, а сейчас как ни в чем не бывало рассуждал о ценности человеческого существования. Философия давала ему возможность отличить главное от второстепенного, вечное от преходящего.
Вдруг в таверну ворвались крайне взволнованные люди и завопили, что в городе происходит человекоубийство. Оказалось, что утренние кровавые сцены превратились в настоящий разгром прекрасной Александрии. Прибежавшие, перебивая друг друга, рассказывали о событиях. Воины захватили город, разбивали лавки и совершали всяческие насилия, упившись вином. Какой-то одноглазый человек уверял:
– Август отдал Александрию на разграбление! Клянусь бараном!
Аммоний и Вергилиан переглянулись.
Александрийцы давно вызывали неудовольствие императора, и теперь он нашел предлог излить свое раздражение.
Вместе с прочими посетителями мы поспешили на улицу. Само собой разумеется, некоторые воспользовались суматохой, чтобы уйти, не уплатив за выпитое и съеденное, и хозяин таверны изрыгал проклятия, упоминая имена Сераписа, Исиды и других, более мелких богов, но никто не обращал на него внимания. Всех охватило необыкновенное волнение. Со стороны главных улиц доносился глухой гул человеческих голосов.
«Можно сказать, что эти люди не просвещены светом философии, если поступают так», – подумал я.
Не желая подвергать свои жизни опасности, но в крайней тревоге за судьбы города, мы вышли на набережную и стали слушать. Оттуда было видно, что за мраморными колоннами Гептастадиона по-прежнему обильно дымил маяк. Смотритель его отвечал за непрерывное поддержание огня, от которого зависела участь кораблей, находящихся в море, и не мог считаться ни с какими событиями в городе. Все так же поднимались по винтовой лестнице нагруженные амфорами ослы. Подъемные механизмы уже не действовали сто лет.
Мы стояли на набережной, не решаясь пойти в город. Начинало смеркаться. От морской воды сильнее запахло свежестью. Теперь можно было видеть, что над иудейской частью города разгорается зарево пожара. На маяке тоже вспыхнул огонь, и языки пламени стали метаться на ветру, и от этого на земле сразу наступила ночь.
– А я ищу тебя повсюду, – раздался в темноте знакомый голос.
Это был тот самый Олимпий, с которым мы спасались из римского лагеря.
Философ даже при виде его растерзанной одежды старался сохранить спокойствие.
– Что с тобою, Олимпий? Почему разорвана твоя туника?
– Римляне бесчинствуют в городе. Академия охвачена огнем. Горят книги!
– Горят книги? – переспросил Аммоний. – Не огорчайся, они могут сгореть в огне, как все бренное, но заключенные в них зерна истины воскреснут вновь из пепла! Вергилиан, не согласишься ли ты пойти со мною, чтобы посмотреть на академию?
– Я не оставлю тебя, – поспешил уверить учителя поэт.
– Тогда поспешим.
Конечно, я тоже увязался за ними. Олимпию эта разведка не доставляла большого удовольствия, но он присоединился к нам, тревожно оглядываясь по сторонам. Мы бежали с быстротой, на какую был только способен немолодой уже философ. Недалеко от Музея находилась его академия, где он учил под сенью портика. Там же хранили собрание ценных рукописей и астрономические инструменты для наблюдения за небесными светилами. По пути нам попадались бегущие во всех направлениях люди. Матери звали детей, готовых улизнуть из дому ради любого уличного происшествия. Повсюду слышались душераздирающие вопли.
Когда мы пересекли знаменитую Канопскую улицу, то собственными глазами удостоверились, что солдаты громили торговые предприятия. Некоторые были в полном вооружении, в шлемах, другие – только в коротких туниках, даже без мечей. Откуда-то доносились крики женщины, умолявшей насильников о пощаде. Из окон соседнего здания стали вырываться клубы черного дыма и блеснул яркий огонь.








