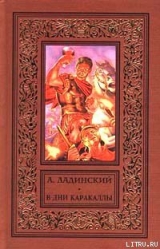
Текст книги "В дни Каракаллы"
Автор книги: Антонин Ладинский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Маммея возлежала на узком ложе, подпирая рукой белокурую голову. У нее была искусно сделанная высокая прическа, глаза напоминали своим цветом темные фиалки, и нежные румяна на щеках еще больше оттеняли ее взлелеянную под павлиньими опахалами красоту, но мне показалось, что во взгляде этой молодой женщины можно было прочитать печаль.
Вся картина и сейчас стоит перед моими глазами. Ложе на позолоченных ножках, голубая обивка, маленькие ноги Маммеи, обутые в башмачки из красной кожи… Я стоял со свитком в руках и не знал, как поступить с ним, не решаясь заговорить. Однако сидевший возле ложа красивый человек с подстриженной черной бородой и очень бледным лицом дружелюбно улыбнулся.
– Ты принес книгу, юноша?
Незнакомец взял свиток и передал его Маммее. Только тогда она заметила меня. Потом посмотрела на мою работу и усмехнулась.
– А ты в самом деле великий искусник в каллиграфии! Взгляни, Вергилиан, как отчетливо и красиво написаны эти буквы!
Тот, кого оно назвала Вергилианом, почтительно склонился над ложем, чтобы лучше видеть свиток, и покачал головой.
– Я скажу Ганнису, – промолвила Маммея, – пусть он наградит тебя за трудолюбие. А теперь ты можешь идти.
Сам не зная почему, я вздохнул и покинул этих счастливых людей, жизнь которых полна красивых слов и мыслей, беззаботна, как полет мотыльков.
VIII
Я спустился в каморку, где проводил ночи, но в сумраке ее все еще видел перед собой Юлию Маммею, фиалковые глаза, красные башмачки, стройные ноги на голубом ложе, соблазнительно прикрытые привезенным из далекой Серики [2]2
Серика – Китай.
[Закрыть] черным шелком. Мне и в голову не могло прийти в Томах, что на моем жизненном пути будут подобные встречи. Однако ничего странного в этом нельзя видеть. Люди ошибочно привыкли рассматривать логическую связь между причиной и следствием как неизбежность рока. А между тем при более внимательном рассмотрении житейских обстоятельств приходишь к выводу, что во всем существует закономерность. Человек, отправляющийся в путешествие, должен считаться с возможностью подвергнуться в дороге нападению разбойников, а плавающий на корабле может испытать бурю, что и произошло со мной. Но так как одно событие всегда цепляется за другое, то в конце концов я очутился в библиотеке Юлии Маммеи и благодаря этому прочел множество книг, какие никогда не попали бы мне в руки в нашем скучном городе, увидел целый ряд знаменитых людей.
Я часто вспоминал своего учителя. Благодаря ему я очутился в этом чужом для меня мире не бессмысленным зевакой, а человеком, который привык размышлять о том, что он видит перед своими глазами… Не один раз на своем соломенном ложе я слышал его голос, долетавший издалека:
– На то, что совершается в мире, боги не оказывают никакого влияния, и даже их самих выдумал человек, чтобы объяснить какой-нибудь причиной явления природы и страх перед неизвестностью. Но по ту сторону смерти ничего не ждет нас. Стикс или Лета – только красивые символы, и все исчезает в то самое мгновение, когда смертный испустит свой последний вздох. В самом деле! Что такое душа? Если она Психея и скитается по миру, то почему же никто никогда не встретил ее в роще или у источника? Схождение Персефоны в аид тоже только образ, передающий в поэтической форме круговращение времен года, умирание и воскресение зерна в земле. Это весьма заманчиво и для сравнения с человеческой жизнью. Умереть, чтобы восстать для иной, лучшей жизни! Но уверяю тебя, мой юный друг, что, покинув сей мир, мы уже никогда не увидим солнца и даже его жалкого подобия в виде светильника.
Мой неокрепший ум был потрясен красноречием учителя. Он заметил это и, положив мне руку на плечо, сказал:
– Не отчаивайся!
– Но разве не печальна такая жизнь? – спросил я.
– Печальна и полна радости.
– В чем же ее смысл?
– В том, чтобы каждый день подниматься еще на одну ступеньку, приближаясь к истине.
– Что такое истина? – опять спросил я.
Но тут в Аполлодоре проснулся софист, и он ответил с улыбкой:
– Истина? Правильное умозаключение из посылки.
И я как бы упал с небес.
Теперь, вспоминая этот разговор и лицо Юлии Маммеи, я подумал, что было бы скучно жить на земле без женской красоты. Меня уже посещали первые, смутные предчувствия любви.
Иногда в библиотеку приходил Филострат. Он носил хламиду философа, подчеркивая этим независимость своих мыслей, но был великий чревоугодник и мог написать за мзду любое сочинение, за или против, как всякий равнодушный к истине человек.
Меня могут упрекнуть, что я злословлю и возвожу напраслину на такого прославленного ритора. Согласен, что нам свойственно ошибаться в своих суждениях. Однако повод для таких мыслей дает мне книга Филострата «Жизнеописание Аполлония из Тианы», в которой он писал о вещах, в какие не может верить ни один здравомыслящий человек, – хотя бы об этих заточенных в бочку ветрах и других подобных нелепостях. Кроме того, ведь ни для кого не тайна, что Филострат написал наделавшее столько шуму во всем мире сочинение по заказу Юлии Домны, желавшей создать примерный образ мужа и мудреца в противовес Христу.
Филострат составлял для Маммеи письма, так как славился своим хорошим стилем. Иногда он просил меня переписать для него то или иное послание, найти в библиотеке нужную книгу. Но, просматривая свиток, спрашивал порой:
– А не знаешь ли ты, друг, что сегодня готовят на поварне?
Я отвечал, как мог, а он комментировал сообщение о яствах:
– Мясо дикой козы, мелко нарубленное, хорошо приправленное перцем и запеченное в виноградных листьях? Это весьма вкусно.
Вскоре я снова увидел Вергилиана. Епископ посетил Маммею и уходил от нее в расстроенных чувствах, очевидно не преуспев в своей проповеди, хотя мне неизвестно, о чем они с Маммеей беседовали в тот день. Но я слышал, как поэт, провожавший гостя, спросил его на лестнице, почему христианские писатели мало обращают внимания на красоту слога, пишут грубым языком и употребляют даже площадные выражения. Проповедник нахмурился и ответил:
– Христианские писатели пишут не для изощренных в литературе, но для простых людей, которым нужна не форма, а утешительное содержание.
Вергилиан поднял брови и, глядя в сторону, задумчиво произнес:
– Ах, так?
Однажды я писал под диктовку Маммеи, волнуясь до крайности, когда она протягивала руку, чтобы взять у меня навощенную табличку и просмотреть написанное. На ногтях у нее был пурпур. Это был ответ лаодикейскому епископу по поводу его писаний, в которых он объяснял принцип троичности божества, чего я никогда не мог постичь.
Я был тогда молод и не очень искушен в философских тонкостях, да и теперь подобные высказывания вызывают у меня недоумение, но понял, что христиане пользуются не только в Антиохии, но и во всем римском государстве большим влиянием. Мне случалось видеть, с какой самоуверенностью беседовал с Маммеей епископ Феофил: он держал себя так, точно ему были известны все тайны мира. Филострат сказал мне, что это богатый человек, прекрасно говорящий по-гречески. А между тем я слышал, что христиане вербуют своих приверженцев среди бедняков. Об этой секте вообще рассказывали небылицы всякого рода, вроде того, что они поклоняются богу с ослиной головой.
Неоднократно я видел у Маммеи Вергилиана. Я уже знал, что этот бледный человек пишет стихи, я даже прочел некоторые его произведения, и у меня щемило сердце от печальных строк, в которых поэт описывает расставание с миром и разлуку с возлюбленной, но я обладал хорошим пищеварением и вергилиановская меланхолия недолго владела мной.
Иногда поэт шутил со мной:
– А ты все шуршишь библиотечными свитками, как мышь в норе?
Я молча улыбался, не зная, как говорить с таким важным человеком. Вергилиан брал нужную ему книгу и уходил. Чаще всего это были сочинения Сенеки.
Но в доме Маммеи я встречал не только поэтов и философов, а и сильных мира сего. За ними мне приходилось наблюдать издали, в дни торжественных празднеств, когда весь город наполнялся шумом и песнями. В своих руках эти люди держали судьбы государства и одним движением бровей могли бы решить участь нашей семьи, но мне и в голову не приходило обратиться к ним с таким прошением. Однажды, прячась за спины служителей, я с любопытством следил, как по мраморной лестнице нашего дома медленно поднимался император Антонин, прозванный солдатами Каракаллой за свое пристрастие к называвшемуся так германскому плащу; его губы были искривлены в презрительной улыбке, он угрюмо смотрел прямо перед собой, точно замышляя еще одну жестокую казнь. Короткие курчавые волосы августа и низкий лоб выдавали его африканское происхождение. Действительно, предки Антонина были родом из триполитанского города Лептиса и, по рассказам знающих людей, не гнушались никакими средствами, чтобы добиться поставленной цели. Я заметил, что у императора сильные челюсти, говорившие об упорстве, но цвет лица землистый, как у всех страдающих желудком.
За Антонином, словно его тень, двигался в белоснежной тоге, с золотым мечом, висевшим на груди, – знаком достоинства префекта претория, – Опеллий Макрин. Нельзя было не обратить внимания на его узкие, блиставшие злобой глаза и широкий, как у рыбы, рот, глубоко вдавленную переносицу. Этот смуглый некрасивый нумидиец, очевидно, носил некогда серьгу в левом ухе, от которой осталась смешная дырочка в мочке. У него был такой вид, точно он чует врага в каждом встречном. О жестокости префекта претория ходили ужасные рассказы.
Наоборот, мясистое, румяное лицо Ретиана, префекта Второго Парфянского легиона и любимца императора, решительно ничего не выражало, кроме готовности повиноваться. О Ретиане говорили, что он предан августу, как пес. Но события показали иное.
Все было интересно и ново для меня. Я слышал, как Макрин, следуя за императором, говорил Ретиану:
– В чем зло? В том, что на земле распространяется безбожие и противогосударственное заблуждение христианской секты. Люди самого низкого звания и даже рабы считают себя равными нам. Это они подкапываются под прекрасное здание республики, покоящееся на строгих законах. Ведь в государстве каждому предоставлено по его положению: сенатору – привилегии, торговцам – прибыль, воинам – полагающееся им содержание, ремесленнику – плата за труд, а рабу – пища и приятное сознание, что он служит своему господину.
– Ты это хорошо сказал, – согласился Ретиан.
– И сколь справедливо, – поспешил прибавить какой-то старичок в тунике с широкой красной полосой.
Но проходивший в это мгновение раб с амфорой в руках заскрежетал зубами:
– Прокляты они до скончания века!
– Молчи! – шепнул товарищу другой раб, шедший с ним.
Я удивился. Ведь эти люди не гребли на галере и не работали на руднике, а всего лишь прислуживали в доме богатой госпожи. Но, очевидно, в этом свободолюбивом городе рабы даже на легкой работе не были довольны своим существованием. Впрочем, только в праздничные дни их одевали здесь в нарядные туники, а в обычное время они ходили в рубищах, вертели мельничные жернова, и на ночь их запирали в вонючее помещение на задворках великолепного дома, где находились всякого рода склады, отхожие места и выгребные ямы, полные нечистот.
В моей памяти встает одна из антиохийских картин…
В окно слышно, как плещут фонтаны. Среди лавровых деревьев кричат неприятными голосами павлины. Из пиршественного зала доносится музыка. Арфистки искусно перебирают струны, и под эту музыку рядом с сыном, Антонином Каракаллой, в облаках благовоний идет Юлия Домна. Она в пышной пурпуровой одежде, расшитой золотыми узорами, – торжественном наряде августы, «матери лагерей», как ее называют легионеры. У императрицы прекрасные сирийские глаза, они полны ума, в них как бы пылает черный огонь. Красота ее еще не отцвела.
Вместе с нею идут ее сестра, страшная, горбоносая Юлия Меса, и две племянницы – Маммея и Соэмида. Первая – печальная красавица с высокой прической из белокурых волос, какие бывают у германок; она полна достоинства и в своих одеждах предпочитает темные цвета; на ней синяя туника, а сверху черное покрывало с серебряной бахромой, и шелк скрывает ее фигуру, полную тайны для меня. Черноглазая и смугловатая Соэмида идет в бесстыдно полупрозрачном одеянии; у нее яркий рот и неопределенная улыбка на устах, в маленьких ушах покачиваются огромные серьги в виде золотых колец; походка ее полна неги, и бедра колышутся при каждом шаге; при взгляде на эту восточную красоту во рту пересыхает, как в пустыне.
К Соэмиде прижимается сын Элагабал, прелестный, похожий на нежную девочку, с такими длинными ресницами, что от них как бы падает тень на его румяные, как персик, щеки. Но, несмотря на детский возраст, он состоял наследственным жрецом в храме Солнца, последний отпрыск древней сирийской фамилии. Я видел это страшное святилище, где бородатые жрецы в золотых тиарах приносят кровавые жертвы.
Позади, опустив голову, бредет Александр, сын Маммеи, задумчивый и молчаливый отрок, слишком рано погрузившийся в чтение книг и поэтому потерявший вкус к играм и гимнастическим упражнениям, с пользой укрепляющим тело.
Все это люди, наделенные красотой или редким умом, обладающие властью и золотом, что дает возможность держать в повиновении легионы, нанимать на службу целые племена германцев. Мне было странно, что я попал в этот мир, имел случай наблюдать жизнь, скрытую даже от историков, и, не привлекая ничьего внимания, подслушивать разговоры и даже сокровенные мысли, потому что никто не стесняется скромного писца.
Антиохия ликовала и веселилась. В те дни в городе происходили празднества по случаю прибытия парфянских послов для переговоров о браке императора с дочерью парфянского царя, поэтому на городских площадях народу раздавали хлеб, мясо и вино. Август тоже прибыл в Антиохию, весь день провел в лагере, где разговаривал с солдатами как равный с равными, а вечером посетил праздник Маммеи и, когда очутился средь избранного общества, то снова надел на себя личину презрения.
Я хорошо запомнил, что в тот вечер Вергилиан читал перед собранием свои стихи:
Как пчела персидскую розу,
не могу забыть пурпур
той зари, что колонны
разделили на равные части.
Ты скоро меня покинешь,
и ночь без тебя настанет…
Маммея повторила:
…и ночь без тебя настанет…
Соэмида таинственно улыбалась, сидя рядом с хмурым императором.
Во внутреннем дворе дома был разведен сад. Вдоль дорожек, усыпанных разноцветным гравием, росли однообразно подстриженные деревья. Впрочем, здесь насчитывалось больше статуй, чем деревьев. Эти богини и нимфы были позолочены, что придавало особенно странный вид не только саду, но и тем речам, которые здесь слышались. Люди говорили среди этой искусственной красоты о возвышенных вещах, о пребывании на земле трепетной Психеи. Ее здесь легко смешивали с иудейской Ахамот или с христианской душой, которой предназначено пройти бесчисленные мытарства, чтобы получить спасение на небесах. Эти тунеядцы часами беседовали о любви, но то была не простодушная любовь пастушки и дровосека, а доведенная до безумия любовь образованных людей, в которой трудно отличить, где пылает страсть, а где разжигается похоть, и в подобных чувствах смешались пороки трех материков. Я не все понимал, что слышал тогда, порой закрывал руками уши и убегал в свое уединение, в библиотечную тишину, но и там до меня долетал волнующий женский смех.
Вергилиан был прост в обхождении с людьми, и мне приходилось не один раз беседовать с поэтом, когда он приходил в библиотеку. Этот беспокойный человек был полон противоречий. Точно каждую минуту он был не там, где ему хотелось быть, и всегда в разлуке с чем-то, чего ему не хватало. В Антиохии говорили о его близости с Соэмидой и о нежной дружбе с Маммеей.
В один прекрасный день в библиотеку явился Филострат. Этот обращался со мной по-приятельски.
– Ты не видел Вергилиана? Ищу его повсюду и не могу найти. Он нужен госпоже. Где его опочивальня? Здоров ли он?
Я ответил, что не видел поэта со вчерашнего дня, и мы отправились в тот покой, где он проводил ночи. Филострат, тяжело дыша, поднялся по лестнице и, не постучав в дверь, отворил ее. Что он увидел, я не знаю, но ритор сказал, заглядывая в спальню:
– Не надо ли вам чего-нибудь для подкрепления? Хорошо для любовников покушать похлебки из порея, заправленной перцем.
Может быть, я стоял на пороге незнакомой для меня страны любви? Я растерянно смотрел на философа. Мне даже показалось, что я услышал печальный вздох…
– Пойдем, друг, – сказал Филострат, – нам с тобой нечего здесь делать.
Он плюнул на мрамор пола, и я в смущении спустился по лестнице.
Вергилиан много путешествовал и, может быть, для этого и брался выполнять поручения дяди, сенатора Кальпурния. Но, отправляясь по просьбе сенатора в плавание, Вергилиан больше думал о встречах с интересовавшими его людьми, чем о дядюшкиных товарах или о пшенице его латифундий, от чего доходы сенатора терпели ущерб, и он даже грозил лишить своего нерадивого племянника наследства.
Я встретил однажды поэта на берегу Оронта. Все пространство вдоль реки, от Антиохии до самой Дафны, застроено белыми виллами, где резвятся счастливые дети, гуляют группами девушки, летают белые голуби. Дафна, знаменитое предместье, – один сплошной сад, славящийся на весь мир кипарисами, лавровыми деревьями, фонтанами, искусственными ручьями, а главным образом храмом Аполлона и празднествами в его честь, во время которых вся Антиохия целый месяц проводит в различных увеселениях.
Поэт шел в сторону Дафны в легкой желтой тунике, перебросив, как спартанский юноша, синюю хламиду через плечо. Я приветствовал его поклоном, а он дружелюбно сказал:
– Здравствуй! Даже ты оставил свои свитки, чтобы подышать вечерним воздухом?
Вергилиан посмотрел на реку. По ней медленно плыли барки с косыми парусами, нагруженные розоватыми амфорами, в каких перевозят вино. Антиохийские лозы соперничают с виноградом Библа, Газы и Тира.
– Итак, мой друг, ты родом из Дакии? – спросил поэт.
– Точнее говоря, из Малой Скифии. Я родился в Томах, что на берегу Понта.
– Хотелось бы мне побывать там. Ты показал бы мне могилу Овидия.
– Каменная плита над нею совсем вросла в землю, а урна покосилась… – начал я описание родного города.
Но он перебил меня, задумчиво глядя вдаль, туда, где за моей спиной солнце уже приближалось к горизонту:
– Вы живете среди варваров?
– Есть у нас немало людей, которых вы называете варварами.
– А где обитают варварские племена?
– За оборонительным валом.
– Это далеко от римской границы?
– Несколько дней пути от нашего города.
– Мне кажется, – начал Вергилиан, – что люди живут там по-иному, чем мы. Они ближе к природе, возделывают землю для того, чтобы есть хлеб, и наделены завидным здоровьем. Они не знают, что такое сомнение, их заботы разумны, связаны с добыванием пищи и топлива, а также с мыслями о своих детях. Они живут ради будущих поколений, в случае опасности поднимаются, как один человек, с оружием в руках, а мы тратим силы на ничтожные дела и, когда нам угрожает опасность, собираем всюду, где можем, наемников.
Я стоял перед ним, и мне почему-то было неловко слушать такие слова, точно он хвалил меня самого, но я уже знал, что в больших римских городах людям, по крайней мере лучшим из них, опротивели пороки и лень, хотя они и не находили выхода из создавшегося положения.
Вергилиан помолчал некоторое время.
– Почему ты оставил Томы?
Я рассказал о поручении отца, о своем путешествии, о буре и пленении разбойниками и о необходимости отправиться в Рим, чтобы добиться справедливости в сенате.
– Так в чем же дело? – улыбнулся он. – В этом я легко могу помочь тебе. Скоро уйдет в море наш корабль «Фортуна Кальпурния», и я с удовольствием доставлю тебя в Рим, хотя по пути мне придется побывать в Александрии. В Риме я знаю многих влиятельных сенаторов, и мой дядя тоже принадлежит к этому почтенному сословию, и если все так, как ты изложил мне, то они охотно помогут отменить несправедливое решение судьи. Напомни мне о твоем деле, когда я буду в библиотеке. А теперь прощай!
Поэт приветливо помахал мне рукой и удалился, а я поблагодарил судьбу за то, что она покровительствует бедному путнику в этом огромном и полном опасностей мире.
Ночью, лежа на своей жесткой подстилке в каморке, что домоуправитель отвел мне под лестницей, я стал подсчитывать, через сколько дней я могу очутиться в Риме и какое понадобится время, чтобы возвратиться в Томы. Но я не знал еще, что человеческие предположения стоят немногого, если легкомысленный поэт вмешался в твою жизнь.
IX
Вергилиан явно не спешил покинуть Антиохию, и я неоднократно имел случай наблюдать, что Маммея и Соэмида как бы состязались в искусстве уловления поэта в свои сети, а он, казалось, не знал, что слаще – похвалы ли его стихам из уст одной или поцелуи другой. В Рим мы написали, что торговые переговоры затягиваются.
Все в этом доме располагало к любви. Курильницы наполняли залы облаками аравийских благовоний, здесь часто слышалась заглушенная музыка, люди говорили шепотом, не желая потревожить покой госпожи или опасаясь вызвать гнев ее ни в чем не знающей меры сестры, жестоко наказывавшей рабынь.
Мне иногда приходилось видеть Маммею совсем близко, когда я приносил ей из библиотеки переписанные книги. Не очень торопясь уходить, я стоял перед нею и смотрел, как свиток с приятным шорохом развертывается в ее руках.
В то утро Маммея еще была занята своей красотой. С таким видом, точно они совершали дело государственной важности, около госпожи хлопотали пять или шесть рабынь. Маммея сидела на круглом мягком сиденье без спинки, вокруг которого рабыням было удобно, украшая свою повелительницу, переходить с одного места на другое. Я терпеливо ждал, когда они закончат это занятие, а судя по выражениям их юных озабоченных лиц, то была не менее тяжелая работа, чем труд у ручного жернова. Одна из рабынь покрыла лицо Маммеи какой-то массой, напоминающей жидкое тесто, и старательно разглаживала щеки обеими нежными девичьими руками, потом сняла мазь чистым полотняным платом. Другая покрыла лоб, шею и руки белилами, а на щеки наложила восхитительные румяна, от которых лицо госпожи как бы озарилось утренней зарей. В это время третья расчесывала костяным гребнем белокурые волосы Маммеи, и еще одна рабыня подкрасила кармином ее рот и чуть оттенила голубоватой краской глаза. Вся эта красота была заключена в крошечных флаконах и ларцах из слоновой кости, стоявших перед Маммеей на столе. Тут же звенели на мраморном полу медные тазы для умывания и кувшины с горячей водой. Госпожа держала высоко в руке серебряное, отполированное до блеска зеркало и поворачивала его в разные стороны, чтобы лучше рассмотреть себя.
На Маммее была только шелковая туника вишневого цвета. Такие материи, окрашенные в Тире содержимым каких-то редких раковин, стоят огромных денег. Караваны с шелком идут из далекой Серики по гористым дорогам Азии, мимо Каменной Башни, затем направляются через Иссидонскую Скифию, к Понту Эвксинскому, а оттуда везут драгоценный товар на кораблях в Лаодикею Приморскую или Остию, чтобы одевать в эти ласкающие тело ткани красавиц, подобных Маммее.
Украшение госпожи приближалось к концу. Рабыня взяла на иглу немного жирной мази, приготовленной из обыкновенной сажи с благовониями, и осторожно подчернила ресницы Маммеи. Уже доверенные рабыни несли ларец, где хранятся драгоценности, и с огромными предосторожностями стали вынимать из него кольца и браслеты, серьги, ожерелья, чудесные жемчужные диадемы. Двух из этих рабынь я знал – их звали Лолла и Пенния. Они держали в широко разведенных руках одежды, приготовленные для госпожи: одна – нежно-желтое одеяние, другая – вишневое, расшитое черными пальмовыми ветвями. И пока у Маммеи умыли ноги, покрыли пурпуром ногти и обули ее в высокие красные башмачки, а потом осыпали при помощи пуховки, сделанной из перышек цыпленка, нежнейшим порошком лицо, я стоял и созерцал эти действия.
Проходя мимо с медным тазом, в котором плавала в воде губка, и лукаво толкнув меня локтем, Лолла шепнула:
– Когда баня смоет нашу красоту, опять придется все начинать сначала.
И тяжело вздохнула. Но Маммея, уже, может быть, разглядев мое изображение, случайно мелькнувшее в ее зеркале, повернула голову:
– Это ты, писец?
В то утро я принес госпоже только что переписанное мною с особым тщанием сочинение Филострата «Жизнеописание Аполлония из Тианы». Рабыни удалились, и Маммея взяла из моих рук книгу и стала читать, а я не отрываясь смотрел на ее лицо. Оно всегда повергало меня в смущение. Но Теофраст, приближенный раб Вергилиана, однажды сказал мне со смехом, когда я стал восхищаться белокурыми волосами Маммеи:
– Ты мало смыслишь в женских ухищрениях. Белокурые волосы? Ха-ха! Их сделает тебе любой цирюльник. Ты невежественный сармат и ничего не знаешь, а я своими собственными глазами видел, как рабыня сыпала на волосы госпожи золотой песок. Потом она долго сушила их на солнце.
Вороватый Теофраст, родом каппадокиец, был боек на язык, не спускал умильных глаз со своего снисходительного господина и часто получал от него подачки, но обладал трусливой душонкой, и мне стало неприятно, что я заговорил с таким человеком о красоте женщины.
Маммея читала книгу, в которой один за другим сменялись искусно построенные периоды. Лебеди сладостно пели на заре в далекой Каппадокии, когда мать эллинского мудреца уснула однажды в лавровой роще и увидела во сне бога Протея… Вместе со свитком развивалась и трогательная история пророка. Сверкали молнии и гремел гром средь ясного дня в день рождения Аполлония, одно за другим совершались поразительные чудеса и возникали дорожные приключения, когда великий человек отправился в Индию, чтобы постичь там древнюю мудрость браминов и взглянуть по дороге на цепи, которыми был прикован к кавказской скале Прометей. Ветры томились в огромном глиняном сосуде, готовые вырваться каждое мгновение на свободу, чтобы ломать дубы и топить корабли…
Маммея вздохнула и отложила книгу. Может быть, она только что прочла слова о том, что надо заботиться не о красоте храмов, но о душе, или то место в книге, где говорится, что кузнечики имеют возможность петь по своему желанию, в то время как злые закрывают уста мудрецу…
На мраморном полу стоял бронзовый сосуд со свитками. Маммее достаточно было протянуть руку, чтобы найти в нем не только платоновские диалоги, но и «Апологию» Тертулиана, в которой пламенный защитник христианской веры потрясал основы государства. В этом покое часто слышались слова о логосе и других непонятных для меня вещах, но я вполне отдавал себе отчет, что здесь собираются образованные люди. Впрочем, с речами о гностической мудрости иногда мешались у них и разговоры о земных предприятиях римлян. Меня мало стеснялись в этом доме, и однажды я даже услышал, как Ганнис развивал свои мысли о современном положении на Востоке, с раздражением говорил о Пальмире, бывшей, по-видимому, бельмом в его глазу, и не скрывал, что считает ее опасной соперницей Антиохии.
Заплывший жиром, но наделенный острым, как бритва, умом, Ганнис говорил Месе, худощавой, горбоносой старухе с огромными глазами:
– Соотношение сил не позволяет в настоящее время думать о самостоятельном существовании сирийской провинции. Об этом могут мечтать только недальновидные глупцы. Или любители ловить рыбу в мутной воде. Что им до того, что в этой страшной борьбе между Востоком и Западом будут разрушены наши города, а жители уведены в плен? Нет, время Антиоха миновало безвозвратно, и для самостоятельности нет необходимых предпосылок. Отпадение Сирии заставило бы Рим напрячь все свои силы для подавления восстания, так как римлян интересует дорога в Индию. С другой стороны, мы очутились бы в таком случае лицом к лицу с Парфией. Бороться с нею один на один нам не по силам. Выгоднее во сто крат жить в мире с далеким Римом и под сенью его оружия.
Тонкий голосок евнуха плохо вязался с мужественной ясностью его мыслей.
– Парфия раздирается междоусобиями, – заметила Меса.
– Но они могут прекратиться в любой день, а ведь не следует забывать, что в распоряжении парфянских владык многочисленная конница. Она все чаще и чаще решает судьбу сражений.
– Но разве у нас не найдется достаточно средств, чтобы найти сколько угодно наемников?
Все тем же немного поучительным тоном, как разговаривают с детьми, Ганнис, привыкший считать старуху выжившей из ума, ответил:
– Это справедливо. Но государства никогда не достигали ничего великого с помощью наемников. Против каждого копья найдется более длинное копье, а для острого меча еще более острый.
Меса сильнее сжала тонкий, старушечий рот.
Маммея слушала такие разговоры с досадой. В сравнении с духовной властью Эллады, покорившей народы своим гением, Рим представлялся ей грубым и жадным, простиравшим руки ко всему плотскому. Только в греческих книгах или в пламенном пафосе христиан она находила возвышенное и прекрасное. За подобные мысли Ориген и послал ей потом знаменитое, столько раз цитированное письмо о «душе, рождающейся христианкой», а другой светильник церкви, гневливый Ипполит, посвятил ей в далеком галльском городе Лугдунуме трактат «О воскресении». Но она не присоединилась к гонимым христианам, потому что была слишком изнеженной, и довольствовалась разговорами о божестве.
Перестав слушать Ганниса, я напряг свой слух, чтобы уловить слова, что произносила Маммея, обращаясь к сидевшему около ее ложа Вергилиану:
– Божество разлито во всем мире, оно – в дыхании всякого живого существа и заключено в каждой былинке. Однако мир несовершенен и нуждается в постоянных изменениях, какие может ему дать только любовь…
В этом покое, с большим вкусом украшенном статуями и мрамором, без назойливой живописи на стенах, разместившись на удобных сиденьях с когтистыми позолоченными ножками, люди говорили о прекрасных, но бесплодных материях. И наш греческий город, где некоторые знают Гомера наизусть и где жил разумнейший из людей ритор Аполлодор, представлялся мне теперь по сравнению с Антиохией темной деревушкой. Слова Маммеи, видимо, затронули в душе Вергилиана родственные струны. Он попытался най-ти какое-то более точное определение для своей мысли.
– Мир настолько нуждается в улучшении, что его необходимо переделать от пещер до облаков.
Маммея рассмеялась, показав на мгновение ослепительные зубы.
Я знал, что поэт много путешествовал. За несколько лет странствий он успел побывать даже на далеком Дунае, недалеко от наших пределов. Он проделал это утомительное путешествие, выехав из Афин на Фессалонику, а из этого города направившись в Сердику, где попал на удобную дорогу Византий – Сирмий и через Аквилею совершил огромный путь, чтобы собственными глазами взглянуть на таинственный варварский мир. Поводом для путешествия послужил договор, заключенный сенатором Кальпурнием с карнунтским торговцем Грацианом Виктором на поставку бычьих кож. Виктор, кажется, человек себе на уме и не упускавший случая нажить лишний денарий, начал поставлять кожи плохого качества, и дядя просил Вергилиана проверить через знающих людей дубление кож, хотя поэт столько же понимал в этом деле, сколько в производстве гвоздей. Зато он увидел величественную реку, за которой живут уже варвары, увы, наделенные такими же пороками, как римляне, и рассказывал мне о своем разочаровании в поисках счастливых людей. Но когда речь заходила о Грациане Секунде, дочери Виктора, Вергилиан выбирал самые трогательные слова, чтобы описать эту, по его словам, мрамороподобную красоту, и я не понимал, как мог поэт, с такой чистотой рассказывавший о прелестной девушке, проводить дни и ночи с этой злой и жадной, как куртизанка, Соэмидой. Впрочем, что я понимал тогда в любви? В те дни меня отвлекала от любовных помыслов жажда странствий, и, когда Вергилиан собрался отправиться в Пальмиру, я попросил поэта взять меня с собою. Для него это была очередная поездка, а для меня целое событие. Вообще путник никогда не знает, что ждет его в дороге.








