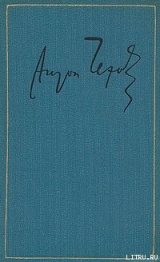
Текст книги "Рассказы. Юморески. 1883—1884"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Два письма
I. Серьезный вопрос
Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!
Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил мне, между прочим, что на днях воротился из-за границы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это известие тем более поразило меня, что ранее ходили слухи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей.
Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного любите вашего племянника, то съездите, голубчик, к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитанница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну моей души. Только Вам одному могу довериться. Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки ни на йоту не уменьшили моей любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по-прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Всё узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.
Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный студент… Я уже присяжный поверенный, имею практику, деньги… Одним словом, для полного счастья не хватает у меня только ее одной… Только!
В ожидании скорейшего ответа обнимаю.
Владимир Гречнев.
II. Обстоятельный ответ
Милый мой племянник Володя!
Получивши же твое письмо, я на другой день поехал к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и поседел в загранице, но сохранил в себе воспоминание обо мне, своем старинном друге, так что, когда я вошедши, он обнял меня и, долго смотря мне в лице, сказал робким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я назвал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: «Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку сели по одной десятой. Во многих видах и разных манерах объяснял он мне про заграницу и много смешил меня игривым описанием смешных немецких нравов. Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал мне также картину, купленную проездом через Италию, изображающую женского пола одну особу в странной, неприличной одежде. Видел я и Машеньку. Была в богатом платье розового цвета с протчими украшениями драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже прослезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пишешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душенька, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда будучи в молодости, предавался сластолюбивым излишествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.
Твой дядя и доброжелатель Анисим Гречнев.
P. S. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная.
Жалобная книга
Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:
«Милостивый государь! Проба пера!?»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».
«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».
«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».
«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».
«Лопай, что дают»…
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».
«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».
Чтение
(Рассказ старого воробья)
Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.
– Но я с вами не согласен, – говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. – Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…
Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.
– Мне нравится в ней… э-э-э… волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи… Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов… на всё!
– Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно…
Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.
– Об этом можно бы и после, – сказал он. – Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов… Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов… А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, как он пишет! Это чёрт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно… как сапожник! Вы посмотрите!
– М-да… – промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. – Действительно… Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.
– Этак, любезнейший, нельзя! – продолжал начальник. – Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли…
– Чтение много значит! – сказал Галамидов и вздохнул без причины. – Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например… Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.
– Поблагодарите, любезнейший! – сказал Семипалатов.
Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.
На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику – никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.
– Нате вот, читайте, любезнейший! – сказал Семипалатов, подавая ему книгу. – Читайте внимательно.
Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.
Книга была «Граф Монте-Кристо».
– Против его воли не пойдешь! – сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда. – Постарайся как-нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся… А главное – не вникай… Читай и не вникай в эту умственность.
Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу На другой день пришел он на службу заплаканный.
– Четыре раза уж начинал, – сказал он, – но ничего не разберу… Какие-то иностранцы…
Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:
– Ну, что? Читали книгу?
– Читал, ваше превосходительство.
– О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!
Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.
– Забыл, ваше превосходительство… – сказал он через минуту.
– Значит, вы не читали или, э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов – и вы! Все, господа! Прошу!
Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:
– А уж меня извините, ваше превосходительство… Скорей в отставку… Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!
– Вы ничего не понимаете, – сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.
Но Семипалатов ошибался: старик всё понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.
– Прохор Семеныч! – умолял он Будылду. – Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем… Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!
Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.
Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:
– Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!
Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:
– Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!
Стукнулся лбом о пол и зарыдал…
– Что это значит?! – удивился Семипалатов.
– А это то значит, ваше превосходительство, – сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед, – что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог всё видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!
Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.
– Не принимать Галамидова! – сказал он глухим голосом. – А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!
И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.
Жизнеописания достопримечательных современников
I. Письмо в редакцию
Милостивый государь, господин редактор!
На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова и называвший себя юмористически по случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он подозвал меня к своему смертному одру и сказал жалостным голосом:
– Никифор! Мне капут и предел… Но я не унываю, ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и всё прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, то не было бы для них места не только в домах, но и на крышах… Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я всё понимаю. Попроси, чтоб напечатали крупным шрифтом.
Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На тетради этой написано: «Жизнеописания достопримечательных современников». В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня»[126]126
…похожи ~ «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня»… – Эти сообщения многократно появлялись в февральских и мартовских номерах газеты за 1884 год.
[Закрыть], а потому имею честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать и исполнить волю почившего.
Его брат Никифор Хрусталев.
II. Александр Иванович Иванов
Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей
Александр Иванович Иванов, сей великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей, в неизвестном месте. По мнению весьма многих ученых историков и философов, день и час его рождения совпадает с появлением на небе кометы 1848 года.[127]127
…с появлением на небе кометы 1848 года. …23-е марта 1849 г. ~ извержение Везувия. – По-видимому, дата вымышлена. В начале января 1884 г. было зафиксировано активное действие вулкана («Новости дня», 1884, № 6, 7 января).
[Закрыть] – Известны кометы Шезо 1844 г. и Биэлы 1845—1846 годов.] Парижская же Академия наук отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 1849 г. – день, в который происходило извержение Везувия. Рассказывают, что А. И. в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, горько заплакал и этим уже показал свое недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно-копытные и лишайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хозяйственных необходимостях. Так, он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и таланте совершающего. Любимое также его занятие было ходить босиком, подсучив брюки, по лужицам и прочим не сухим местам. Семи лет он был отдан родителями на обучение грамоте и числам. Научившись быстро читать, он показал еще новую особенность своего характера. А именно: он стал прилежно и внимательно читать объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина. […объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина. – Капсюли Гюйо (от простуды) рекламировались, например, в журнале «Будильник», 1883, №№ 2—5. Иоганн Гофф – придворный поставщик экстрактных препаратов (пива, конфет, шоколада). См. его рекламы, например, во «Всемирной иллюстрации», 1880, № 589, 19 апреля, стр. 347. Чехов упоминал о нем в «Календаре „Будильника“ на 1882 год» и в пародии «Летающие острова» (т. I Сочинений, стр. 148, 519, 585), а в фельетоне «Сара Бернар» (1881) писал о нем как о человеке, сделавшем себе имя рекламой. Леухин С. И. – издатель и продавец книжной макулатуры. См. о нем в т. I наст. изд. «Комические рекламы и объявления», стр. 122, 573—574.] Когда его спрашивали о причинах, по коим он предпочитает эти объявления всем прочим отраслям науки, то он скромно отвечал: «Я учусь». Научившись чтению, писанию по прописи и арифметике, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию новых средств для излечения страждущих лошадей, а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом и мешал до тех пор эти и многие другие вещества, пока не получалась пертурбация, не имеющая ни запаха, ни вида, но зато годная на всякое употребление. Обмазавшись этою мазью и не умерев от этого, А. И. заключил весьма резонно, что эта мазь целительна и что ее следует продавать по 2 рубля за банку. Заключив таковое, он напечатал в газетах объявления, и с этих пор (1875 год) начинается слава его. Но где слава, там завистники и недоброжелатели. Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение. Посыпались обвинения в шарлатанстве, нахальстве и эксплуатации невежеством. И, к стыду человечества, эти обвинения доходили иногда до того, что великий изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового судьи. Но в то же время не дремала и справедливость. Еще издревле известно, что добродетель торжествует, а порок побеждается. Покупатели толпами ходили к А. И. в его магазин, помещающийся на Страстном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало того, тысячи благодарственных адресов посыпались по адресу бессмертного целителя. В довершение всего Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены […Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены… – В № 46 «Новостей дня» (1884, 16 февраля) сообщалось, что «поверенный Иванова предъявил судье свидетельство международной (?) медицинской академии, выданное его доверителю для продажи всех без исключения медикаментов, изготовляемых им». В № 55 той же газеты от 26 февраля сказано, что «удостоверение выдано г. Иванову из международной Неаполитанской академии вместе с золотою медалью».] и этим ясно показала, что мы не умеем ценить наших. В 1882 г. Варшавская кондитерская […Варшавская кондитерская… – Находилась в Москве, в конце Тверского бульвара, д. Боргест.] избрала его в свои почетные посетители. В 1883 г. «Венеция» и «Прага» […«Венеция» и «Прага» ~ завсегдатаем… – Ресторан «Венеция» находился в Москве, на Кузнецком мосту. В заметке «Новостей дня» «Прелести ресторана „Венеция“» говорилось о несвежих битках, подаваемых посетителям, и о грубом с ними обращении в этом ресторане (1884, № 165, 17 июня). Гостиница и ресторан «Прага» – в Москве же, у Арбатских ворот.] провозгласили великого изобретателя своим почетным потомственным завсегдатаем, а в сем, 1884 г. за изобретенный им «Рафанистроль» […изобретенный им «Рафанистроль»… – В «Московских ведомостях», 1884, № 60, 1 марта помещено и затем многократно повторялось, как и в «Новостях дня» объявление о новом средстве Иванова для лечения кожи, разрешенное московским врачебным управлением. Вскоре стало известно, что рафанистроль был изобретен москвичом С. А. Кельцевым и перепродан им Иванову («Новости дня», 1884, № 78, 20 марта).] он попал в мои «Жизнеописания достопримечательных современников». Ибо новою мазью его я не только пользовался от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял ее от клопов и прочих паразитов.
Штабс-капитан Хрусталев.
Трифон
«И не жаль мне прошлого ничуть».
Лермонтов.
У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.
– Настюша! – зашептал он, – возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!
Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.
«Где же она?» – подумал он. – Настя! Настенька!
И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи – время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.
Луна, полная и солидная, как генеральская экономка, плыла по небу и заливала своим хорошим светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий… На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба.
«А вдруг она в деревню ушла! – думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. – Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».
Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.
«Я старый, дряхлый… – думал Григорий Семеныч. – Ей не сахар со мной…»
Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил… Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался…
– Брось ты этого старого чёрта! – перебил женскую речь грубый мужской голос. – Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит… Эххх… Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!
– Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь… тятька, вон, избу строить хочет… да брат на службе. Табаку послать или что…
Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.
«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, – ужаснулся он, – заместо как бы жены, и вдруг – с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она… с Тришкой!»
У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.
«А мне наплевать! – думал он, ложась в постель. – Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! Ну, нет… Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками мякину жует. А Тришку-подлеца… чтоб и духу не было! Утром же расчет…»
Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.
«Завтра же его прогоню… Впрочем, нет… не прогоню… Его прогонишь, а он на другое место – и ничего себе, словно и не виноват… Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил… Выпороть бы, как прежде… Разложить бы в конюшне и этак… в десять рук, семо и овамо… Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: „Так его! шибче! шибче!“ Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: – Ну, что, матушка? Ааа… то-то!»
Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.
«Я ей ничего не скажу, – думал он. – Пусть сама поймет… Я ее нравственно…. нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет… Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»
Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:
– Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!
В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.
«Мало прогнать… – подумал он, измеряя его взглядом. – Выпороть бы». – Ничего я тут не пойму! – начал он придираться, пробегая квитанции, поданные Трифоном. – Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один – на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на… За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!
– Мало ли чего прежде не было… – проворчал Трифон, глядя в потолок.
Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством…
– Пошел вон!! – взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.
До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебывали в его голове, но что он ни придумывал, всё подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел…
В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином:
– Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак – и душа вон.
Щеглов не вынес.
– Кого это, прохвост? – взвизгнул он. – Чья душа вон?
В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крякнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.
– Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!.. – сказал он, увидев барина. – Вот кто!
Минута прошла в молчании…
– За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет… – сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. – Чай, расчет дадут… Боязно!
Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.
– Трифон! – забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. – Триша! Я тебе одно только слово скажу… Постой! Я ведь ничего… Слово одно только… Послушай! Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!
– Ну?
– Видишь ли… Я тебе четвертную дам и даже, ежели желаешь, жалованья прибавлю… Тридцать рублей дам, а ты… дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!
Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.
– Не согласен! – сказал он и поплелся в людскую…








