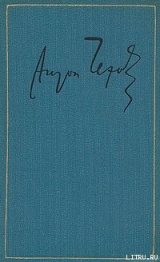
Текст книги "Рассказы. Юморески. 1883—1884"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Из дневника помощника бухгалтера
1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.
Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.
Принимал декокт от катара желудка.
1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!
Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.
Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!
1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.
Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?
1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке – это мне не по годам, а на вдове.
Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.
Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит…
1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.
1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.
А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на всё это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!
Инбиря 2 золотника, калгана 1½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; всё смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.
Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!
1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я – бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.
Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!
Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.
Весь в дедушку
Душная ночь, с открытыми настежь окнами, с блохами и комарами. Жажда, как после селедки. Я лежу на своей кровати, ворочаюсь с боку на бок и стараюсь уснуть. За стеной, в другой комнате не спит и ворочается мой дедушка, отставной генерал, живущий у меня на хлебах. Обоих нас кусают блохи, и оба мы сердимся на них и ворчим. Дедушка кряхтит, сопит и шуршит своим накрахмаленным колпаком.
– Безумец! – бормочет он. – Ммо… молокосос! Мало тебя пороли, бессмысленный молодой человек!
– Кого это вы, дедушка?
– Известно кого… Поблажку вам дают, балуют, не взыскивают с вас… (Дедушка втягивает в себя воздух и разражается старческим кашлем.) Прогнать бы тебя сквозь строй разика три, так ты понял бы… Почему не купил персидского порошку? Почему, я тебя спрашиваю? Леность? Нерадение?
– Дедушка, вы не даете мне спать! Замолчите!
– Не рассуждать! Понимай, с кем разговариваешь! (Дедушка громко чешется и возвышает голос.) Повторяю: почему ты не купил персидского порошку? И как ты смеешь, милостивый государь, позволять себе такие возмутительные поступки, что на тебя даже поступают жалобы? А? Вчера полковник Дубякин жаловался, что ты у него жену увез! Кто это тебе позволил? И какое ты имеешь право?
Дедушка долго бранит меня и с брани переходит на мораль: седьмая заповедь, брачные основы и пр.
– Всё это я понимаю лучше вас, дедушка, – говорю я. – Каюсь, меня мучает совесть, но ничего я не могу с собой поделать. Весь в вас! С кровью и плотью унаследовал от вас и все ваши добродетели. Трудно бороться с наследственностью!
– Я… я чужих жен не трогал… Выдумываешь!
– Будто бы? А лет десять тому назад, когда вам было шестьдесят лет, припомните-ка, вы увезли у ближнего не жену, не соломенную вдову, а невесту! Вспомните-ка Ниночку.
– Я того… я венчался…
– Еще бы! Ниночку воспитывали, лелеяли и готовили совсем не для шестидесятилетнего старца. На этой умнице и красавице женился бы любой добрый молодец, и у нее уже был подходящий жених, а вы пришли со своим чином и деньгами, попугали родителей и вскружили семнадцатилетней девочке голову разной мишурой. Как она плакала, когда венчалась с вами! Как каялась потом, бедняжка! И с пьяницей-поручиком бежала потом, только чтоб от вас подальше… Гусь вы, дедушка!
– Постой… постой… Это не твое дело… Вот ежели бы тебя разиков пять сквозь строй, так ты бы не того… не ограбил бы сестру свою Дашу… Обидчик… За что ты у нее сто десятин оттягал?
– С вас пример взял. Весь в вас, дедушка! У вас научился грабастать! Помните, когда вы служили в интендантстве, потом когда вас назначили в Уфимскую губернию и…
И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня в двадцати преступлениях, и все двадцать я сваливаю на родовое, на наследственность. Наконец дедушка хрипнет и начинает от злости царапать стену.
– Вот что, дедушка, – говорю я. – Нам долго так не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьем. Отлично уснем!
Дедушка, сердито шамкая губами, одевается, и мы идем к речке. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, мы возвращаемся к себе. Графинчик стоит на столе. Я наливаю две рюмки. Дедушка берет одну рюмку, крестится и говорит:
– Вот ежели бы тебя… разиков десять сквозь строй… понимал бы тогда! Пья… пьяница!
Проворчав, дедушка сердито выпивает и закусывает колбасой. Я тоже – потому что унаследовал любовь к спиртным напиткам – выпиваю и иду спать.
И этак у нас каждую ночь.
Козел или негодяй?
Знойное «после обеда». На кушетке в гостиной полулежит барышня лет восемнадцати. По ее лицу гуляют мухи, у ног валяется открытая книга, рот полуоткрыт, дыхание чуть-чуть… Она спит.
В гостиную входит старичок из породы гоголевских мышиных жеребчиков. Увидев спящую девушку, он ухмыляется и подходит к ней на цыпочках.
– Какая… прелесть! – шепчет он, шамкая губами. – Спящая… хе-хе… красавица… Как жаль, что я не художник! Эта головка… эта ручка!
Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее своей закорузлой рукой и… чмок! Девушка глубоко вздыхает, открывает глаза и с недоумением смотрит на старца.
– Ах… это вы, князь? – бормочет она, пересиливая сон. – Pardon, я, кажется, уснула!
– Ну да, вы спите, – лепечет князь. – Вы и теперь спите, а я вам снюсь… Вы это во сне меня видите… Спите, спите… Я только снюсь вам…
Девушка верит и закрывает глаза.
– Как я несчастна! – шепчет она, засыпая. – Вечно мне снятся то козлы, то негодяи!
Князь слышит этот шёпот, конфузится и на цыпочках стушевывается…
Смерть чиновника
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола».[55]55
…глядел в бинокль на «Корневильские колокола». – Оперетта Р.-Ж.-Л. Планкетта (1848—1903). Возможно, что Чехов знал ее еще с гимназических лет. По воспоминаниям В. В. Зелененко (ЦГАЛИ), в Таганроге в конце 70-х годов большим успехом пользовалась эта оперетта, с участием Е. Неделина, Чернова, Райчева. Следует, однако, отметить, что впервые оперетта была поставлена в Париже в 1877 г. и в «Перечне пьес, шедших в театре и на любительских сценах в г. Таганроге в 1870-е годы», составленном М. Л. Семановой, оперетта эта не значится (см. «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена». Т. 67. Кафедра русской литературы, Л., 1948, стр. 195—201; то же в кн.: А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. 2, Ростов-на-Дону, 1960, стр. 172—184).
[Закрыть] Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и…. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
– Извините, ваше —ство, я вас обрызгал… я нечаянно…
– Ничего, ничего…
– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
– Я вас обрызгал, ваше —ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…
– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
– Вчера в «Аркадии»[56]56
…в «Аркадии»… – Петербургский летний сад с театром, где давались комические представления.
[Закрыть], ежели припомните, ваше —ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…
– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
– Ваше —ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше —ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
– Я вчера приходил беспокоить ваше —ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…
– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
– Что-с? – спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.
– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
Он понял!
Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.
Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!
По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.
В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее… Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.
Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.
– Пшла! – говорит он пугливо.
Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.
Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.
В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда – и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.
– В голову попал! – говорит он с восторгом дворняге.
Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля… Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.
Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.
– Вы что же это? Стреляете? – говорит поляк насмешливым голосом. – Очень приятно!
Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.
– Как же вы смеете стрелять? – спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. – Это, стало быть, ваш лес? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?
– Павел Хромой, – еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. – Из Кашиловки.
– Из Кашиловки, чёрт побрал! Кто же позволял вам стрелять? – продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. – Дайте сюда ружье!
Хромой подает поляку ружье и думает:
«Лучше б ты меня по морде, чем выкать…»
– И шапку давайте…
Хромой подает и шапку.
– Вот я вам покажу, как стрелять! Чёрт побрал! Пойдемте!
Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним.
Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но, тем не менее, сильно пахнет жильем. Посреди конторы – большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Всё это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какою-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной…
– Надо будет акт составить, – говорит Кржевецкий. – Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!
Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.
– Вы у меня не уйдете, – говорит приказчик, зевая. – А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет…
Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.
По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос – где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо… Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.
– Дззз… – жужжат мухи. – Попался? Попался?
По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски… Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается…
Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.
Глаза его косятся на осу.
«Отчего она, дура, в дверь не летит?» – думает он.
Проходит еще два часа. Кругом всё тихо, беззвучно, мертво… Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая всё еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, – ну, а ему-то как быть?
– Так вот и люди, – философствует Хромой, глядя на осу. – Так и человек, стало быть… Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое…
Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое, красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.
Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно…
– Покажи-ка, что ты убил! – шепчет Волчков. – Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!
Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.
– Дурак! – говорит он. – Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?
– Стыдно, батюшка Петр Егорыч! – говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить…
– Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!
Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.
– Так ты этого не знаешь? – спрашивает барин, окончив чтение.
– Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?
– А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?
– Не могу, батюшка!
– А убил… И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья… Так… Взял себе да сдуру и убил…
Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромого.
– Анафема ты, анафема! – продолжает Волчков. – Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и… сожру… Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть… Пищат теперь…
Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки…
– Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, – оправдывается дрожащим голосом Хромой.
– От чего же? Известно, от жадности!
– Никак нет, Петр Егорыч… Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал…
– Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, разбойники!
Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:
– Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо… Непременно надо… Довольно уж вас баловать… До-воль-но! Послал за урядником… Акт сейчас составим… Послал… Улика налицо… Пеняй на себя… Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает… Умел грешить, сумей и наказание претерпеть… Охо-хоххх… Господи, прости нас грешных! Беда с этими… Ну, как у вас яровое?..
– Ничего… милости господни…
– Чего же ты глазами моргаешь?
Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок.
– Чего глазами моргаешь? – повторяет Волчков. – Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?
– Ваше высокоблагородие! – говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами. – Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил… Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно… по вашему человеколюбию… А мне нешто не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне… обидно-с… Разрази господи…
– Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?
– Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом… Пущай урядник наезжает… Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу… Дозвольте, ваше высокоблагородие!
– Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а всё умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять… Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельм Тель!
Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче…
– Никакого мне антиресу нет от этого скворца, – говорит он. – Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только… пустяк один. Сами можете понимать…
– Нет, не говори… Ты охотник вот, а не понимаешь… Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош… И соус можно… Как рябчик – один вкус почти…
И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:
– Узнаешь сейчас, какого он вкуса… Увидишь…
– Не разбираем мы вкусов… Был бы хлеб, Петр Егорыч… Самим небезызвестно… А убил скворца от тоски… Тоска прижала…
– Какая тоска?
– А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта… Дозвольте вам объяснить… Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе… Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился на плотине… Стою и смотрю на свет божий, как всё в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает… Утро рассвело и солнышко всходит… Вижу всё это, радуюсь и на пташек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ёк! Екнуло, стало быть…
– Отчего же это?
– Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-тось за речкой. Страсть как охоты захотел! С этаким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлямшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе… Думаю, думаю… И всё у меня в воображении братец ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог… в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да… аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бился-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца! Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!
Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:
– От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда – за сердце душит!
– Баловство!
– Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил – отлегло малость. На Преполовенье опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить – не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья напился… Назавтра тоска пуще прежнего… Ломит тебя да из избы гонит… Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет… к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье… Шут с ним! Отлегло…
– Баловство!
– Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить… Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю… Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича починить, али нет?» – думаю. Встал да и давай починять.
– Ну?
– Ну, и ничего… Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот… Туда мне и дорога… Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал…
– Сейчас урядник придет… Ступай в сени!
– Пойду-с… И на духу каялся… Батюшка, отец Пётра, тоже сказывает, что баловство… А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть… Всё одно как запой… Один шут… Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю…
Красный нос Волчкова делается багровым.
– Запой – другое дело, – говорит он.
– Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!
И молчание… Молчат минут пять и друг на друга смотрят.
Багровый нос Волчкова делается темно-синим.
– Одно слово-с – запой… Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.
Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.
– Ступай! – говорит он Хромому.
Хромой не понимает.
– Ступай и больше не попадайся!
– Сапожки пожалуйте-с! – говорит понявший и просиявший мужичонок.
– А где они?
– В шкафе-с…
Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается всё легче и легче.
Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.
Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.








