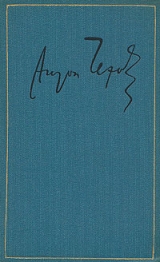
Текст книги "Том 4. Рассказы, юморески 1885-1886"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Делец *
Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как рьяный консерватор, Петрову же – как отъявленный нигилист. Радуется чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде и причесан à la Капуль * . Скрытен. Имеет большую памятную книжку, которую держит втайне. Делаем из нее выдержки:
«Потрачено на угощение княжеского камердинера 5 р. 20 к. Сбыл акцию Лозово-Севастопольской дороги, причем потерпел 14 коп. убытку».
«Не забыть показать графине Дыриной новый пасьянс под названием „Принцесса“: 12 первых карт, вынутых из колоды, размещаются в форме круга; следующие кладутся, как знаешь, на одну или другую из этих карт, невзирая на масть до появления червонной дамы и проч. Напомнить кстати о Пете Сивухине, желающем поступить в Дримадерский полк. Тут же переговорить с горничной Олей касательно выкроек для купчихи Выбухиной».
«За сватовство Ерыгин недодал 7 руб. Того же дня на крестинах следил я за Куцыным, либерально заговаривал с ним о политике, но подозрительного ничего не добился. Придется подождать».
«Инженер Фунин заказал нанять квартиру для его новой содержанки и просил старую, т. е. Елену Михайловну, сбыть кому-нибудь. Обещал сделать то и другое к 20 августа».
«Княгиня Хлыдина дает за свои любовные письма к поручику Скотову 1 000 р. Просить 5 000, уступить за 3 000, но ни в каком разе не отдавать ей всех. То письмо, в котором описывается свидание в саду, продать ей особо в будущем».
«Был свидетелем на суде. Помазал прокурора по губам, а потому, когда защитник стал меня пощипывать, то председатель за меня вступился».
«Не забыть дать по морде агенту Янкелю, чтоб не врал».
«Вчера у Букашиных во время винта следили за мной. Пришлось для блезиру проиграть 15 р. Все-таки получил оплеуху».
«Гусин дал 25 р. для отдачи их в газету „Хрюкало“ за то, что не печатали судебного отчета. Будет с них и десяти»…
Утопленник *
(Сценка)
На набережной большой, судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышатся, не переставая, ругань и шипенье пароходов.
– Тирли… тирли… – стонут блоки-лебедки.
В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя… К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура, с страшно испитым, опухшим лицом, в рваном пиджаке и латаных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды… Гастух сполз с воротничка и ерзает по шее…
– Виват господину купцу! – хрипит фигура, делая под козырек. – Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?
– А где утопленник? – спрашивает агент.
– В действительности утопленника не существует, но я могу вам его представить. Прыжок в воду и – пред вами гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств… Позвольте, господин купец, представить!
– Я не купец.
– Виноват… Миль пардон… Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент… Мы поймем друг друга… Я тоже из благородных… Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину XIV класса… Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги… Один прыжок в воду, и перед вами картина.
– Нет, благодарю вас…
– Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить… С вас я возьму недорого… За утопление себя в сапогах – два рубля, без сапог – только рубль…
– Почему же такая разница!
– Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Ergo, вы позволяете заработать?
– Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений…
– Гм… Вы, насколько я понимаю вас, вероятно, незнакомы с сущностью дела… Вы думаете, что я предлагаю вам нечто грубое, невежественное, но тут кроме юмористического и сатирического ничего не будет-с… Вы лишний раз улыбнетесь и – только… Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами! И к тому же… дадите заработать.
– А вы бы, чем утопленников изображать, делом бы занялись.
– Делом… Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут, благодаря склонности моей к алкоголизму, да и протекция необходима-с, а за простое, чернорабочее ремесло мешает мне взяться мое благородство.
– А вы наплюйте на ваше благородство.
– То есть как же это наплевать? – спрашивает фигура, гордо поднимая голову и усмехаясь. – Если птица понимает, что она птица, то как же благородному человеку не понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горррд… Кровью своей горд!
– Однако гордость не мешает вам плавать в одежде…
– Краснею! Ваше замечание имеет свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенного человека! Но прежде, чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать… Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделывать непристойности, но я… я далек от всего этого! Сколько бы мне купец ни давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим, хотя бы благородным, веществом. В изображении же утопленника я не вижу ничего позорного… Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а напротив, еще чище станешь. И медицина не против этого… Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле… Извольте, я за рубль в сапогах…
– Нет, не нужно…
– Почему же-с?
– Не нужно, вот и всё…
– Поглядели бы, как я захлебываюсь… Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть… Ежели б господа доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили… Извольте, я с вас только шесть гривен возьму! Почин дороже денег… С другого бы я и трех рублей не взял, но по лицу замечаю, что вы хороший господин. С ученых я беру дешевле…
– Оставьте меня, пожалуйста!
– Как знаете!.. Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь… В другой раз захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника…
Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинает рыться в карманах…
– Гм… чёррт… – бормочет она. – Где ж это мой табак? Знать, на пристани забыл… Заспорил с офицером о политике и куда-то сгоряча портсигар сунул… Нынче в Англии перемена министерства… * Чудят люди! Позвольте, ваше высокоблагородие, папироску!
Агент подает фигуре папиросу. В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент. Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек.
– Виват, ваше степенство! – хрипит он. – Живьо!
– Ааа… Это вы! – говорит агент купцу. – Долгонько заставили ждать себя! А тут без вас вот этот ферт меня замучил! Лезет со своими представлениями! Предлагает за шесть гривен утопленника представить…
– Шесть гривен? Ну это, брат, облопаешься, – говорит купец. – Красная цена четвертак. Вчерась нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли и всего-навсего пятерку взяли, а ты… ишь ты! Шесть гривен! Так и быть, бери три гривенника!
Фигура надувает щеки и презрительно усмехается.
– Три гривенника… Нынче кочан капусты эту цену стоит, а вы хотите утопленника… Жирно будет…
– Ну, не надо… Некогда с тобой тут…
– Так и быть уж, для почину… Только вы не рассказывайте купцам, что я так дешево взял.
Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок… Слышится звук падения тяжелого тела в воду… Всплывши наверх, фигура нелепо размахивает руками, болтает ногами и старается изобразить на лице своем испуг… Но вместо испуга получается дрожь от холода…
– Тони! Тони! – кричит купец. – Будет плавать, тони!..
Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой. В этом и заключается всё представление. «Утонув», фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, мокрая и дрожащая от холода, продолжает свой путь по берегу.
Реклама *
Нет более пожаров! Огнегасительные средства Бабаева и Гардена * составляют славу нашего времени. Доказательством их идеальной огнеупорности может служить следующее. Спичечный фабрикант Лапшин вымазал ими свои «шведские» спички, не загорающиеся, как известно, даже при поднесении их к горящей свече. Горелки пушкаревских свеч * обмазаны именно этими веществами. Театральные барышники, содержатели ссудных касс, аблакаты из-под Иверской никогда не сгорают от стыда только потому, что покрыты бабае-гарденовским веществом. Чтобы не показаться голословными, мы рекомендуем почтеннейшей публике приобрести новоизобретенные средства и намазать ими:
вспыльчивых людей,
прогорающих антрепренеров,
сердца влюбчивых людей,
вспыхивающих дочек и пламенеющих маменек,
горячие головы наших юных земцев,
людей, пламенеющих на службе усердием, клонящимся к явному вреду.
Свистуны *
Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата – магистра и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе.
– Это, братец ты мой, кузница… – пояснял Восьмеркин. – На этой виселице лошадей подковывают… А вот это, братец ты мой, баня… Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах… Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толикая многая… Баню только зимой топлю… Важная, брат, штукенция! Только русский человек и мог выдумать баню! За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить… Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики… чики-чики… Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики… Слезешь потом с полки, как сатана красный… А вот это людская… Тут мои вольнонаемники… Зайдем?
Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали… Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись.
– Вот они, мои… – начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих. – Хлеб да соль, ребята!
– Алалаблблбл…
– Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа всё то свиньи, тля!
– Ну не говори… – залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. – У всякого народа свое историческое прошлое… свое будущее…
– Ты западник! Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читал и согласен: интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях… Взять хоть бы Фильку…
Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук «гы-ы»…
– Взять хоть бы этого Фильку… Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься… Взять хоть этого дурня… Погляди, магистр! В плечах – косая сажень! Грудища, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит… Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай… Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!
– Господа наши милостивые! – замигал глазами степенный кучер Антип. – Нешто он это чувствует? Нешто понимает господскую ласку? Ты в ножки, простофиля, поклонись и ручку поцелуй… Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как Филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человек чверезый, не баловник, так такому не жисть, а рай… дай бог всякому… И награждаете и взыскиваете.
– Ввво! Самая суть заговорила! Патриарх лесов! Понимаешь, магистр! «И награждаете и взыскиваете»… В простых словах идея справедливости!.. Преклоняюсь, брат! Веришь ли? Учусь у них! Учусь!
– Это верно-с… – заметил Антип.
– Что верно?
– Насчет ученья-с…
– Какого ученья? Что ты мелешь?
– Я насчет ваших слов-с… насчет учения-с… На то вы и господа, чтоб всякие учения постигать… Мы темень! Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек… Носом больше понимаем… Ежели водкой пахнет, то значит – кабак, ежели дегтем, то лавка…
– Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина! Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!
Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем.
– Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!
Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином.
– Какова? Так и дышит силищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь с молоком! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Всё это натура, правда, действительность, не так, как у вас там! Что это у тебя за щеками набито?
Дуняша пожевала и проглотила что-то…
– А погляди-ка, братец ты мой, на плечищи, на ножищи! – продолжал Восьмеркин. – Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки… Что, всё еще с Андрюшкой валандаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся… Магистр, а? Формы-то, формы…
Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал… Дворня стала смеяться.
– Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая… – заметил Антип, глядя с укоризной на Дуняшу. – Что, красней рака стала? Про путную девку не стали бы так рассказывать…
– Теперь, магистр, на Любку посмотри! – продолжал Восьмеркин. – Эта у нас первая запевала… Ты там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества… Нет, ты наших послушай! Пусть тебе наши споют, так слюной истечешь! Ну-кося, ребята! Ну-кося! Любка, начинай! Да ну же, свиньи! Слушаться!
Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким, сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные… Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал.
Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать.
– М-да… – сказал он. – Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая… * М-да… Надо записать…
Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать… Пропев одну песню, «люди» начали другую… А похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок.
– Так его! – притопывал Восьмеркин. – Так его! Важно! Преклоняюсь!
Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано.
– А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше! – негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской. – Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда… Ты слышишь, они хохочут? Это они над нами!.. И они правы! Чуют фальшь! Тысячу раз правы и… и… А видал Дуняшку? Ше-ельма девчонка! Ужо, погоди, после обеда я позову ее…
За обедом оба брата всё время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бранили себя и искали смысла в слове «интеллигент».
После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же…
– Петька! – крикнул Восьмеркин лакею. – Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих! Скажи, хороводы водить! Да чтоб скорей! Живо у меня!
Отец семейства *
Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам.
– Желал бы я знать, какая ссскотина ходит здесь и не затворяет дверей? – ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь. – Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?
– Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, – отвечает жена.
– Шляются тут… дармоеды!
– Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бранишься.
– Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины?
– Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит.
– Да, начинай сцены, начинай…
– Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь?
– А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!
И так далее, всё в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть.
– Чёрт знает что… – бормочет он. – Придется, должно быть, в трактире обедать.
– А что? – тревожится жена. – Разве суп не хорош?
– Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет… клопы какие-то вместо лука… Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! – обращается он к гостье-бабушке. – Каждый день даешь прорву денег на провизию… во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать.
– Суп сегодня хорош… – робко замечает гувернантка.
– Да? Вы находите? – говорит Жилин, сердито щурясь на нее. – Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я… я возмущаюсь. Да-с!
Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.
– Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь… Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько!
Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы.
– Ешь? Держи ложку как следует! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Гляди на меня прямо!
Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит и глаза переполняются слезами.
– Ааа… ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!
– Но… пусть он сначала пообедает! – вступается жена.
– Без обеда! Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать!
Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.
– Не то еще тебе будет! – продолжает родитель. – Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я… У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело делать! Отец твой работает и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком!
– Перестань, ради бога! – просит жена по-французски. – Хоть при посторонних не ешь нас… Старуха всё слышит и теперь, благодаря ей, всему городу будет известно…
– Я не боюсь посторонних, – отвечает Жилин по-русски. – Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца этакого, высек?
Федя громко взвизгивает и начинает рыдать.
– Это, наконец, невыносимо! – говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. – Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит!
Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.
– Оне обиделись… – ворчит Жилин, насильно улыбаясь. – Нежно воспитаны… Так-то, Анфиса Ивановна, не любят нынче слушать правду… Мы же и виноваты!
Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги лицо гувернантки.
– Что же вы не едите, Варвара Васильевна? – спрашивает он. – Обиделись, стало быть? Тэк-с… Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить… Всегда режу правду-матку (вздох). Однако, я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать… Что ж? Сказали бы мне, я бы ушел… Я и уйду.
Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается.
– После всего, что здесь произошло, вы сссвободны! – говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову. – Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что, искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу…
Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную.
Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать…
Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно.
– Ну, что, молодой человек? – спрашивает весело Жилин, садясь за стол. – Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца.
Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.








