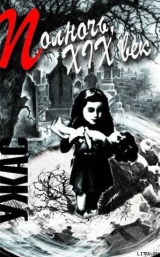
Текст книги "Полночь, XIX век (Антология)"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Александр Грин,Леонид Андреев,Всеволод Гаршин,Валерий Брюсов,Николай Гумилев,Федор Сологуб,Михаил Арцыбашев
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Еще с вечера невидимая и неслышимая, ползущая тайно, из уст в уста, пошла во все стороны тяжелая молва о злодеянии. Было совсем глухо и тихо, но в этой мертвой тишине отчаянный крик, казалось, летел от человека к человеку, и в душах становилось больно, страшно, и тяжелое, кошмарное рождалось возмущение. Оно таилось в глубине и как будто уходило все глубже и глубже, но вдруг, не известно никому, как и где, точно крикнул в толпе какой-то панический голос, оно вырвалось наружу, вспыхнуло и покатилось из края в край. На рассвете рабочие на бумагопрядильной фабрике и на ближайшей железной дороге побросали работы и черными кучками поползли через поля в деревню.
Сами убили да сами и суд вели, заговорил тяжелый, глухой голос, и в его шепоте стало нарастать что-то огромное, общее, грозное, как надвигающаяся туча.
Оно росло с сокрушающей силой и стремительной быстротой. И в своем стихийном движении увлекало за собой все потаенное, задавленное, вековую обиду. Казалось, тень маленькой замученной женщины, в детских черных чулках с наивными голубыми подвязками, воплотила вдруг в себе что-то общее, светлое, молодое, милое, бесконечно и безнадежно задавленное и убитое. Не хотелось верить, не хотелось жить, и ноги сами собой шли в ту сторону, как на зов погибающего голоса, сами собой принимали грозное и отчаянное выражение.
Когда рано утром десятские вынесли некрашеный гроб на улицу, огромная, точно в черном омуте крутящаяся толпа уже запрудила всю улицу. Она молча расступалась перед медленно плывущим по воздуху желтым ящиком. Никто не знал, что надо делать, и мучительно всматривался в желтую крышку, под которой, казалось, затаилось напряженное, молчаливое отчаяние. Было тихо, но где-то сзади, вдали, уже глухо и тяжело ворочался какой-то мерный, нарастающий подземный гул.
Белое небо уже стало прозрачным, и иней призрачно белел на крышах, на земле, на заборах. Одинокая звезда на востоке бледнела тонко и печально. Черная толпа, медленно свивая черные кольца, тронулась и поползла за гробом по тихой длинной улице. Было так чисто, прозрачно и изящно вверху, в небе, и так беспокойно-грубо внизу, на черной земле! Гроб быстро донесли до церкви и медленно стали заворачивать к погосту.
Кто-то пронзительно и настойчиво закричал. Иволгин, без шапки, седой и дикий, бежал за гробом и, махая костлявыми руками, кричал:
– Стой, стой!..
Гроб как будто сам собою остановился и нерешительно закачался на месте. Иволгин добежал. Седые пучки его волос торчали во все стороны, и старые глаза его пучились над искривленным ртом.
– Куда?! – закричал он, задыхаясь и хватаясь за гроб. – Назад!.. Убили и концы в воду?!.. Врете, мерзавцы!.. Назад!.. Это мы еще посмотрим, как…
Толпа глухо загудела, и похоже было гудение на растущий прибой.
– Господин Иволгин, за эти слова вы и ответить можете… очень просто! – угрожающе закричал урядник и протиснулся между ним и гробом. – Неси, ребята, неси!..
Иволгин машинально ухватился за его руку и судорожно шевелил трясущимися губами, дико пуча обезумевшие глаза.
– Да вы меня не хватайте! – с силой выдернул у него руку урядник, и голос его прозвучал оскорбленно и уверенно.
Но Иволгин так же молча и машинально ловил его за локоть и, как будто молча, бормотал что-то судорожно, по-рыбьи открывая и закрывая рот.
– Пустите! – с бешенством крикнул урядник.
– Они убили… сами убили… – наконец пробормотал Иволгин, – а вам… грех… ведь вы знаете…
– Что я знаю? – странно, как будто озлобясь на что-то, преувеличенно дерзко закричал урядник. – Чего там… Ваше дело?.. Десятский, бери его!..
Русый и бледный мужик робко взял Иволгина за руку.
– Братцы, что ж это такое? – прокричал кто-то в толпе с скорбным недоумением.
– Пусти, чего хватаешься!.. Убивцы!.. Робята, не давай хоронить… Прокурора… А-а… Не давай! – нестройно и негромко закричали голоса, и вдруг двинулось, отлило и опять подалось вперед.
Урядник закричал что-то изо всех сил, но только дикой нотой вошел в хаос ревущих голосов. Гроб порывисто закачался и быстро опустился вниз, на дно толпы.
VIIНа другой день, к полудню, вызванные по телеграмме, данной со станции железной дороги, приехали исправник и становой.
Вся деревня с утра гудела и дрожала. Гроб одиноко стоял в церкви, и на его желтой крышке мутно отсвечивало солнце.
Толстый исправник грузно и властно слез с брички и негромко, но твердо и коротко буркнул становому:
– Ипполит Ипполитович, распорядитесь, чтобы понятых и чтоб сейчас же закопать.
А сам короткими и твердыми шагами пошел к церкви. Вся паперть и весь церковный двор был покрыт черной молчаливой толпой. Прошли десятские, прошли становой и урядник. Слышно было, как гулко и нестройно топотали их ноги по каменному полу церкви. Потом они опять вышли, и желтая крышка гроба показалась в черной дыре дверей и закачалась в воздухе, высоко над толпой.
– Живо поворачивайся! – торопливо и властно говорил исправник, угрюмо и зорко кося глазами по сторонам.
Молча, как автомат, толпа сдвинулась и насела на паперть. Гроб встал.
– Расходись! – выступая вперед, крикнул исправник.
– Как это – расходись?! Убили, да и расходись… ловко! – ответил кто-то из толпы.
Иволгин, седой и аккуратный, с беленьким крестиком на серой шинели, вежливо и решительно выступил навстречу исправнику.
– Позвольте, сдержанно и тихо начал он, близко нагибаясь к исправнику, – раз голос народа указывает на…
– Что-с? – быстро поворачивая голову к нему, спросил исправник и гневно нахмурился.
– Я говорю, что убийцы нам всем известны… нельзя допустить, чтобы то ужасное дело…
Исправник коротко и неверно взглянул ему в глаза и сейчас же отворотился.
– Позвольте… Это не ваше дело!.. Кто вы такой?.. Потрудитесь удалиться.
Он мягко, но решительно отстранил стоявшего на дороге Иволгина.
– Осторожней! – вдруг бешено и страшно крикнул Иволгин, с силой отшвыривая его руку прочь.
Исправник съежился и внезапно побледнел.
– Потише, потише, вы… – чуть слышно и не глядя на Иволгина, пробормотал он. – Неси, ребята…
Было долгое, томительное молчание и неподвижность. Гроб тихо качался на паперти.
– Ребята, – бледнея все больше и больше, закричал исправник тонким, напряженным голосом, – знаете вы, что делаете?.. За это отвечать надо! Пропусти… Следствие выяснило виновника… суд рассудит, а вы отвечать будете…
– Судить… рассудит… Следствие! Го-го-го! – как будто весело и голосисто закричали в толпе. – Ловкачи!.. Нет, брат, ходи мимо!.. Го!..
– Пропустить! – вдруг теряясь, чересчур громко и неровно крикнул исправник. – Это еще что тут?..
– А то! – крикнул Иволгин, опять прорываясь к нему. – Вы думаете, на вас суда нет?.. Так врешь, подлец!.. Вот тебе суд!
Исправник молча исподлобья оглянулся кругом и ступил ногой назад. И вся толпа, как завороженная, двинулась за ним.
– Ипполит Ипполитович, – растерянно проговорил исправник.
Высокий, серый становой уверенно шагнул мимо него к Иволгину, и на его стальном лице было твердое, холодное, как будто чего-то еще не понимающее выражение.
Как раз в ту минуту, когда становой и урядник схватили Иволгина, высокий и худой мастеровой с длинным и бесцветным лицом вдруг изменился в лице и, бешено опустив зрачки, ударил корявым и грузным кулаком прямо в лицо становому.
– Убивец!!. – простонал он.
Брызнула кровь, и что-то болезненно и противно хрястнуло. Становой качнулся, но на ногах устоял. Его твердое лицо стало безобразным, но не выразило ни ужаса, ни боли, а одно безумное, удивленное, какое-то звериное бешенство. Он коротко и хрипло заревел и, изогнувшись, как кошка, бросился на мастерового.
С минуту они простояли обнявшись, потом закачались и разом рухнули вниз, гремя и звеня по ступенькам паперти.
И тут все мучительно охнуло и завертелось. Страшный, бледный призрак разгрома встал над толпой, и его бледный ужас отразился на замелькавших в дикой свалке лицах.
– А ну… Бей, ребята! – прокричал кто-то тонким, веселым и страшным голосом.
Исправник и старшина бежали рядом по грязной земле, по талому снегу, по холодной брызгающей в лица воде. Бежали, хрипя и задыхаясь, грязные, оборванные, с разбитыми страшными лицами, и были похожи на каких-то огромных, безобразных зайцев, режущих поле напрямик, не разбирая дороги. Далеко сзади, с уханьем и свистом, врассыпную бежала толпа.
VIIIНочью по темной и грязной дороге, выходящей из мрака и уходящей во мрак, вползала в деревню огромная, тяжелая масса. Ничего нельзя было разобрать в ней, но слышно было, как предостерегающе фыркали лошади, дробно и многозвучно шлепали по земле подковы и, со скрежетом, чуть слышно позванивало оружие. Не было видно ни лиц, ни движений, и казалось, что идет одна сплошная грозная сила.
Войска стали на площади. На улице было тихо и пусто, только взбудораженные собаки выли и лаяли по дворам. Кой-где в темных, таинственных окнах мрачно засвечивались огоньки и сейчас же гасли.
Часть солдат неуклюжими однообразными силуэтами спешилась и вошла в ограду церкви. Потом вынесли из мрака темный ящик и быстро понесли его кругом смутно белевшей ограды на погост. Было тихо.
И долго было тихо, пока не настал серый и тревожный день.
Днем по главному шоссе от фабрики, на которой не курились и стояли, как огромные потухшие свечи, мертвые трубы, опять потянулись черные кучки мрачных и зловещих людей. Прилегающие к площади улицы, казалось, рождали их черные силуэты. Они липли друг к другу, росли и расплывались по площади, как густые пятна пролитого на сне! черного масла. Бледные, напряженные лица сходились и расходились, поворачивались друг к другу и смотрели на солдат с странным, углубленным выражением.
Половина площади у церкви была запружена сплошной черной толпой. На ограде церкви торчали люди. На сваленных возле ограды бревнах и досках кишела пестрая и в то же время однообразная масса голов.
По другую сторону площади было по-прежнему пусто и тихо. Там неподвижно длинной полосой стояли конные солдаты, и ряд их каменных, непроницаемых лиц был обращен к толпе. Они сидели однообразно и неподвижно, и только лошади махали головами да расхаживали впереди какие-то серые люди, никому не известные, странно блестящие на серой земле и серых заборах.
Потом эти люди прошли к лошадям и быстро, уверенно поднялись на седла. Раздался одинокий возглас, и длинная полоса солдат разом заколебалась, тронулась и с громом и звоном рысью двинулась через площадь на толпу.
Толпа зашевелилась. Одинокие крики изумления и ужаса порвали тишину, и вся черная масса с диким криком и визгом полезла назад на бревна, на ограду церкви. Огромные лошади круто взмахивали головами и, упираясь, надвигались на людей. Сзади толпы, с ограды, засвистали и закричали. Высокий, худой мастеровой вприпрыжку побежал от церкви навстречу лошадям и высоким голосом закричал: – Наши, сюда! Наши, сюда!..
И один по одному побежали назад огромные черные люди.
– Бей, бей! – закричали они нестройно и страшно.
Все смешалось, как в кошмаре. В воздухе засвистали палки, камни, замелькали руки и закрутились ополоумевшие багровые лица с дикими глазами. Слышался уже не крик, а какая-то каша из хрипения, визга, жестких ударов по чему-то живому и глухих, тяжелых падений. И вдруг раздался стихийный, торжествующий рев. Вдали, на конце площади, виднелись казаки, но уже не правильной серой полосой, а разрозненными жалкими кучками. А в них неуклонно и страшно все летели и летели тяжелые и круглые камни.
– Наша взяла! – прокричал высокий человек и улыбнулся детской радостью и торжеством.
– Гляди!.. – тихо и внятно сказал кто-то в толпе. На той стороне площади медленно и мерно развертывалась длинная серая полоса, и отчетливо было видно, как отбивали торопливый и мерный такт сотни ног. Сразу все стихло, и на площади опять встал какой-то молчаливый и бледный призрак.
– Не смеют, пугают! – робко и недоумело заговорили в толпе.
Что-то светлое, правдивое и казавшееся таким простым и естественным бессильно заметалось, стараясь уверить сжавшиеся сердца.
– Братцы… как же так?.. Что же теперь?.. – спросил высокий мастеровой упавшим жалким голосом.
И вслед за тем что-то ударило в землю и небо. Серые люди куда-то исчезли и затянулись полосой легкого и сизого дыма…
IXК вечеру разошлись тучи и выглянуло солнце. На улицах было пусто, и только куры тихо бродили по дороге да возле церкви, трусливо поджимая хвосты, бегали и нюхали землю собаки. Было тихо и страшно, и казалось, над землей, между замершей и затаившейся жизнью и глубоким, свободным голубым небом, стояла какая-то невидимая мертвая, давящая сила.
В сарае, при волости, на помосте лежали рядами неподвижно мертвые люди и смотрели вверх остановившимися навсегда белыми глазами, в которых тускло блестел вопрошающий и безысходный ужас…
Рассказ о великом знании
IБыл у меня один приятель, человек души уязвленной и ума исступленного.
Был он весьма талантлив и не так еще давно написал книгу, вызвавшую большой и даже необыкновенный шум. Многие узрели в нем пророка, многие безнравственного мерзавца и только некоторые – человека глубочайшей иронии. Вряд ли не я один понял, что книга эта (кстати сказать, характера мрачного и даже нигилистического в глубочайшем смысле этого слова) была просто криком сердца измученного, души изверившейся, разума, смеющегося над самим собою.
Я не вполне знаю его биографию. Известно только, что родился он где-то в захолустном городишке, в семье мелкого чиновника, детство провел болезненное и заброшенное, ибо матери лишился что-то очень рано и остался на руках няньки, совершенно простой бабы из солдаток, которая к тому же любила выпивать не в меру.
Каким образом у него появилось это непомерное, можно сказать, трагическое самолюбие и мечты о власти необычайной, сказать трудно, принимая во внимание наследственность мелкого чиновника, бедность, заброшенность и воспитание няньки, солдатки и пьяницы.
Не менее трудно определить, откуда явилась непобедимая пытливость ума; склонность к мечтаниям, незаурядная воля и талантливость натуры вообще.
Надо сознаться, что мы еще очень далеки от проникновения в подлинные тайны человеческого я.
Трудность же анализа даже для меня, человека… впрочем, это все равно… трудность анализа усугублялась тем, что он не любил и даже не умел рассказывать о себе. Как-то так выходило, что во всем его детстве не было ничего замечательнее любви к дворовым собакам и первой книги, прочитанной им лет семи от роду, а именно – сочинений Марка Твена.
Несколько раз, правда, он рассказывал при мне один эпизод, случившийся в год смерти матери, когда ему было не больше двух лет, и рассказывал даже с большим удовольствием… Но я никак не мог понять, чем замечателен этот случай и какие выводы на нем можно построить.
Желая быть объективным, однако, эпизод этот воспроизведу, хотя, повторяю, не вижу в нем ничего достопримечательного.
Дело было так: в яркий солнечный день мальчик этот, двух лет от роду, сидел где-то на дворе и мыл в луже свои собственные штанишки; жил же в их дворе какой-то отставной и выживший из ума профессор, длинный и сухой немец, всегда ходивший в длиннейшем черном сюртуке; оный немец наткнулся на мальчика и спросил его:
– Что ты делаешь? Малшик, маленький малшик?
На это мальчик весьма рассудительно и солидно объяснил, что моет он свои штанишки, так как мамы у него нет, и если он сам о себе не заботится, то так и будет ходить в грязных штанишках.
Тогда немец тяжко вздохнул, кряхтя полез в задний карман своего бесконечного сюртука, вытащил длинный фуляровый красного цвета платок и приложил к глазам. Потом погладил мальчика по голове, сказал:
– Бедный малшик!
И отошел…
Вот и весь эпизод! И я, ей-Богу, не понимаю, какой может быть в нем особый смысл, чтобы рассказывать его с таким многозначительным наслаждением.
О последующей его жизни знаю уже совсем мало. Знаю только, что гимназии он не кончил, шалуном и драчуном был отъявленным, с явным стремлением вечно быть вождем, чем главным образом и объяснялись все его выходки, иногда для детского возраста даже и совсем нелепые.
Так, например, будучи в пятом, кажется, классе, идя однажды ночью по полю, усмотрел он огромную вывеску с надписью: место для свалки навоза. Немедленно отодрал он огромную доску от столба, с величайшим трудом притащил в город и прибил на воротах городского кладбища… Зачем?.. Неизвестно!..
По выходе из гимназии куда-то отправился учиться живописи, где-то голодал, едва не сделался шулером, зарабатывал на жизнь, рисуя увеличенные портреты и карикатуры в уличных листках, и вдруг неожиданно всплыл на верха литературы и весьма скоро стал известен у нас, а после своей пресловутой книги, с идеей которой я совершенно не согласен, прогремел даже и за границей.
Был он всегда меланхоличен и замкнут, хотя и высказывался весьма откровенно. Думаю, однако, что откровенность была только кажущаяся, а самое главное, без чего все остается ложью, он всегда таил.
Когда я с ним познакомился, был он в угаре увлечения женщинами. Был же он сладострастен несомненно. Глупые женщины льнули к нему со всех сторон, прельщенные его известностью и некоторой оригинальностью манер и внешности, и брал он их всех без разбора, даже до странности.
После нескольких лет форменного распутства вдруг объявился женоненавистником и даже стал жесток, хотя и не без странностей: явно презирая женщин, умилялся каждой милой женской черте, явно издеваясь над ними, был иногда излишне даже мягок и жалостлив до сентиментальности.
Впрочем, в этой сентиментальности было нечто, что наблюдается у закоренелых и хладнокровных убийц, которые, вырезав на своем веку десятки людей, вдруг сюсюкают над каким-нибудь слюнявым младенцем или шелудивым щенком.
Вот и все, что я могу сказать о нем.
К тому же времени, от которого хочу начать рассказ о его странном и страшном конце, вдруг явилась у него потребность одиночества, и, уехав в глухую провинцию, поселился он в уединенной барской усадьбе, в которой даже и мебели порядочной не было.
Туда-то по некоторым обстоятельствам, о которых, как о не идущих к делу, распространяться не буду, приехал к нему и я.
IIУсадьба была окружена глухим сосновым лесом, в котором еще сохранились следы бывшего когда-то парка и кое-где еще попадались разбитые амуры и Венеры без носов.
По ночам во тьме, когда начинали шуметь сосны и казалось, что обезображенные Венеры и амуры движутся в темноте, бывало прямо-таки жутко.
Комнаты были обширны, но обставлены самыми плачевными остатками мебели, так что в зале, например, стоял всего-навсего один древнейший зеленый штофный диван, из которого крысы повытаскивали всю набивку и который иногда даже безо всякой видимой причины начинал звенеть всеми своими многочисленными пружинами.
Спали мы в разных концах дома, перед сном же обычно сходились в столовой, ужинали и спорили о вопросах чисто философских, причем он заявлял себя реалистом чистейшей воды, хотя тайн и не отрицал и узок не был. Материалистом я бы его не назвал, ибо материалист ограничен и все знает, и все объясняет, а он допускал неограниченность тайн и возможность невозможнейшего.
Думаю, что могу прямо перейти к той непонятной ночи, которую попытаюсь объяснить только в конце, а пока предоставлю принимать, как угодно.
Перед этим несколько дней он был очень задумчив и раздражителен, а в этот вечер мы много спорили и, между прочим, коснулись вопроса об удивлении. Я утверждал, что ничему удивляться не могу, ибо и самое невозможное возможно, и что бы я ни узнал и ни увидел, хотя бы и самого черта, приму как факт, доселе мне не известный, но вытекший из законов, несомненно существующих.
Вот тут-то меня поразила его улыбка. Он улыбнулся так, как будто ловил меня на слове.
– Итак, вы ничему не способны удивиться?
– Конечно!
– Но в таком случае вы и ужаснуться не можете?
– Да. Я могу испугаться явной опасности, но не непонятного, как бы ни было оно странно.
Тогда он закивал головой с явным, но совершенно не понятным мне в ту минуту удовольствием и как-то уж очень скоро распрощался и ушел к себе.
Я лег на кровать одетый, начал было читать, но незаметно уснул, забыв даже погасить лампу.
Спал я, должно быть, недолго и проснулся от неопределенного ощущения какого-то беспокойства.
Когда я открыл глаза, он стоял в ногах моей кровати и, заметив, что я не сплю, сказал:
– Я хотел попросить вас встать и пойти со мною.
Я встал, несколько встревожившись: от такого человека можно было ожидать всевозможных неожиданностей. К тому же лицо его меня поразило.
Было оно чрезвычайно бледно, с синими кругами под глазами, но в то же время странно восторженно. Почему-то мне пришло в голову, что такое замученное и восторженное лицо должно быть у какого-нибудь алхимика, до смертельной усталости просидевшего всю жизнь над труднейшими и опаснейшими изысканиями, когда вдруг видит он, что вслед за последним усилием уже близко величайшее и вожделенное открытие.
Я тотчас же встал и последовал за ним, мгновенно почему-то решив ничего не спрашивать и приготовиться ко всему.







