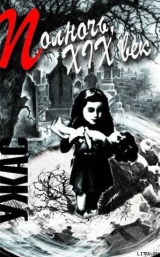
Текст книги "Полночь, XIX век (Антология)"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Александр Грин,Леонид Андреев,Всеволод Гаршин,Валерий Брюсов,Николай Гумилев,Федор Сологуб,Михаил Арцыбашев
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, – так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства, степенно вошел и я, как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.
Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому – тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.
Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами – делегатами.
Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация [здесь: видоизменение] факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга – язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:
– Этот испанский профессор – странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!
– Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!
– Вот те на!
– А что прикажете думать?!
Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.
– Что же это такое и как же понять? – прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:
– А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет…
Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.
Испанец, встав, кратко повел рукой.
– Мы просим, – сказал он сильным и звучным голосом, – разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.
Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: "мы должны быть", неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.
– Сеньор кабалерро знает испанский язык? – обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.
– Знаете испанский язык? – повторил иностранец. – Хотите быть переводчиком?
– Сеньор, – возразил я, – я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!
Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:
– Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран, – на что ответил я так, как следовало, то есть:
– Александр Каур (мое имя), – после чего заседание вновь приняло официальный характер.
Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч – маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать – апельсинового варенья, десять – хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он "будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках".
Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.
Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.
– Все взрослые – дети, – сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв о моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:
"На севере диком, над морем,
Стоит одиноко сосна.
И дремлет,
И снегом сыпучим
Засыпана, стонет она.
Ей снится: в равнине,
В стране вечной весны,
Зеленая пальма… Отныне
Нет снов иных у сосны…" [очень вольный перевод 33-го стихотворения Г. Гейне из цикла "Лирическое интермеццо", сделанный, по-видимому, самим А. Грином]
VIIIТак мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, – смысл которого безграничен, – я нашелся лишь сказать:
– Правда? Что хотели вы выразить?
– Мы знаем кое-что, – сказал он обычным своим тоном. – Итак, приступите, кабалерро!
Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.
К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.
– Вот! – сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее. – Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!
Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:
– А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло! Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.
– Если все подарки таковы… – сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, – то что же это такое?
Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:
– Н-да…
Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.
Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна, – они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.
– Это – очень редкие раковины, – сказал Бам-Гран, – и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!.. Он обратился к помощникам, жестом торопя их:
– Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.
Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами – золотой тонкой резьбой.
Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.
Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.
В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии "общественного снабжения". Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду – из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избегнуть грядущих очередей.
Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк – самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы – перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.
Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли – драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блестки, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.
Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия – истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.
Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:
– Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц!
Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: "Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара".
– Вот что они просили передать вам, – громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: "Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых – все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!" Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она…
"Далекие сестры…" Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, – легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск [штриховой набросок, орнамент] из лепестков и лучей.
IXНа острие этого впечатления послышался у дверей шум, – настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.
– Позвольте пройти! – говорил человек этот сумрачно и многозначительно.
Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:
– Я говорю вам, – пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво… – но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.
Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут – очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.
Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.
– Так вот, – сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, – вы должны знать, кто я. Я – статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не… верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! – прокричал он. – Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, – я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!
Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.
– В чем дело? Что с ним? Кто это?! – послышались восклицания.
Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.
– Вы с ума сошли! – сказал он. – Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!
– Он значит, что я более не могу! – закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. – Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я – испанец, в таком случае!
Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.
– Да, этот человек – не дитя, – насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. – Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?
– Что я имею? – вскричал Ершов. – А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, – вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я… эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!
Он разошелся, загремел, стал топать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.
– Безумный! – сказал он. – Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более – ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!
Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода, – он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн… Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.







