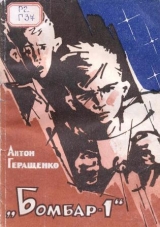
Текст книги "Бомбар-1"
Автор книги: Антон Геращенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Да тут уж о себе не думаешь, – сказал Василий Павлович. – Сам уж как-нибудь. Главное, чтоб хоть дети наши, внуки счастливую жизнь увидели.
– А самому шо? Увидеть не хочется? – возразил с коротким смешком Гаврила Охримович. – Хоть краем глаза поглядеть? Глянуть да потом бы и, шут с ним, на тот свет можно.
Колька встрепенулся: "Вот оно! Значит, и его прадеду хочется побывать у нас..." И радуясь тому, что как вовремя они с Сашкой залетели в восемнадцатый год, он прислушивался уже к каждому слову.
– Ну что ты, Гаврила!..-рассмеявшись тихо, сказал Василий Павлович. Конечно, хочется. Вспомни, как мы в Ростове жили, халупы наши да как горб гнуть приходилось в мастерских. Да война потом, кровь, вши... Ведь по-людски и одного дня не прожили. Так... колотились! Одно только и радостно вспомнить забастовки наши, хоть тогда гуртом чувствовали мы себя людьми... Я вот, знаешь, сейчас, как цыган, можно сказать, живу. Людей веду. В нас стреляют, а мы идем. И вот... понимаешь... может, только смерть у нас впереди, а мы все довольны. Честное слово! Не знаю почему, а вот счастливый я сейчас! Может, вольным наконец себя чувствую, никаких хозяев надо мной, сам себе голова. Человек я сейчас, понимаешь?!
– А шо ж тут не понять. Очень даже понятно, Василь. Но я вот о чем сейчас думал... О хлопчиках этих приблудных, шо баба Дуня привела. Вот они говорили, шо ни казаков, ни богатых не будет, все равными будут. А ведь верно они кажуть, а? Хоть и хвантазеры они, но ведь верно! И шо грамотными все будут, и никто никого давить не будет. Справедливость, одним словом, как Ленин Владимир Ильич говорит. Верно хлопчики кажуть, мы ж как раз к такой жизни и правим, а?
– Эт то-очно! – подтвердил Василий Павлович. – Должна же когда-нибудь справедливость настать. Иначе нельзя! Да и сколько может трудовой человек терпеть? Сколько же это людей – да и каких людей! – за эту мечту погибло? Пора бы уж, а? Должно же и у нас счастье быть.
– А мы теперь победим! – сказал твердо Гаврила Охримович. – Весь мир поднялся, вся голытьба. Назад в ярмо нас уже не загнать. Победим мы, Василь! Об этом даже и думать не нужно.
– Дай-то бог! Хоть и не верю я в него, бородатого, ко дай бог! – вздохнул Василий Павлович и, поудобнее укладываясь, добавил: – Ну что? Давай спать? Завтра день у нас веселым будет. В особенности у тебя. Под копной затихли.
Звезд в небе вроде прибавилось. На земле посветлело, табор стал виден темными пятнами. Что это – каждое в отдельности, – разглядеть невозможно, и лишь по звону уздечек можно было догадаться, что там ночуют кони.
Колька лежал и думал о разговоре председателя хуторского Совета и командира отряда. О том, сколько людей погибло, чтобы он, Колька Загоруйко, правнук председателя, мог ходить в школу, расти свободным человеком... И дид Чуприна мечтал о жизни в справедливом мире, и муж бабы Дуни – сердобольный Охрим, и дети его-Тарас, Степан, Остап, и вот теперь... Гаврила Охримович.
Рядом с ним заворочался Сашка, заслоняя головой звезды, наклонился над ним и чуть слышно прошептал:
– Ты не обижайся на меня, Коль. Я же как лучше хотел. Они же на смерть идут, нужно, чтоб они верили. Колька молча обнял его за плечи.
– Ничего, – сказал он. – Все правильно. И им должно помогать будущее.
Трубач при последнем слове зашевелился, придвинулся к ребятам ближе.
– Эх, – сказал он, приподнявшись на локтях, – я вот тут лежал, на звезды смотрел и думал... Ростов, Темерник наш вспоминал, глиняные мазанки... И знаете, что надумал?.. Как мы победим, город надо над Камышевахской балкой построить. Уж очень красивое место. Взгорье! Воздух завсегда свежий, Дон далеко виден, заречье, вольно там, просторно. Построить бы высокие дома белые, да чтоб окна в них были не такими, как в наших мазанках, а поширше! Во всю стену! Чтоб подошел человек к окну и увидел, какая перед ним красота, как Дон на солнце играет. И вот таких домов – целый город! Высоченных!.. Чтоб человек не червяком земляным себя чувствовал, а птицей! И чтоб жили в этом городе простые рабочие люди. Такие, как мы, к примеру.
Сашка улыбнулся в глаза Кольке, отстранился, затаил дыхание. Вот чудо! Ведь не они, а трубач рассказывает им об их Красном городе-саде.
Колька будто в волшебном свете увидел – ярко! четко! весь разом! белокаменный город. Его просторные дворы – продолжения каждой квартиры. Ворс зеленых ковров во дворах – щетинистую траву. Притаптывается она с утра до вечера ребятней. Когда они утром высыплют с этажей разноцветной ватажкой зеленые ковры будто цветами покрываются...
Видел Колька широченные черные асфальтовые реки, по которым плывут, словно пароходы, стеклянные вагоны троллейбусов и автобусов и, обгоняя их, летят юркие лодки-такси... Бульвар Роз между девятиэтажными громадами, белую шестнадцатиэтажную свечу-небоскреб над площадью и парком... Сверкающие стеклами, как аквариумы, торговые центры, кафе, университетское здание с круглой башенкой планетария... Огромную белую глыбу будущего кинотеатра с двумя залами, где в один и тот же миг будут лететь на экранах, взметнув сабли" краснозвездные конники и, разрезая ночное небо, звездные корабли...
– Не-ет, – продолжал паренек мечтательно, – я это обязательно сделаю. Вот закончится война, выучусь и обязательно такой город построю. Эх, и красивая жизня будет в нем! И школы там, и кинематограф, и магазины просторные, как для богатеев сейчас.
– Да отлипни ты! – дернув плечом, сказал трубачу Гришка. – Навалился та еще на ночь о магазинах балакаешь. Там же канхветами торгуют, а у меня слюни текуть!..
Паренек лег на свое место, с осуждением произнес:
– Эх вы... мелкота. А!.. Ну вас! Разве ж вам, соплякам, понять...
Все перепуталось!
В августе одна тысяча девятьсот восемнадцатого рода Колька и Сашка встретили людей из своего дня.
Да, да, да! Из их дня были и Гаврила Охримович, и Василий Павлович, и его сын-трубач, и еще десятки людей, которых они видели сегодня, но не успели хорошо узнать.
Колька долго лежал без сна, прислушиваясь к ночной тишине, которая его уже не пугала. Он думал обо всем, что увидел и понял за сегодняшний день.
Все уже спали. Крутился во сне Сашка, толкался коленями и локтями. Что ему, интересно, снилось?.. Завтрашний ли день со скачками или... тот день, из которого они прилетели?
Звезды разгорались. И Колька, глядя на них, подумал вдруг, что там, в космосе, горят далекие планеты, и на землю они пробиваются звездной манящей россыпью.
РАССТАВАНИЕ
Будто спал и не спал Колька. Побаюкало его среди звезд, а открыл глаза светло вокруг, петухи горланят к изо всех хат на косогоре поднимаются прозрачные дымки, словно вырос за ночь голубой лес!
С минуту он озирался с копны, разглядывая незнакомое взгорье, камыши в низине, белую хатку под развесистой акацией, жадно втягивая студеный воздух, боясь выбраться из-под нагретого одеяла. А когда вспомнил все и увидел, что Гришки уже нет, разбудил Сашку.
Сна как не бывало!
Они разом вскочили, съехали вниз по мокрому от росы сену и остановились под копной, не зная, где искать Гришку.
– Встали, сынки? С праздничком вас, со спасом, – услышали они позади себя.
Оглянулись – во двор с улицы входила бабушка Дуня с кошелкой, сплетенной из чакана. Мальчишки поздоровались, спросили о Гришке.
– А он в хате, – ответила бабушка Дуня. – Я ж в церковь ходила, мед та яблоки святила, шоб сытным год у нас был, а он, мабуть, в хате ждет. Ходить и вы, сейчас разговляться будем.
В хате все уже сидели за столом. На выскобленные желтые доски бабушка Дуня поставила глиняную миску с медом, высыпала из кошелки яблоки – бери, какое нравится! И все – Гаврила Охримович, его жена, худая, бледная женщина, бабушка Дуня без платочка, с жиденьким пучочком волос на затылке, Гришка и Колька с Сашкой, – выбрав по яблоку, принялись обмакивать их в мед и есть.
Неуютно как-то стало в хате! На топчане возвышались вещи, увязанные в узлы. Около них сидели в платках мальчик и девочка детсадовского возраста с яблоками в ручонках. Платки на груди у детей были завязаны крест-накрест, отчего они были похожи на маленькие узелки. Сегодня дети смотрели веселее, не куксились. Колька сунул им еще по одной таблетке стрептоцида – малыши зажали их в кулачках.
Ели все молча, только яблоки хрустели.
– Невеселый у нас нынче спас, – сказала вдруг бабушка Дуня и заплакала.
– Только без рева! – нахмурился Гаврила Охримович. – Решила в хате остаться – оставайся, не бередь душу. Мне и без рева тошно.
Всхлипнула и его жена, потянула к глазам подол кофты.
– Начинается! Начинается потоп! – поднялся из-за стола Гаврила Охримович. – Мы не навсегда из хаты уходим! Уведет Павло казаков своих, мы и вернемся!.. Хватит, хватит реветь, а то и вправду беду накличите.
Женщины затихли, но в глазах у них стояли слезы.
– Переживем! Не горюйте! -сказал Гаврила Охримович, доставая из-под узлов шашку в старых, вытертых до блеска ножнах и наган с длинным и тонким дулом.
Крутанул барабан, проверяя патроны, сунул в карман, шашку прицепил к поясу.
– Переживем, – повторил он. – Сойдутся фронтовики-казаки, мы тут сами справимся. – И – бабушке Дуне: – Гришка с тобой останется, если шо – он знает, где мы будем.
Бабушка Дуня встала из-за стола, глядя на икону, беззвучно пошептала что-то. Сложив пальцы в щепотку, молча перекрестила стоящего перед ней Гаврилу Охримовича, его жену, ребятишек около узлов и потом – Кольку с Сашкой, Гришку.
– Спаси вас, бог!
– Я пошел... – нерешительно сказал Гаврила Охримович, задерживаясь на пороге.
Бабушка Дуня еще раз перекрестила его в спину, а жена попросила со слезами в глазах:
– Ты не очень-то там, на скачках, Гаврила, на рожон лезь. Не кипятись, не встревай, если драка затеется. А то я знаю тебя, скаженного!.. Побудь сколько надо и к нам в плавни тикай.
– Ладно, мать, – ответил Гаврила Охримович, отворяя дверь и уже с порога: – Вам люди помогут тут. До вечера!
Дверь скрипнула, щеколда клацнула.
Без Гаврилы Охримовича в хате и вовсе стало неуютно. Мальчишки посидели-посидели за столом и тоже к двери направились.
– А вы, хлопчики, после скачек сюда приходьте. Не мотайтесь по хутору зря, – сказала им бабушка Дуня. – А то ж бачите, шо у нас творится, долго ли до беды? Приходьте, я вам хоть рубашки та штаны позашиваю.
Солнце еще не показалось в низине, но на улице уже потеплело. После прохладного полусумрака хаты приятно было дышать свежим воздухом, греться под солнышком.
– Ну шо, уркаганы ростовские? – спросил Гришка Кольку с Сашкой и, кивнув на Гаврилу Охримовича, который шел по зеленому лугу к табору, предложил: Пойдем попрощаемся?
Табор встретил их молчанием. И хотя люди сидели у костров, лошади были еще не запряжены в брички, но чувствовалось, что все здесь уже готово к отъезду.
Гаврила Охримович шел между повозками и кострами, здоровался и тут же прощался.
– Счастливый путь вам, люди добрые!.. Счастливый путь.
Люди у костров улыбались ему, кивали, желали удачи.
– Где атаман ваш?
– Вон там, с Михейкиным и Харитоном совещаются, – показали на арбу с высокими бортами.
– А... легкий на помине, – встретил председателя Василий Павлович. – Тут вот, Гаврила, идея у нас появилась. Подсобить тебе хотим. У меня охотник нашелся, – Василий Павлович кивнул на худого Михейкина в черкеске, – помочь тебе на скачках в случае чего. Если заварушка какая начнется или еще что, понимаешь? Так ведь, Михейкин?
Михейкин кивнул. Был человек этот похож на высушенный корень – будто из одних сухожилий, гибкий, коричневый от -загара.
– Он, Гаврила, лихой у меня человек. Джигитовщик, диких коней объезжал, жокеем по городам ездил, в цирках выступал, такие номера может показывать, что ахнешь! Стреляет не глядя с коня, откуда хочешь и никогда не промахивается. Артист, одним словом!
– Э-эх, – взмахнул перевязанной рукой Харитон. – Жаль, шо я но могу, а тоб мы с Михейкиным устроили катавасию!
– Ладно, ладно!-оборвал его Василий Павлович.-Тебе б Харитон, только катавасии устраивать.
У Сашки глаза вмиг помутнели, перед собой он уже ничего не видел, мечтал. Колька знал, о чем это он...
Видел Сашка вновь погоню, как он с Колькой спасают Гаврилу Охримовича. Только скачут с ними уже и Михейкин, и Харитон. Они будут отстреливаться. Харитон вскидывает винтовку здоровой рукой, прижимается щекой к прикладу. Выстрелив, вставит новый патрон: неудобно ему все делать одной рукой, но... куда денешься, когда наседает на тебя орава белогвардейцев.
– Тикай, тикай, Харитон! – закричит им Михейкин. – Я прикрою, – и примется стрелять враз из двух наганов.
Барабаны крутятся, выщелкивают в беляков пули. Заряжает он их прямо горстью. Не глядя, всовывает патроны: привык к фокусам. Стреляет и скачет залюбуешься! То под брюхо коню нырнет, то откинется от летящей в него пули в сторону, и после каждого его выстрела валятся через головы своих коней хуторские богачи. А Колька и Сашка рядом – с Михейкиным! Наготове держат шнур и дустовые шашки. Им с Харитоном и Михейкиным ничуть не страшно, а даже... весело!
Все это и Колька увидел, да так ярко, будто и он уже стал Сашкой-мечтателем. Наверное, это у него оттого, что он привык мечтать вместе с другом. И потому, боясь, как бы Сашка не вступил в беседу, Колька взял его за локоть, приводя в чувство, сжал.
Сашка пришел в себя... оглянулся.
Рука у Харитона сегодня болела не так, как вчера, щеки румянились, кучерявый чуб выбивался облачком из-под донской казачьей фуражки.
– А що? – вскинулся Харитон. – Не устроили б, чи що?
– Ты руку вон залечивай... казащок донской, – передразнил добродушно его произношение Василий Павлович. – "Пощем, казащек, лущок? Три копеещки пущок!" Это вам не забава и никаких катавасий не нужно. Военная хитрость нужна, ясно? Время выиграть и себя сохранить!
– Та не нужно, Василь, ничего, – сказал Гаврила Охримович. – Мы уж тут как-нибудь сами, без вас обойдемся.
– Смотри, Гаврила, – помрачнел Василий Павлович. – Я хотел как лучше.
– А лучше будет, если ничего не будет. Главное – нам с тобой людей своих сохранить.
Да, все оказывалось не так-то просто. Мог бы помочь Михейкин Гавриле Охримовичу и – нельзя!
– У тебя хоть на всякий случай есть, – Василий Павлович выставил дулом указательный палец, – оборониться чем?
– Имеется, – улыбнулся Гаврила Охримович. – Не беспокойся, Василь, – и, посерьезнев, спросил: – Ты как? Запом-нил дорогу... Вот так пойдете, – он показал глазами узкий проход по луговым кочкам между огородами и камышом, в котором терялась речка.
– Хутор объедете, три балки начнутся, так вы езжайте по средней. Она самая глубокая. В ней вас не будут искать, потому как она короткая и на ровное место выходит. А по сте-пу немного проедете, камыши опять начнутся, там брод будет, так вы прямо в плавни въезжайте и верст пятьдесят с гаком в камышах поховаетесь. А дальше – как вам судьба укажет.
– Спасибо, Гаврила. Век не забуду.
– Не за шо! – отмахнулся Гаврила Охримович. – Как в наших газетах пишется? Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Вот мы к соединяемся!.. Ну шо, давай, мабудь, прощаться?.. Нет-нет, только без обнимок, – остановил он Василия Павловича, который, расставляя руки, шагнул к нему с повлажневшими глазами. За нами с бугра, – Гаврила Охримович кивнул головой на косогор с хатами, сейчас в оба смотрят. Удачи тебе, Василь!
– Удачи и тебе, Гаврила! – грустно улыбнулся Василий Павлович. – Глядишь, еще свидимся?
– А как же! Не навсегда ж мы расстаемся, – и, вероятно, вспомнив вчерашний ночной разговор, Гаврила Охримович добавил; – Надо верить, шо мы в счастливой жизни встретимся!.. Ну, мне пора! Бывай здоров!
Придерживая шашку, чтобы она не била по ноге, председатель пружинистой походкой пошел прочь от своего друга. Он ?ыл спокоен, собран и уверен в собственных силах.
Василий Павлович, глядя ему вслед, сказал:
– Отважный мужик!..
А Колька вспомнил почему-то о казацком кладе, о сказочном орле, лысом кургане, где родные братья закололи друг друга вилами. Вот дураки! Гаврила Охримович и Василий Павлович, найдя клад, уселись бы около узлов и начали думать, как бы так разделить все золото между бедняками, чтобы все они стали счастливы. И не братья они, не родственники...
– А патрет я постараюсь тебе передать вскорости, слышишь? – сказал Василий Павлович в спину председателю и, повернувшись, спросил фотографа; – Так ведь, Исаак Моисеевич?
– Да, да! Конечно! – тотчас откликнулся старик из ар-бы. – Непременно доставим. Не извольте беспокоиться, Гаврила Охримович!
Председатель, обернувшись, улыбнулся, кивнул.
– А-а, это вы, хвантазеры! – заметил наконец Василий Павлович около себя мальчишек. – Прощайте и вы, хлопчики. И вам от красного воинства большое спасибо. Взяли б мы вас с собой, нам такие убежденные красноармейцы нужны. Но...– Василий Павлович поднял вверх палец. – Растите пока, договорились?
– А то! – сказал Гришка и шмыгнул носом от переполняющих его чувств, – это мы бы-ыстро!
– Вот и хорошо! – Василий Павлович потрепал его по вихрам. – Батю только слухай, понятно? Батя у тебя убежденный большевик, справедливый человек и товарищ хороший. Будь таким, как он, понял? А ты, я слышал, неслухмя-ный хлопчик, по чужим садам шастаешь.
– А они богатейские, вот я и шастаю, – ответил задиристо Гришка и, увидев подошедшего к Василию Павловичу трубача, добавил с язвительной улыбкой: – Я не мечтаю, как некоторые, о канхветах, которые в магазинах будут! А ужа сейчас своей семье пропитание добываю!
Трубач покраснел.
Прощаясь, Колька и Сашка всмотрелись в лицо трубача. Белобрысый паренек с облупившимся носом и выгоревшими бровями, смутившись под насмешливым взглядом Гришки, отвернулся. На шее у него чернела с голубиное яйцо родинка. Вот и примета, может, встретится он когда-нибудь мальчишкам в Красном городе-саде?
Василий Павлович рассмеялся.
– Ну коль так, то ладно, – произнес он и посмотрел на взгорье.
Солнце уже всходило над гребнем пологой кручи, пригревало.
Окраина затаилась, ждала. Решительный и страшный день для нее настал!
СКАЧКИ
На выгоне – толчея, базарный гул, всплески смеха, визга, криков, лошадиное ржание. Хороводили молодицы в цветастых блузках и юбках, мужчины в темных черкесках водили коней под седлами, шныряли вокруг хуторские мальчишки и девчонки.
Такое Колька часто видел на Дону, когда дует низовка, – вода прибывает до крайней береговой черты, волны под напором ветра вскидываются, толкутся на одном месте, пляшут.
Жизнь бурлила под тенью белолистных тополей, что шеренгой стояли, огораживая крайний двор.
Самое удобное место – под густой и развесистой шелковицей – занимали пожилые степенные мужики во главе с Мироном Матвеевичем.
Атаман сидел на бревне, распарившийся, красный, в черной черкеске, которая едва не лопалась на его животе. Бородатые казаки в нарядных черкесках, с длинными кинжалами у пояса – по обе стороны атамана.
А те, кто был победнее одет, стояли за их спинами, охватывая бородачей полукольцом и не заслоняя собою выгон. Ко всему, о чем говорили сидящие, они, вытягивая шеи и наклонившись, прислушивались... Если говорилось что-либо серьезное – лица у них суровели, смеялись на бревне – подхихикивали разом и они. Пристроились сбоку и мальчишки, прислушались...
– Да-а, вот раньше скачки были, так ото скачки! – важно говорил Мирон Матвеевич. – Мороженщиков даже из города привозили. А однажды и циркачи приехали, фокусы показывали, видмедя на цепу водили, во как!.. А базар какой, скоту сколько сгонялось?! Ярманка! Три дня гуляли.
Непонятно! Все вокруг сладко заулыбались, а почему? Подумаешь – мороженое, цирковое представление с медведями!..
– А теперь так, лишь бы очередь отбыть, – махнул рукой Мирон Матвеевич и насупился.
Заскучали и все вокруг, исподлобья смотрели на коновязь из жердей, куда уже вели лошадей.
– Дак все потому, Мирон Матвеевич, шо р-революция! – тоненько поддержал кто-то. – Закрутилось усе, не до мороженщиков.
– Ото ж и оно, – не повернувшись, сказал атаман. – Шо пораспускали мы их.
– Кого? Кого пораспускали. Мирон Матвеевич? – спросили вновь, и Колька увидел плюгавенького мужичонку в цветастой косоворотке, которая выглядывала в отвороте его выгоревшей и рваной черкески.
– Народ! Кого?! Пораспускали мы им вожжи, вот они и понесли. А держали б узду натянутой, то не було б этого. Поработал хорошо на хозяина – получай овса для поддержки сил, побайдыковал – арапника! Да так, шоб на задние ноги садился! Так и народ надо – год горби, шоб света не видел, а на праздник можно и пряник дать, пусть позабавится.
– Дак, не удержишь, Мирон Матвеевич! Ить народу вон сколько!..
– Кто это говорливый такой? – грозно произнес Мирон Матвеевич, медленно поворачивая кабанью шею. – Шкода, чи шо?
– Эге! Шкода, Шкода, Мирон Матвеевич! – подтвердили те, кто стоял, и вытолкнули на видное место мужичка в длинной, с чужого плеча, черкеске.
– Ха! – выдохнул атаман ему в лицо. – Ты гля, и наше теля туда! Уже и Шкода заговорил!.. Может, ты еще и агитировать меня начнешь, а? Шоб я тебе хозяйство свое отдал? Так ты ж тому, шо есть у тебя, ладу не можешь дать. Кто мне еще с прошлой осени два чувала гарновки должен, а?
– Отдам! Я как-никак, казак! – крутанул плечом Шкода самолюбиво. Черкеска съехала набок, обнажая косоворотку. – Своим хозяйством живу.
– Вошь у тебя на привязи, вот твое хозяйство! Под шелковицей засмеялись.
– А если красные придут, так и ту обчественной сделают.
– Га-га-га! – заржали мужики. – Вот так Мирон Матвеевич! Врезал!
– Впрягут в плуг, землю будут пахать. Много хлеба тебе наробят!
– Га-га-га! Гы-гы-гы! Ого-го-го!..
– Братцы! – заметался Шкода, но его отовсюду отталкивали. – Як же так, а?! – кричал он чуть не плача. – Братцы! Мы ж казаки усе, за що ж вы насмехаетесь надо мной, а? Я ж з вами! Я ж завсегда з вами!
– Да вы что?! – не вытерпев, крикнул Колька. – Взрослый, а не видите, что они против вас!..
В тени тотчас затихло: все уставились на мальчишек.
– Ты не верь им! Не верь! – поддержал друга Сашка, отступая на всякий случай от мужиков. – Не верь им, товарищ Шкода! Красные победят, ты на тракторе пахать будешь.
– Это Загоруйкин хлопец! Гаврилин! Ух я тебя, больше-витский выкормыш! Вскочил атаман и, видя, что ему не догнать мальчишек, затопав им вслед на месте толстыми ногами, закричал визгливо: -От оно, от! Дождались! Уже пацанва агитирует!
Мальчишки бросились вдоль тополей, найдя лазейку в за-боре, юркнули в нее, выглянули... За ними никто не бежал. Там, под шелковицей, кричали все разом и так махали рука-ми, словно дрались.
– От мы им дали, так дали! Будут теперь нас знать, богатеи чертовые! отдышавшись, сказал Гришка. – Молодцы хлопцы! Так им и надо.
Наблюдая за всем, что происходит на выгоне, присели около забора, дальше бежать они побоялись: в глубине двора белела хата с растворенными настежь окнами.
Солнце еще высоко не поднялось, а пекло уже нещадно. Воздух накалился, уплотнился – дышалось трудно.
– Дождь, мабудь, к вечеру соберется, – отирая пот со лба, сказал Гришка.
Тень от тополей укорачивалась – люди пятились вместе с ней, и вскоре возле деревьев сгрудились все.
Под шелковицей страсти улеглись. Мальчишки посидели-посидели, осмелев, выбрались со двора, прячась, пошли вдоль забора к шелковице, где, по словам Гришки, рос развесистый тополь, с которого им будет все видно.
Дерево оказалось и вправду хорошим. Взобравшись повыше, мальчишки уселись на его толстых и гладких ветвях. Сверху, как на ладони, видно и атамана с его свитой, и коновязь посредине круга, и финиш скачек напротив шелковицы.
Удобное место!
У коновязи лошадям было тесно. Их уже держали на поводе. Мужчины ходили между конями, хлопали их по крупам, ощупывали грудь, ноги, заглядывали в зубы и между собой разговаривали так громко, что голоса слышали даже мальчишки.
А внизу, под деревьями, – гул.
Чувствовался праздник, ожидание развлечения, зрелища. И одновременно напряженность!.. Тревога закрадывалась Кольке в сердце: уж больно как-то настороженно стояли товарищи Гаврилы Охримовича. И как мало ведь их!..
Все – не здесь, а там, на окраине хутора, помогают сейчас перебираться женщинам и детям в плавни.
Тронулся в путь, вероятно, со своими людьми и Василий Павлович...
Колька оглядел круг. Почти рядом с финишем путь перегораживали камышовые заборы, рвы, насыпи – препятствия. Огибая выгон, шла гладкая вытоптанная дорога. А после финиша наискось круг прорезали две дорожки, огороженные лозами. Лозу срубить должны те, кто победит на скачках.
– Хороший у твоего отца конь?-спросил Колька у Гришки. На выгон они так спешили, что не успели даже забежать в сарайчик позади хаты, где стоял конь Гаврилы Охримовича.
Гришка передернул плечами.
– Та ничего вроде... Дерноватый только малость. Его на хронте перепужали. Он ранетый был. От такая на груди рана! – Гришка соединил обе ладони вместе.-Та вон он, вон! – и принялся показывать на коновязь. – Черный! Его Депом зовут, нам его железнодорожники оставили. Видите? На худую собаку похожий, с которой на лису охотятся.
Колька и Сашка смотрели, смотрели, вспотели от усердия, но никакой лошади, похожей на гончую собаку, не увидели.
– С норовом у нас Депоша! – оживляясь, хвастался Гришка. – Я бате не говорил, но он меня три раза нес. Чуть не поубивались с ним вместе, правда! Как Депошу какой конь обгонит, так он прям себя забывает, самошечим становится. Пока не обгонит – никак ты его не удержишь. Самолюбивый он дуже! С карахтером! Норов у него такой. Я с ребятами купать его не езжу. Потому как боюсь – запалится конь по своей дурости.
Колька уже все обдумал. Как они с Сашкой и предполагали, у забора под тополями стояли лошади тех казаков, кто не участвовал в скачках. Кони лениво отмахивались хвостами от оводов, перебирали ногами и... вроде бы были смирными... Главное – успеть добежать до них, отвязать и вскочить в седла.
– Жди моего сигнала, – шепнул Колька Сашке, чтобы не услышал Гришка. – Как скажу – мигом вниз и – к лошадям, понял?
Уши у Сашки побледнели. Вид у него был... совсем не геройский, синяк в полщеки, веснушки, рыжие вихры торчали во все стороны.
– Жаль, что Михейкин не с нами, – разжались наконец у него губы. – Если б он...
– Если б да кабы, – передразнил его Колька, – то во рту выросли б грибы!.. Ты вроде Харитона, с катавасиями в голове. Слышал же, что Гаврила Охримович сказал? Ты вот лучше выполняй, что тебе говорят. Как скомандую – сразу вниз, понял?
Сашка кивнул, от решимости закусил губу. Колька в нем не сомневался. Уж что-что, а друга его трусом назвать нельзя.
– Шашки с дустом бросать буду я.
– Ага, – согласился Сашка. – Ты только не спеши. Внизу и около коновязи закричали:
– Павло! Павло! Сотник едет!
На выгон из улицы вынесло всадника на черном коне в белых чулках. Конь шел боком, рысью, приплясывая: его сдерживали. Ворон выгибал дугой шею, оборачиваясь к всаднику, пытался схватить зубами его за колено.
На сотнике белоснежная черкеска с красными атласными отворотами на рукавах, папаха из седого каракуля, желтым блеском сияют погоны, головки газырей на груди, кинжал, ножны шашки сбоку.
– Вот это казак!
– Картина!
– Прям загляденье, ей пра!
Выехав на выгон, Павло отпустил повод – конь сорвался в галоп. Перед коновязью всадник вздернул его на дыбы, и Ворон, поджав передние ноги, встал свечой, заплясал на задних ногах, заржал.
– Здоровеньки булы, братцы-казаки! – по-военному рявкнул Павло, вскидывая над головой руку с короткой плетью.
Братцы-казаки у коновязи нестройным хором ответили, а под тополями загалдели все враз.
– Что братцы?! – закричал вновь Павло, перекрывая шум.– Начнем, а? Раструсим жирок?!
У коновязи лишь этого и ждали. Вскочив в седла, все поскакали к шелковице, останавливались там перед чертой на земле.
Хуторские ребятишки брызнули от коновязи к тополям. Ломая ветки, полезли на деревья.
Когда всадники собрались у черты, под шелковицей сухо щелкнул выстрел, и конная лавина сорвалась с места.
Иноходец сотника тотчас же вырвался вперед, легко перемахнул через первый забор из камыша, через другой, третий. Невесомо и легко перепрыгнул рвы, насыпи... А те, кто шел за ним, табуном навалились на забор, все смешалось, только пыль поднялась столбом. Раздались крики, визг лошадей.
Когда немного рассеялось, то видно стало, что забор упал. На земле бились кони. Запутавшись в стременах, барахтались казаки. Несколько лошадей, распустив по ветру хвосты и гривы, носились по полю, а вслед за ними незадачливые всадники.
– На видмедя сидайте, хуторяне! – закричали под деревьями.
– На верблюда! Ха-ха-ха!
– Не казаки!.. Бабы!
– Ба-бы!
А пыльный клубок коней и всадников катился по кругу дальше. Препятствия остались уже позади. Выгибаясь дугой на повороте, клубок распутывался, кони растягивались по дороге друг за другом, цепочкой. Среди черкесок разглядел Колька и выгоревшую гимнастерку Гаврилы Охримовича. Он скакал где-то посредине.
Вытянув вперед узкую голову на тонкой шее, поджарый Депоша шел наметом, весь как бы растянувшись над землей струной. Издали он и вправду был похож на гончую.
На прямой цепочка всадников начала сокращаться. Позади Ворона кони вновь сбились в кучу.
– Да-а-ва-ай! Давай!
– Жми, казаки! Жми! – закричали под тополями и прихлынули к дороге.
Гимнастерка Гаврилы Охримовича мелькала где-то впереди. Но вот она начала медленно вырываться даже из первых. Гришка замер рядом с Колькой. И когда на повороте Депоша обошел всех, будто вцепился зубами в расстелившийся по ветру хвост Ворона, Гришка отпустил ствол тополя, за который держался, замолотил что есть силы кулаками по Колькиной спине.
– Депоша! Налягай, Депоша! Батя, давай, давай, родненький! – заорал он и принялся подпрыгивать на ветке, будто это как-то могло помочь его отцу.
Колька, боясь оторвать глаза от поединка всадников, вцепился мертвой хваткой в толстый сук, чтобы не свалиться вместе с Гришкой с дерева.
Внизу ошалели. Свист! Топот! Крики! Те, кто стояли позади, наседали на передних. Чтобы не попасть под лошадей, передние пятились, сдерживая напор.
– Гаври-ила! Гаври-ила! – разрывался выгон.
– Давай! Жми, большевичек!
– Так им, так!
– А-а!!.. Ар-ря! Ар-ря! – будто собак науськивали казаки. Гул копыт приближался.
Вот два всадника выскочили уже на прямую" которая вела к шелковице.
Павло и Гаврила Охримович, согнувшись над гривами коней, будто слились с ними. Лица у ведущих всадников были смертельно-бледными.
А за ними неслась лавина. Надвигалась она с гиком, свистом. Рты всадников были искажены криком. Клочьями срывалась с лошадей пена, из раздувшихся ноздрей с храпом вырывался воздух, голова, шея, грудь мокрые от пота, мускулы, перекатываясь, отсвечивали маслянистым блеском.








