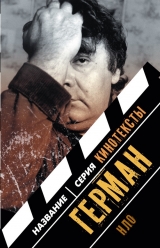
Текст книги "Герман. Интервью. Эссе. Сценарий"
Автор книги: Антон Долин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Еще один мой подвиг в качестве дежурного режиссера – крик хорька. В один прекрасный день репетировали «Не склонившие головы», где у Луспекаева есть реплика: «Это хорек, его схватила сова». Товстоногов спрашивает: «Леша, вы можете достать звук хорька, которого схватила сова?» Все застыли. Это же просто гильотина! Как сделать, чтобы хорек взвизгнул? Как его напугать? Пришел в зоопарк – оттуда меня с проклятиями прогнали… А завтра репетиция. Иду по театру, смотрю, Лебедев ходит. Я быстро побежал к звукооператорам, говорю – здесь ставьте оборудование. А потом иду к Лебедеву: «Евгений Алексеевич, у меня к вам предложение. Я хочу вас угостить коньяком». Он говорит: «А ты что такой добрый?» Я отвечаю: «Я – почти что студент, вы – народный артист, я вас уважаю. Почему бы мне вас не угостить? Будет противоестественно, если вы меня угостите коньяком, а если я вас – ничего такого».
Пошли в ресторан, налили, выпили, заели лимончиком. «Что, напоить меня хочешь?» – «Нет, просто выразить уважение!» Выпили еще, он захорошел и говорит: «А теперь скажи, что тебе надо». Я говорю: «Мне надо, чтобы вы прокричали как хорек, которого схватила сова. Но это должны знать только вы, я и звукооператор, который это будет записывать». Он спрашивает: «А как хорек кричит?» Я говорю: «Если б я знал!» «Ну, пойдем». Он пошел, прокричал несколько криков ведьмы – потише, погромче. На следующий день – репетиция. Доходит дело до хорька. Товстоногов спрашивает: «Ну что, есть что-нибудь? Это не подделка?» Я говорю: «Обижаете!» «Давайте слушать». Слушаем один вопль за другим. «Пожалуй, третий! Вот почему я работаю с молодыми!»
Прошло много лет. Спектакль шел. Я ушел из театра. Умер Лебедев. Умер Товстоногов. Умер Копелян. И никто не узнал, что это кричал Лебедев! Он никому не проговорился!
А свои спектакли вы там ставили? Или смоленским опытом все и ограничилось?
Я в БДТ ставил маленькие спектакли, выездные. Я даже однажды сказал Товстоногову: «Как-то получается, Георгий Александрович, что я режиссер по сельскому хозяйству, а вы – по промышленности». Спектакли, которые я ставил, ездили по провинции. Мы их играли в маленьких городах и деревнях. Для этих постановок мне давали народных артистов СССР, давали всех лучших: у меня играли Никритина, Кибардина, Аханов. Я сделал так два спектакля. «Кремлевские куранты» – это была совсем ерунда, а в «Фараонах» я довольно много придумал. Это был сельскохозяйственный спектакль, как в деревне всех мужиков поставили на место баб, а баб – на место мужиков. У меня на заборе сидели петухи – куклы. Но за забором сидел кукловод, и в какой-то неожиданный момент птицы начинали двигаться и петь. Это было настолько смешно, что Георгий Александрович поставил стул к сцене спиной.
Публика помирала от смеха. Меня хвалили, спектакль довольно много гоняли, а потом отправили на периферию. Помню, у меня там играл артист Чайников. Он выскочил на первый план в начале спектакля – петь; это было музыкальное представление. Он открыл рот, и у него закрылись зубы. Он ничего не может сделать, и с ужасом смотрит на Товстоногова. Открытый рот и закрытые зубы – Кукрыниксы какие-то! У него были две вставные челюсти, и от напряжения они одновременно выскочили. Я его схватил за руку и отвел за кулисы.
Если вы были в фаворе у Товстоногова, что заставило вас покинуть театр? Или вы попали в немилость?
Наоборот. В театре был гардероб. Все знали, где вешает пальто Товстоногов, где Полицеймако, где Лебедев, где Копелян. Изменить порядок было невозможно. Никто не говорил об этом, но знали все. Когда Товстоногов меня за что-то очень сильно расхвалил, я специально спустился вниз, снял свое пальто и перевесил его на четыре деления ближе к пальто Товстоногова. И гардеробщица ничего не сказала. Наверное, она понимала, что просто так я такого не сделаю.
Под конец моего пребывания в БДТ Товстоногов дважды за год прибавил мне зарплату – дело небывалое. А однажды сказал: «Леша, мне сказали, что вы очень устаете – вот вам ключ от моего кабинета, вы можете там отдыхать в мое отсутствие». Я увидел вытаращенные глаза других режиссеров и понял, что мне из театра надо мотать. Я понимал, что я гибну; начну его угадывать и погибну, как почти все его ученики. Все, кроме Генриетты Яновской и Камы Гинкаса.
Что стало непосредственной причиной вашего ухода?
Козинцев сказал, что он объявляет набор на высшие режиссерские курсы. Я не мог пойти туда и не поступить – ведь я был режиссером прославленного театра! Папа договорился с Козинцевым, и я поехал к нему на дачу сдавать экзамен. Лично. Я Козинцеву не понравился. Теперь понимаю, почему. Мне не нравился фильм Феллини «8 1/2», я видел в нем какое-то кокетство. Но в остальном вроде подошел. Теперь-то мне нравится вообще весь Феллини, а некоторые картины, как «Рим», «Амаркорд» или «Белый шейх», нравятся сильнее всего. Когда я посмотрел «Рим», то весь развалился – думал, что надо уходить из кино. Забавно, что много лет спустя в огромном ресторане в Каннах во время фестиваля меня провозгласили последователем Феллини.
В общем, Козинцев меня взял, но тут не подошло финансирование. Все перенеслось на год. Мы договорились с директором «Ленфильма» Киселевым, что это будет наша военная тайна – чтобы Товстоногов не узнал. Но когда я спустился в вестибюль, там висел список людей, допущенных Козинцевым до испытаний. Первая фамилия была моя, и это читала Дина Шварц. Разговаривать было не о чем.
На следующий день я пришел в театр, и директор мне сказал: «Несите распределение ролей». Речь шла о спектакле, который я совершенно не хотел ставить. В БДТ была тогда актерская студия, которую я вел. Я был, может быть, человеком неумелым, но искренне пытался объяснить им, как надо понимать искусство и вести себя в искусстве. Одновременно часть театра приглашала тех же девиц, которые ходили ко мне в студию, к себе домой… Они там чем-то таким занимались и смеялись надо мной. Мне поручили ставить спектакль именно в этой студии. Вот тогда вместо распределения ролей я и принес заявление об уходе.
Разве было невозможно оставить путь к отступлению? Или вам этого уже не хотелось?
Совмещать театр и кино было невозможно. Я менял профессию. Уходил из театра навсегда. Вдруг меня стало страшно бесить то, что люди по сцене – по доскам! – ходят в валенках. Ну, сделайте что-нибудь. Снег, грязь, но не в валенках по доскам! А еще была «Поднятая целина», и я сказал: «Георгий Александрович, что мы будем из этих стартовых пукалок стрелять? Давайте я настоящий пулемет принесу, и мы как вжарим очередь – прямо в зал». «Тащите!» Я приношу пулемет с «Ленфильма». Актер нажимает на гашетку… Катастрофа! Дым, грохот, ужас. Я вижу только хромую критикессу Беньяш, которая ложится на пол, а Товстоногов бежит к задним дверям и кричит: «Вы идиот, Леша! При всех вам говорю. Уведите немедленно этих людей и унесите этот страшный пулемет». Я не больно обиделся, но поскольку уже собирался уходить, то решил – напрасно он меня назвал идиотом. Сказать ему: «Сейчас дам по очкам!» или не говорить? Решил не говорить. А хорошая была идея – из пулемета стрелять в зал. Еще Мейерхольд ее использовал. Но Товстоногов отказался и чуть меня не проклял…
Он легко вас отпустил?
Полтора часа уговаривал не уходить. Говорил, что совершил ошибку, что я еще очень молод, что он непременно мне даст самостоятельный спектакль, что я делаю глупость. Я ответил: «Нет, я не останусь, потому что я вас угадываю; угадываю, чего вы хотите. И со спектаклем вы потянете, чтобы я не воображал. Я вас лучше буду любить на стороне». Тогда он позвонил Володе Венгерову, к которому я уходил вторым режиссером, и сказал: «От меня сейчас уходит Леша Герман. Это очень талантливый парень. Постарайтесь его не погубить. Берегите его». Потом Товстоногов перестал со мной здороваться. Года на два. А снова начал только после «Проверки на дорогах».
Кому и чем я обязан? Музилю – тем, что я, как мне кажется, приличный человек. Товстоногову – тем, что я, как мне кажется, человек искусства. Я Товстоногова очень любил уже после того, как мы перестали вместе работать. А сейчас мне его так жалко! Он мечтал умереть за рулем – и умер за рулем. Поехал из театра, сказав, что не может больше. Обогнул Марсово поле, ему стало плохо, он остановился. А за ним послали машину на всякий случай. Они его вытащили из-за руля. Он лежал маленький, с огромным носом, под серым ленинградским дождливым небом и памятником идиота с мечом, изображающего Суворова… Таких любовей, как к Товстоногову, у меня в жизни было мало. Безумно его жалко. Сегодня, когда я подхожу к БДТ или вхожу туда, у меня сердце сжимается.
Начало вашей работы с Владимиром Венгеровым тоже было связано с конфликтной ситуацией…
Незадолго до нашей встречи Володя Венгеров был в Венеции, и это был его звездный час. А после этого запустился с «Рабочим поселком» и набрал туда весь курс Козинцева. Меня, поскольку я уже был режиссером, он сделал вторым режиссером. Тогда и началась страшная война, которую Рикки-Тикки вел в ванной комнате недалеко от уборной. Войну вел я. Остальные не хотели делать ни фига. Я ношу склянки, банки, калоши – а они сидят и курят сигары. Вот что меня взбесило. Хоть бы не сигары! Первым мне попался под руку Циммерман – огромный немец. Я на листе выписал всех детей, которых он взял для съемок в фильме, и выяснилось, что все три порции детей он брал в каком-то дворце культуры после спектакля «Золотой ключик». Я пришел к нему и сказал: «Пиши сам заявление, или я передам эту бумагу в отдел кадров». Он не написал. Я передал все в отдел кадров. Меня тут же объявили стукачом.
Я сказал Венгерову: «Вы пригласили человека, который ничего не понимает в кино». Полетел талантливый поэт Циммерман, потом Герман Плисецкий, потом – племянник начальника отдела кадров, который не пришел на смену: сказал, что болен, а сам пошел на концерт Эдиты Пьехи. Я писал шесть заявлений об уходе: не хотел работать с этими людьми. Надо было или убирать меня, или позволить мне создать работоспособную группу. Что я, в конечном счете, и сделал.
Вот каким был первый съемочный день. Подошел ко мне замдиректора Лавров и сказал: «Сегодня лошадей не будет, у них прививка от сапа. Поэтому поставим телеги без лошадей, будем репетировать, а кучерами поставим вот этих товарищей, это очень крупные отставные военные. Они нам помогут». Я завизжал: «Пошел вон отсюда! Где лошади, где конюшни?» Я сам поехал в конюшни, и, конечно, выяснилось, что никакого сапа и никаких прививок не было. Так прошел первый день – очень для меня выигрышный: ведь я сам взял машину, сам поехал по конюшням и сам всего добился. А потом сам вычеркнул всех полковников, которых мне предлагали на роли кучеров. Они не подходили мне по типажу.
А с самим Венгеровым отношения были хорошими?
Не сразу. В самом начале Володя попросил меня придумать много маленьких сценочек у рабочего поселка. Я работал-работал, придумал их, нашел типажи, все сделал – и показал. Штук шесть их было. Он сказал оператору Маранджяну: «Замечательно. Генрих, давай их отдельно снимем!» Сняли. «А теперь, Леша, давайте ставьте общий план». Я говорю: «Стоп, а у меня ничего нет». Он: «Почему нет? Вы же режиссер – должны подготовиться!» Я кричу: «Да ведь я подготовил общий план из целых шести сцен, их подготовил – а вы их сняли, и откуда мне теперь взять общий план? У меня осталась неиспользованной только экскурсия негров на завод. Не понимаю, почему вы ее не сняли, – она была самая смешная…» Таков был мой первый скандал с Венгеровым. Он зафырчал, я зафырчал. Потом помирились.
После этого у нас началась близкая мужская дружба. Он мне звонил, допустим, в два часа ночи и говорил: «Леша, я абсолютно не понимаю, что снимать дальше. У меня была женщина, и я ничего не понимаю – я в ужасе». Я пилил к нему через весь город, а у него была уже другая женщина. Он говорил: «Давайте утром», а утром его было не разбудить. Или звонил мне и говорил: «Леша, я ослеп!» Я отвечал: «Володя, снимите черные очки!»… Тем не менее я старался и делал все, что мог. Готовил второй план. В результате я забрал в руки ту власть, которая мне требовалась, чтобы дать Венгерову нормально работать. Чтобы площадка к его приезду всегда была готова.
Я ничего не делал за Венгерова, но был ему мощным подспорьем. А он меня от всех оберегал – хотя я и сам был волк после работы с Товстоноговым. Он оказался человеком благородным: когда фильм вышел, то начал направо и налево рассказывать по телевидению и радио, что у него был талантливый второй режиссер, которому непременно надо дать снимать собственное кино. Меня в тот момент очень настойчиво приглашали вторым режиссером Козинцев и Хейфиц, но я сказал: «Не буду». Второй режиссер – работа, не требующая внутреннего напряжения. Она не требует ни мучений, ни искусства. Я к финалу у Володи совсем расслабился. Да и баб было много, я все время с триппером ходил.
Венгеров был центром компании, в которую входили люди-легенды. Вы тоже были туда вхожи?
Да, в нашу компанию на «Ленфильме» входили кроме самого Венгерова Гришка Аронов, Евгений Шварц, Виктор Требугович, моряк Володя Муравич и я. Приезжал туда и Окуджава, которого они все очень любили. На том этапе Венгеров казался мне прекрасным. Например, из-за первой серии «Балтийского неба», которую я ценю очень высоко – в отличие от второй. Каждый раз, когда я ее смотрю, я плачу. Кроме того, Венгеров был настоящим ценителем поэзии, знал много стихов – и я любил стихи. Мне было, конечно, смешно наблюдать за тем, каким он был супербабником, до неприличия. Была у него жена Галя – славная, добрая, прекрасная женщина… В нашей компании все пытались отобрать друг у друга какую-то женщину. Все, кроме меня. Мне было все равно.
Это тоже было время счастья. Все время были розыгрыши. Венгеров в три часа ночи открывает дверь и утыкается в огромную статую Сталина с поднятой рукой – поднять ее в одиночку нельзя, килограмм триста. И вниз по лестнице, жутко хихикая, убегают оператор Месхиев, некто Ханин и Аронов. Они Венгерову статую привезли на грузовике. Он кричит: «Бляди, суки, что мне делать?» «Не знаем, не знаем, наше дело возить, мало кто отказывается. Занеси в комнату – может, тебе понравится». Или еще случай: Венгеров приезжает в Репино писать режиссерскую разработку и вдруг слышит в ванной странные звуки. Он туда заходит, а в ванне в воде лежит… голая купальщица. Статуя, которую поднять может только подъемный кран. Он в ужасе зовет кого-то – кажется, мясника, – и они вытаскивают эту купальщицу, выбрасывают в окно головой вниз.
Вы сохранили с Венгеровым дружеские отношения и после «Рабочего поселка»?
Венгеров ко мне относился сначала настороженно, потом – замечательно, но после этого отношения разладились. Это было связано с его картиной «Живой труп». Там согласился сниматься Смоктуновский, но тем фактом, что ему дали снимать этот фильм, Венгеров был обязан другому актеру – Леше Баталову. Тот входил в коллегию Госкино. Я понимал, что для фильма участие Баталова будет катастрофой: у героя «Живого трупа» Феди Протасова – огромная, тяжелая фигура и душа, а Баталов – человек милый, застенчивый, хилый интеллигент из нашей среды. Прекрасный, тонкий артист, но другого амплуа! Не может он играть такую роль. Я встал перед Венгеровым на колени: только не берите Баталова! Есть еще артисты, в конце концов, а со Смоктуновским это будет крупная картина. На крупного артиста всегда интересно смотреть, а на маленького – всегда неинтересно. Баталов – типаж из жизни, пусть он снимается в «Деле Румянцева». Но «Живой труп» – история крупного человека и некрупных людей вокруг. Венгеров, как человек благородный (более благородный, чем я), поставил на Баталова. Получилась история маленького человека и страдающих людей вокруг… После этого кончилась наша дружба. Навсегда.
Уже через много лет у меня сложилась ужасная ситуация. Я взял очень талантливого оператора, но с ним не хотел работать ни один директор. Я оказался без директора, под угрозой закрытия картины. С кем посоветоваться? Я поехал к Венгерову. Он вышел и сказал мне: «Леша, у меня женщина! Почему я должен заниматься этой фигней? Разберетесь как-нибудь». Я спросил: «А когда вы меня в два часа ночи вызывали, спрашивая, как снимать, или когда мы до восьми утра спорили о Смоктуновском, – просто женщины тогда рядом не было? Или вы считали, что я ваш подчиненный и слуга?» И – разошлись, как отрезало.
А из фильмов Венгерова мне так и нравится только первая серия «Балтийского неба» – ни к «Рабочему поселку», над которым мы работали вместе, ни к последующим его картинам я не испытываю никаких чувств. Абсолютно. По-моему, и Олег Борисов – блестящий артист – там играет как-то не так. Я вкалывал на «Рабочем поселке», но сам ход съемки и то, как они работали, мне не нравились. Мне казалось, что так не надо ни играть, ни озвучивать, ни массовку гонять. К тому же, как я сейчас считаю, именно Венгеров первым заявил, что надо зарабатывать деньги; и это очень-очень важно – зарабатывать деньги; но там, где это начинается, другие вещи иногда заканчиваются. Хотя человек он был очень достойный. Достойно жил, с достоинством страдал, достойно умер.
Уже после этого началась история с «Седьмым спустником» – первым вашим режиссерским опытом в кино. Полноценным, но не самостоятельным. Как вышло, что вы начали работу над ним вместе с Григорием Ароновым?
Я собирался снимать «Проверку на дорогах», но ее сценарий должен был писать папа – а он писать не мог, он болел. Поэтому Фрижа Гукасян предложила мне поставить «Седьмой спутник» по Борису Лавреневу, дала замечательный сценарий Клепикова и Дубровского. Я потом много раз читал в интервью Геннадия Полоки, что «Седьмой спутник» я у него забрал, потому что был сыном Юрия Германа, но это неправда. Да и папы к тому времени, когда я запускался, уже не было в живых.
Эта картина, которую я не люблю и не считаю своей, все-таки – о заложничестве, о неправомочных расстрелах заложников. Наконец, там были приведены строки, строжайшим образом вымаранные отовсюду: не «око за око», а «тысячу глаз за один». Тысяча жизней буржуазии за жизнь вождя, «да здравствует красный террор».
С Ароновым нас соединили насильно. Ведь просто так дать картину мне было трудно, а дать нам двоим ничего не стоило. И вот мы, два совершенно чужих человека, были соединены – чтобы дать картину мне. Я на всю жизнь благодарен Грише за то, что он на это пошел. Хотя дальше наши отношения сложились трудно…

С бабушкой Надеждой Игнатьевой и писателем Александром Кроном
(справа). Празднование Нового 1957 года

С отцом Юрием Германом (справа) и двоюродным дядей,
американским бизнесменом Михаилом Клюге. Начало 1960-х

На съемках «Седьмого спутника»
Почему у вас не получилось продуктивного тандема?
Я не мог работать с Гришей. Он был достойным человеком, много пережившим. В молодости он поехал в Саратов по распределению, и все сняли какие-то сюжеты для «Новостей дня», – а он сделал сюжет о том, как один завод с другим выходит на Волгу на кулаках драться. И это пустили в «Новости дня»! Хотели, что ли, Сталина позабавить… Тогда секретарь обкома сказал: «Пока я жив, этот еврей по земле ходить не будет. Я его посажу!» Такое у него было начало карьеры. Дальше он работал вторым режиссером у Венгерова, снял какую-то картину…
Существует английская поговорка: «Привидение не увидишь вдвоем». Кино тоже нельзя увидеть вдвоем. Есть исключения, подтверждающие правило: молодые Алов и Наумов, братья Коэны. Но мы с Григорием Ароновым не были ни братьями, ни парой. Был маленький болезненный Гриша, который мыслил совершенно другими категориями, чем я. Он мыслил категориями 1950-х годов. А я тогда, наверное, вообще ничем не мыслил, доверял интуиции. Я говорил: «Давай так!», а он отвечал: «Так нельзя». Он очень хотел со мной работать, я с ним не мог. Это превратилось в многочасовые рыдания по телефону – я даже не понимаю, зачем я ему был нужен. Просто он был болен, и ему казалось, что я крепкий и сильный. А я таким не был.
На каком-то этапе я понял, что если мы с Гришей войдем в клинч и по поводу каждого кадра у нас будут крики, переходящие в плач (он много плакал), то мы не снимем ничего. Поэтому я должен через себя переступить и стараться делать так, как кажется правильным Грише. А в рамках его рисунка стараться обойтись как можно лучше с тем, что у меня есть. От персонажей до декораций. Улучшать то, что есть, а не придумывать свое. Я ему придумывал двадцать вариантов того, как живет коммунальная квартира, но ему они все не нравились. Круговые панорамы тоже придумал я: мне удалось убедить Гришу начинать фильм именно так. И лица: каждого я одевал, брил, каждому придумывал имя. Конечно, я работал. Что мог, я туда вложил. Но это – не моя картина. Все можно было сделать лучше, тоньше, интереснее.
Например? Вы помните, какие ваши идеи были отвергнуты и почему?
Например, в повести у коменданта Кухтина, расстрельщика и вроде пламенного коммунара, была мечта – жениться на графине. Без этого не существовал персонаж! Это было в сценарии, но этого не осталось в фильме. Когда я узнал об этом, мне сразу стало все равно – ехать или не ехать на премьеру.
Кроме того, я договорился с артистом Ильинским на главную роль, а Грише казалось, что лучше – Андрей Попов. И худсовету так показалось. Попов в режиссуре нас двоих был запрограммирован: с бородой, длинный, без плеч, такой вот господин… Он хороший был человек и артист очень неплохой. Какой-то ласковый и нежный зверь. А Ильинский был неприятный, злой – и гениальный. С другой стороны, с Ильинским нас, может быть, раньше бы на полку положили.
На «Седьмом спутнике» я собой брезговал. Я понимал, что должен отвести Гришу Аронова в сортир и сказать ему: «Мне совершенно наплевать на то, что ты – напуганный жизнью еврей. Мне наплевать на то, что секретарь саратовского обкома обещал тебя посадить. Мне наплевать, что у тебя двое детей. Картину дали не тебе, а мне, а тебя присоединили. Какого хрена ты бздишь на каждом шагу? Откажись! Ты губишь картину». Я этого не сделал, поэтому претензий к Грише иметь не могу. У меня никогда не было двоих детей, и я действительно не знал, каково это – купить две пары детских ботинок. Я его любил и жалел; с этим в искусстве надо поосторожнее.
Что вы помните о съемках «Седьмого спутника»? Ведь вы делали многое не в павильонах, а на натуре.
Была прекрасная деревня, километрах в двадцати пяти от Ленинграда – та, где мы снимали расстрел главного героя. Кто-то зашел в домик, вышел и говорит: «Там труп!» Мы – туда, а там бабушка в каких-то кружевах лежит в кроватке. Была корова, но ее явно увели. Мы – к председателю, а он говорит: «Ага, Пелагеева – знаю. А что прибежали-то? Она с февраля лежит». Я говорю: «Вы соображаете, что говорите?» Он отвечает: «А что? У меня одна рука. Ты хочешь, чтобы я могилу ей сейчас копал? Вот оттает земля, и похороним. Хотите – копайте сами. Я вам место покажу, заплачу три рубля». Мы и выкопали ей яму. Оказалось, это все – в системе русских деревень: выкопать могилу зимой после мороза просто невозможно! А в морозы старики всегда замерзают на печи. Так замерзла и актриса, сыгравшая мать Шукшина в картине «Калина красная». Дров не было, и никто не принес.
Еще странное воспоминание – почему-то приятное; может, из-за моего отношения к Грише Аронову, на которого я до сих пор обижен, но которому все-таки благодарен. Мы приехали в лес, все было в тумане. Приехали с нами две лошади: наша, на которой артисты ездят, и цирковая – белая, на которой только циркачи. Гриша говорит: «Посадите меня на цирковую лошадь, никогда не сидел!» Его сажают. Лошадь перебирает ногами – и исчезает в тумане. Оттуда слышны только крики: «Эй! Снимите меня, бляди! Я погиб! Снимите меня!..» Тише и тише. Все замолкают и снимают шапки. Ничего страшнее представить себе невозможно. На арабского белого скакуна посадить несчастного маленького еврея и отправить в русский заболоченный и затуманенный лес – это настоящая трагедия! Вдруг сзади цок-цок-цок – и приходит этот скакун, на боку в обмороке висит Гриша, вцепившись в гриву двумя руками. По-моему, даже уздечки не было.
Довольно жестокая история, хоть и со счастливым концом.
И не единственная. Едем мы как-то на съемки, а на дороге поворот, на котором стоит гаишник. Я ему говорю: «Слушай, за нами поедет точно такой же “газик”, с таким-то номером. Очень прошу, останови его и спроси: “Аронов Григорий здесь? Вылезай к такой-то матери!” Гаишник говорит: “А дальше что?” Я отвечаю: «Это розыгрыш! Получишь от меня пол-литра». Но ничего не случилось, машина проехала. Проходит дня три. И вдруг однажды исчезает Гришка – часа на три. Едем обратно и встречаем его на дороге: потного, ничего не понимающего. «Останавливает мою машину гаишник со страшной рожей и говорит: “Аронов Григорий здесь? Вылезай к такой-то матери!” Я вылез, он сказал машине, чтобы уезжала. А я остался и говорю: “Что я сделал-то?” Гаишник отвечает: “Узнаешь, узнаешь!”Так два часа я ходил за ним и ничего понять не мог».
Этот ваш фильм – довольно-таки правильный, с точки зрения цензуры, – не имел тех проблем, что последующие?
Имел, хоть и не такие серьезные. Сначала «Седьмой спутник» приняли в Ленинграде. После просмотра картины в обкоме встал ректор Института культуры и сказал первому секретарю обкома Толстикову: «Василий Сергеевич, я против. Неужели революция была такая жестокая, страшная, всеподавляющая?» Я встал и ответил ему: «Я потрясен, что люди, приходящие в обком, не читают Ленина!» И начал шпарить Ленина наизусть. А ведь мы с папой с Василием Сергеевичем дважды обедали в гостинице «Москва»; я не мог понять, что разговариваю с драконом. Одновременно на моем кармане висел директор «Ленфильма» Киселев, который шипел одно: «Быстро что-нибудь из Маяковского!» А Толстиков послушал и сказал: «Да, а Герман-то Ленина лучше знает, чем ты. Может, нам его назначить в Институт культуры? А ты иди домой, Ленина читай». Все поняли, что он держит мазу за меня, и мы поехали в Москву.
Вся Москва тогда жила тем, что Глеб Панфилов сделал замечательную картину «В огне брода нет», и никто не знал, что с ней делать, полезная она или вредная? Все-таки выпустили Панфилова, выпустили и нас. Поругали в газетах – так, незначительно. Потом, когда я познакомился со Светланой, то пришел к ней домой – и по первому каналу телевидения показывали «Седьмой спутник». Такое совпадение, как по заказу.
А много лет спустя был другой случай. Я уже очень модный, меня снимают с полок, дают Государственные премии, мне уже не нужен «Седьмой спутник», которым больше занимался Гриша Аронов… Так вот, устраивается телевизионный вечер. Зал забивается народом, режиссеры и артисты рассказывают о себе. Меня приглашают на телевидение и говорят: «Послушайте, а вы знаете, что у нас никогда не показывали “Седьмой спутник”? Мы подняли все документы!» Я говорю: «Как же не показывали! Я приходил к своей теперешней жене, и как раз показывали фильм – я тогда познакомился с ее родителями».
На следующий день, уже накануне показа, меня просят приехать. И редактор мне говорит: «Оказывается, ваш фильм был изъят». И показывает мне машинописное постановление об изъятии, на котором по кругу – примерно двадцать резолюций разноцветными фломастерами: «Жестокая революция», «Приведен декрет о красном терроре», «Фильм не может быть показан». И – окончательная резолюция: «Фильм изъять из оборота». Он был изъят по всей территории СССР! Даже когда вдова Попова хотела показать его на каком-то его юбилее, ей не дали копию, а дали только кусочек.
Я взял эту бумагу. Записывается программа, я рассказываю эту историю и показываю документ; его снимают крупным планом. Наутро мне звонят – кто-то из самых больших начальников. Говорит: «Эту штуку вчера показали справедливо – это безобразие! Мы можем ее оставить в передаче, но в этом случае будем вынуждены уволить редактора. Ведь она пошла в спецхран, взяла бумагу, которую не имела права брать, да еще предъявила ее публике». И я сказал: «Хрен с ней, с этой штучкой. Вырежьте, только редактора не увольняйте». Так и произошло.
После этого вы были уверены, что не хотите работать в соавторстве с кем бы то ни было?
Да, «Проверку на дорогах» я собирался снимать уже сам. Но все-таки попросил Гришу Аронова подстраховать на лонже. Он же меня обманул. Попросил сначала проработать с ним картину – просто за зарплату и, конечно, не ставя имя в титры, – так я сделал с ним отвратительный фильм «Зеленые цепочки». Я нашел ему детей для этого фильма, а Луспекаева уговорил сниматься. Потом меня держали только для того, чтобы Луспекаев не убил Гришу. Периодически раздавался звонок, и меня вызывали на студию: «Это уже непоправимо, поверьте – там такая ненависть!» Навстречу мне бежал Луспекаев и кричал: «Я его убью!», а Аронов кричал: «Я повешусь, я повешусь, он не учит текст, он делает огромные паузы», и потом заводил меня в декорации, на которых повсюду были реплики, поскольку Луспекаев плохо запоминал свои слова.
Я уговаривал Луспекаева: «Паша, ты, когда шел сюда, собирался снимать “Трон в крови”? Или “Гамлета”? Ты же не хотел снимать великую классику. Ты хотел заработать денег и по возможности не опозориться. Ты не опозоришься!» Тогда Паша заорал: «Леша, я Гоголя, блядь, играл своими словами, а он меня заставляет эту мудню учить!» Я говорю: «Паша, Гоголя не надо играть своими словами, он – великий русский писатель, а тут можешь играть своими словами, только пауз не делай». Я их мирил часа два и уезжал. За это получал зарплату. А когда дело дошло до «Проверки на дорогах», Гриша Аронов написал мне письмо, что помогать мне не будет, потому что нашел себе сценарий. Потом, правда, звонил и часами рыдал в трубку, что не может без меня работать.
В какой момент вы отчетливо почувствовали, что превращаетесь из молодого перспективного режиссера в автора, чьи фильмы будут запрещать? После «Седьмого спутника» вы уже были «чужаком» или нет?
Это случилось позже. После «Седьмого спутника» и перед «Проверкой на дорогах» меня звали в КПСС. Вызвал меня Александр Иванов – был такой режиссер. И еще двое там сидели. Спрашивают: «Почему бы вам не вступить в Партию?» Я говорю: «Получится, что я вступлю туда по блату! Мне надо сделать крупное художественное произведение, тогда и вступать». А Аронов все время открывает дверь и говорит: «Леша, не поддавайся!» Почему-то он решил, что меня вызвали, чтобы предложить снимать фильм по сценарию «Приключения капитана Врунгеля», а у него были на меня другие планы. Он говорил: «Леша, если ты согласишься, ты погиб». И так три раза. На третьем разе Иванов потянулся и сказал: «Интересно, почему Григорий Лазаревич Аронов так не хочет, чтобы ты стал коммунистом?» Я еще пару раз отказался, меня отпустили. Выхожу – а там в обмороке и таблетках валидола Аронов. Плачет: «Да хоть в эсеры иди! Они меня уволят! Они меня посадят!» Я специально вернулся и сказал: «Он хочет, чтобы я был коммунистом. Он не хотел, чтобы я снимал “Приключения капитана Врунгеля”!» Правда, потом я снял «Проверку на дорогах», и от меня по этой линии сразу отцепились.








