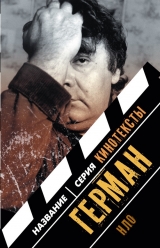
Текст книги "Герман. Интервью. Эссе. Сценарий"
Автор книги: Антон Долин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я не называл себя вором, но был с этим движением связан. Меня считали своим. Другую часть Невского занимали гопники – это было еще страшнее. На плечо они надевали петлю, в петле был топор-колун. И непременно белые шарфики. А оружием воров был скальпель. Гопников не уважали, но боялись, а воров боялись и уважали все кроме гопников. Среди них были и взрослые мужики. Очень много времени мы проводили в ресторанах.
Где доставались деньги? Юрка, кажется, воровал у бабушки. Помню, были Алик-писатель, Пушкин, Шатен, Колотушка. Они все блюли воровские традиции. Их было много – десятки людей! Они ходили в гости ко мне домой, пили чай с конфетами или бутербродами. Мой папа, человек умный, но наивный, говорил: «Какие прекрасные у тебя друзья! Какие прекрасные у них лица! Можешь мне только объяснить, зачем они носят сапоги всмятку?» А они носили так называемые «прохоря», это был признак вора. Кстати, они у нас ничего не украли. Ни одного предмета.
За время большого террора, ГУЛАГа, амнистии страна не сделала и полушага к порядку. Даже в Италии на какое-то время победили мафию, а у нас – ничего. Сейчас девочек называют развратными – а сколько было у нас школьниц-проституток! Очень было распространенное явление. Видел я и спекулятивный мир – как он жил, как он ел в ресторане «Универсаль» и гостинице «Европейская». Интересно было посмотреть на зрителей партера на представлениях американского мюзикла «Порги и Бесс»: одни спекулянты! Это ужасное расслоение было спланировано тогда, сейчас оно просто открылось. Официантка получала в месяц 27 рублей, а хороший материал на пальто стоил 570 рублей за метр. Было запланировано, что она будет воровать! Не знаю, сколько нужно времени, чтобы изменить это общество.
Помню, как много лет спустя был у меня случай с таким Тамерланом – большим боссом, директором станции по ремонту автомобилей. В один прекрасный день ко мне прибегает художник Марксэн Гаухман-Свердлов и рассказывает: «Я купил тут старую машину, пригнал к нему отремонтировать, а он говорит: я тебе починю, если Герман мне позвонит и за тебя попросит!» Я говорю – ошибка какая-то, я с ним еле знаком… Но позвонил. Спрашиваю: «А почему я должен за него просить?» Он отвечает: «Пять лет назад ты пригнал “Волгу” в ремонт, и ты меня назвал Тамерланчиком. Я тебе тогда сказал: “Ты меня так не называй, я тебе Тамерлан Васильевич”. Ты ответил: “А я тебе тогда – Алексей Юрьевич”. И выматерил меня, согнал свою машину с подъемника и уехал. Я тебя тогда зауважал! Ты был моим первым клиентом, который мне на хамство ответил хамством. Так что помогу тому, за кого ты попросишь». Хамство как было, так и осталось страшной силой.
Первые отношения с женщинами тоже пришлись у вас на школу?
Романы у меня пошли в старших классах. Когда мне было лет пятнадцать, я умудрился даже помирить одну часть Невского с другой! Гопников с ворами. Я закрутил роман с девочкой одного довольно серьезного воришки, и меня страшно избили. Тогда я пошел к знакомым гопникам, которые ко мне почему-то хорошо относились. В театр я их звал, то-сё. Они взяли колуны и пошли со мной. На второй день они воришек прижали. Я поднялся к этой Лерке. Воры прошли по лестнице, за ними прошли гопники. Что между ними было – не знаю, но они помирились в результате! На долгие годы. Помню только обидную фразу: «Для нас Герман – денежный мешок». Что не было правдой. Своих денег у меня тогда было мало, это они меня поили и кормили.
А со школьным начальством вы ладили?
Я понял к старшим классам, что пора начать хорошо учиться! Но меня за что-то возненавидела директорша школы. Не нравилось ей то, что я ношу папины пиджаки и ботинки. Для нее я был стилягой, и примириться со мной она не могла. Где-то в середине пятого класса она объявила мне войну. Тогда меня подняли и понесли дети. С пятого по десятый класс я был старостой класса! Почему они меня выбирали? Меня не любили, но почему-то выбирали… Директорша приходила к нам на собрания, говорила: «Не может быть все время один человек старостой!», но ничего сделать не могла. Трудно директорше было и с папой. Когда он пришел к ней выяснять отношения, она ему сказала: «Я училась в советском рабфаке!», на что он ответил: «А я – в Пажеском корпусе». Отношения не сложились. Она ничего не могла со мной сделать и за это ненавидела.
В один прекрасный день я понял, что по поведению у меня будет тройка. Что, во-первых, было очень нехорошо для поступления в высшее учебное заведение – я собирался в медицинский институт, а во-вторых, было абсолютно несправедливо. Ребята из десятых классов собрались на бардак. Бардак состоялся, но меня там не было! Я зашел туда с барышней, с которой уже жил половой жизнью, посмотрел и ушел. Помню только человека по фамилии Дрозд, у которого голова плавала в унитазе. Я поправил ему голову, чтобы он не утонул, и ушел.
Я сказал папе, что у меня будет собрание, что мне влепят тройку за то, в чем я не принимал участия. Папа сказал: «Мне это надоело, пойди сам в гороно». Я пошел. Пришел, рассказал все – меня перенаправляли из кабинета в кабинет, потому что недоброжелателей у директрисы оказалось много. Выяснилось, что я работаю в театре, что я стараюсь учиться, что я староста класса, что я читал все – в тот момент я как раз дочитывал «Трех товарищей».
Потом у нас в школе собирается весь физкультурный зал, садится школьная комиссия, и вдруг открывается дверь… Входят четыре представителя гороно. «Не возражаете, мы посидим?» Полный шок. Ну, делать нечего, начали разбираться. «Кто бы из нарушителей хотел высказаться?» Я говорю: «Я». Директриса спрашивает вдруг: «Скажите, Герман, вы в театре были когда-нибудь?» Я отвечаю: «Был. Я вообще-то в Большом драматическом театре играю роли в массовке и еще подрабатываю шумовиком». «А читаете что?»… И тут вдруг вскакивает секретарь комсомольской организации Эдик Резник – организатор всего бардака, который меня обожал, и говорит: «Германа не было у нас на бардаке! Он зашел с девушкой и ушел, сказал, что мы дураки!» Так я получил пятерку и отправился поступать. А Эдику тогда поставили тройку.
Тогда, лет в пятнадцать, я впервые убежал из дома. Однажды в Новый год я провел ночь вне дома и вернулся часам к десяти утра. Я договорился с сестрой, что она предупредит родителей, а она этого почему-то не сделала. Папа с мамой уже все морги к утру обзвонили. Вышел папа – он был тяжело пьяный, сильный, огромный. Развернулся и дал мне по морде. Я отлетел к шкафу, с разбитым лицом. И я ему сказал: «Ты, говно, я могу сейчас тебя раскатать по этому ковру, как хочу, и ты на четвереньках отсюда уползешь. Но я этого делать не буду – я на тебя плюю. Тьфу!» И я в рубашке и брюках ушел. Я сидел в аптеке на углу Желябова и Невского. Часа три сидел, потому что ни до кого не мог дозвониться. Денег у меня тоже не было.
Потом я нашел Эдика Резника и поселился у него. Потребовал паспорт, ушел из школы, стал устраиваться в экспедицию коллектором. Плюнул на армию и театральный институт. Жил на вокзалах, ночевал в Зеленогорске в киоске «Союзпечати». Денег наодалживал. Мама одной девочки все время мне подсовывала деньги, потому что хотела, чтобы я женился на ее дочке… Потом мне сказали, что мама умирает. Я испугался и вернулся домой. Мама, конечно, не умирала, но я увидел папу – такого несчастного, такого виноватого! Я же не был виноват – я договаривался с сестрой. Меня не было месяца три. Думаю, в доме в эти дни был полный ужас. Не знаю, я никогда потом с мамой об этом не разговаривал.
Школа на этом закончилась, начиналась самостоятельная жизнь?
Да. Распахнулись двери школы, раздался последний отвратительный звонок – и я оказался на улице, с приличными отметками и без тройки по поведению, которую я отстоял сам. На улице – с обещанием, которое я дал папе: попробовать один раз поступить в театральный институт.

«Седьмой спутник». 1968 год
Подлежащее. Малые планеты
Воображаемая иллюстрация: Питер Брейгель Старший, «Падение Икара»
В первой режиссерской работе Алексея Германа «Седьмой спутник» (1967) – которую он, впрочем, не любит и не считает в полной мере своей, поскольку сделана она в соавторстве с Григорием Ароновым, – на глазах зрителя происходит рождение «германовского человека». Рождается он, как бывает, в муках, тем паче что лет ему – около пятидесяти (во всяком случае, таким был в момент выхода фильма на экран возраст исполнителя главной роли Андрея Попова), и к смерти он гораздо ближе, чем к детским пеленкам.
Профессор Военно-юридической академии Евгений Павлович Адамов попадает под арест сразу после декрета о красном терроре. Стреляли в Ленина; лес рубят – щепки летят, и фаталист Адамов, живущий после смерти жены и сына одиноко, в компании старушки-няни, давно приготовился стать такой щепкой. Куда он летит – самому неведомо, рассчитать траекторию невозможно. Все, однако, приятнее, чем считать себя лежачим камнем посреди дороги, который мешает прохожим и экипажам, а потому должен быть устранен. Попав под арест и будучи оправданным новыми властями, Адамов оказывается бездомным: его квартиру превратили в коммуналку, жить негде. Так он становится сначала прачкой у бывших тюремщиков, затем – военспецом по юридической части. Наконец, с облегчением принимает мученическую смерть за новую, незнакомую власть.
Герман не хотел брать на главную роль Попова, ему хотелось Игоря Ильинского, но того не утвердили (с тех пор он яростно бился за каждого актера, которого хотел, и почти всегда добивался желаемого). Попов – достойный, умный, грустный, живое воплощение дилеммы «интеллигенция и революция», и в самом деле вылеплен из шестидесятнического идеализма, с которым Герман всегда полемизировал. Тем увлекательнее экранная судьба персонажа – уроженца другой (гибнущей на глазах) планеты, который скитается без руля и ветрил по вселенной Германа. Вселенной немыслимо детальной и живой; уже после успешного опыта работы с Владимиром Венгеровым на «Рабочем поселке» дебютант Герман считался виртуозом «второго плана».
В повести Бориса Лавренева, по которой поставлен «Седьмой спутник», Адамов выходит из дома на базар, чтобы продать старые вещи и купить немного провизии. Тогда же он видит на стене «Декрет о красном терроре», под действие которого вскоре подпадет. В фильме этот декрет рассматривает в первом же кадре зритель – исторический экскурс, не иначе. Мы снаружи, вне этого мира; Адамов – уже внутри, поскольку мы встречаем его арестованным. Один из десятков «бывших», скитается хаотичными кругами по гигантскому залу, приспособленному под камеру предварительного заключения. Не личность, а часть общей контрреволюционной массы: тех, кто объединен в «тысячу врагов», которые должны поплатиться жизнью «за смерть одного нашего бойца». Адамов принял это сразу, безоговорочно – не потому, что ощущал за собой вину, а потому, что в окружающем сумраке не видел иного ориентира, кроме призрачного «чувства долга»: быть среди себе подобных, разделять общую участь, признавать непостижимую историческую необходимость и служить удобрением для ее осуществления. Однако его выталкивает на поверхность подозрительный и для врагов народа, и для его друзей «абстрактный гуманизм», попытка найти общий язык с тюремщиками. И вот он – дежурный по камере, пария, отщепенец, без пяти минут предатель.
Опять один. Участь каждого германовского героя, который всегда – неуместный человек, человек не на своем месте. Тот, кто пронизан искони русским чувством одиночества в толпе. Прорывается к «своим», к партизанам перебежчик Лазарев в «Проверке на дорогах», чтобы столкнуться с волной недоверия и вражды. Избавление лишь одно: героическая, незаметная смерть. Офицера и интеллигента Лопатина, человека застенчивого и косноязычного, в «Двадцати днях без войны» заносит то на съемочную площадку фальшивого фильма по его фронтовому очерку, то на трибуну митинга. Милиционер Лапшин оказывается за кулисами театра, где у него нет ни малейших шансов обольстить понравившуюся актрису; его друг – журналист Ханин – натыкается на нож бандита, зачем-то оказавшись в опасной близости от воровской «малины». Генерал медицинской службы Кленский в «Хрусталев, машину!» то превращается в опущенного зэка, то моментально возносится на Олимп, где на кунцевской даче умирает Сталин. Земной гуманист Румата в «Хронике арканарской резни» вынужден изображать грубого средневекового аристократа. Каждый мучительно хочет забыть о разладе, встроиться в систему. Ни один не может.
Не исключено, что здесь собственный комплекс Германа, никогда не грезившего об участи запрещенного режиссера «не для всех»: ему хотелось, чтобы смотрели, любили, понимали, – но сначала этому препятствовало начальство по кинематографической части, а потом смутная прокатная ситуация. Не суть важно. Судьба сложилась именно так. Герман – один в поле воин. Почти всю жизнь – отщепенец, не распрощавшийся с этой ролью и после причисления к лику живых классиков.
«Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втягиваются малые тела, даже против их воли. Так появляется какой-нибудь седьмой спутник…», – объясняет Адамов белогвардейскому офицеру, который вот-вот приговорит его к расстрелу. «Но все равно вы ничего не поймете», – резюмирует он. Очевидно, понимает и не каждый зритель, особенно теперь (для советской публики переход любого достойного человека на сторону Красной Армии казался более очевидным поступком). Адамов приспособленец? Или он убедился на деле в правоте большевиков?
Не в этом дело. Он остро страдает от одиночества. Его не признают «бывшие», у которых каждый сам за себя (по меньшей мере в пространстве фильма это именно так). Ему нет места и в собственной квартире, отныне ставшей коммуналкой. К красным идет, потому что может им пригодиться хоть чем-то: сперва как прачка, потом как эксперт в области военного права. И точно так же, как пытался отвоевать товарищей по камере, несправедливо приговоренных к смерти, старается убедить соратников по трибуналу, что нельзя лишать человека жизни, не получив достаточных доказательств его вины. В обоих случаях его усилия не ведут ни к чему. Вот исчерпывающая формула судьбы по Герману: пытаться шагать в общем строю (а к большевикам Адамов примыкает, кажется, именно потому, что их гораздо больше – а значит, они правы), но оставаться личностью с собственными принципами и взглядами. Трагическое противоречие. Единственное разрешение конфликта – достойная (по возможности) смерть.
«Седьмой спутник» населен прекрасными артистами, из которых ни один не играет вполсилы – в этом обещание будущего, зрелого Германа. Анатолий Ромашин – глуповатый белогвардеец, Алексей Баталов – рассеянный комиссар со сломанной дужкой очков, Георгий Юматов – уголовник Турка; Олег Басилашвили появляется в кадре будто случайно, чтобы высказать какую-то трогательную идейку на тему дальнейшего обустройства России. За каждым ощутим не типаж – личность, однако каждая из этих личностей – очередное «малое тело» какой-то космической системы, спутник неведомой планеты, которому не дано определять собственную орбиту. Уже в следующем фильме Герман начнет избавляться от искуса – и наравне с артистами будут выступать анонимные свидетели. Майя Булгакова в «Проверке на дорогах» играет крестьянку, появляясь на экране ради нескольких реплик, куда более важный – открывающий картину – монолог поручен безвестной женщине, подлинной крестьянке, помнящей, как немцы картошку травили.
В этом смешении известных и стертых имен – та самая эпоха, гонявшая людей «гурьбой и гуртом» по вершинам и пропастям истории. Герман – самый точный ее летописец, во всяком случае в отечественном кино. В «Седьмом спутнике» мы видим лишь спины марширующих красноармейцев, не различаем тех, кто запечатлен на групповых фотографиях, едва-едва, боковым зрением, обращаем внимание на прохожих, мимо которых бредет по ночным петербургским улицам бездомный Адамов. В «Проверке на дорогах» уже – укрупнение: лица, лица, лица на барже с военнопленными, проплывающей под мостом, и неспособность партизанского командира Локоткова взорвать этот мост, списать человеческие потери на статистику. Он не может рассмотреть каждого лица – но может зритель, и этого аргумента в пользу оправдательного приговора вполне достаточно. Такие же лица начинают фильм. Люди, не отягощенные именем, судьбой, сюжетом, стоят и смотрят без выражения на то, что не могут изменить, – а угрожающий агрегат заливает отравленной жижей картошку, единственную их надежду на выживание.

Лопатин – Юрий Никулин («Двадцать дней без войны»)

Лапшин – Андрей Болтнев («Мой друг Иван Лапшин»)
Бесшабашный красавец-налетчик Турка – первый вменяемый собеседник Адамова в «Седьмом спутнике» – предсказывает явление безымянного летчика-капитана в «Двадцати днях без войны». Там окончательно стирается различие между «первым планом» и «вторым». Захлебываясь, путаясь в словах, сбивая дыхание, торопливо – будто боясь, что не успеет, что камера устанет, уйдет в сторону, – он рассказывает свою историю, тривиальную и душераздирающую: жена изменила, просила прощения, и как жить дальше?.. Сыгранное Алексеем Петренко – не яркий эпизод; эта роль на добрые пятнадцать минут становится самой главной в фильме (так называемый «главный герой» на этот срок лишается прав). А может, и остается главной для картины, цель которой – глобальная реабилитация людей «второго плана». След этого заметен в воспоминаниях слегка обиженных Юрия Никулина и Людмилы Гурченко, бесспорных звезд 1970-х, о работе над странной картиной, где режиссер уделял так много внимания сущей ерунде, вроде одежды и обуви статистов. А ведь именно Герман привил многим советским суперстарам актерское смирение – такая задача под силу отнюдь не каждому режиссеру.
Самые-разсамые: Быков и Солоницын, Бурляев и Петренко, Ахеджакова и Гринько – народные артисты, цвет советского экрана. Герман говорит о них странно: без пиетета, но и без фамильярности, отстраненно, с неизменным любопытством. Он будто дает диагноз, или перечисляет технические характеристики стрелкового оружия, или описывает редкое животное, как сотрудник зоопарка. Нет святынь, нет незыблемых авторитетов. Артисты говорить о Германе, напротив, избегают – редко добьешься чего-то толкового за пределами ритуальных фраз о взаимном уважении и затаенных намеков на старую обиду. Неудивительно: он их гоняет и в хвост и в гриву, а потом оказывается, что ничего лучше, чем роль в его фильме, они никогда не играли.
Артисты – кто угодно, но уж точно не соавторы, не соучастники. Потому и удается смахнуть с них, как налет застарелой пыли, профессиональные штампы (у каждого свои, фирменные), чтобы вытащить неожиданную суть, увидеть в знакомой физиономии человека. Сложная процедура – и с каждым фильмом Герман берется за нее со все меньшей охотой. Зачем пытаться изменить звезду, если можно создать собственную? Начиная с «Лапшина», где весь состав собирался по одному человеку, Герман произносит нежное «мои артисты». «Хрусталев», где из знаменитостей – одна Русланова, или «Хроника арканарской резни», где Ярмольник – белая ворона в стае черных, и вовсе как на подбор: ни одного случайного лица, сплошная органика. Не потому что каждый – винтик, послушный инструмент в руках режиссера-диктатора. Наоборот, каждый из них – личность, но и любой знает, кто сделал его личностью в пространстве фильма, объяснив миру раз и навсегда, что «первый» и «второй» план – не то же самое, что первый и второй сорт.
Советские эпохи уравнивали людей, Герман выделял. Как одержимый архивист, вглядываясь в каждое лицо, гипнотизируя, заставляя взглянуть в камеру – чтобы моментальный портрет остался на пленке, против всех законов кинематографа. Сперва несмело, разрешая этот взгляд своим «непрофессионалам» (любимому актеру Дюдяеву, органикой которого Герман в «Проверке на дорогах» и «Двадцати днях без войны» испытывал народных артистов): все-таки летчик в исполнении Петренко смотрит не на зрителя, а на собеседника – Никулина-Лопатина. Потом – уже всем подряд, от «героев» до «статистов». Лапшин, Кленский, толпы стражников, крестьян, книжников и дворян далекого инопланетного Арканара. Они смотрят в камеру, из своего зазеркалья через стекло объектива смотрят нам в глаза – так, чтобы мы увидели и не забыли их. Упражнение для памяти, упражнение для совести.
Писатель Юрий Павлович Герман – отец Германа Алексея, честный советский литератор – верил в демократизм советского уклада и от души был увлечен своими героями: лицами подлинными, выраставшими под увеличительным стеклом авторской любви до масштаба титанов. «Нет и не может быть в нашей стране “маленьких людей” – так считает мой современник. Делом, творимым на земле, определяем мы качество человека…», – писал он в предисловии к сборнику, в котором была напечатана «Операция “С Новым годом!”» (повесть, из которой выросла «Проверка на дорогах»). Лишенный иллюзий Германа-писателя, режиссер Герман тоже не верит в деление людей на «больших» и «маленьких», однако и равенство в его глазах – такой же миф. Германовский человек не способен сам увидеть и определить свой масштаб (не дано это и зрителю), он всегда терзаем неопределенностью – ибо любой, самый героический поступок может остаться незамеченным и неоцененным. Распределение – прижизненное и посмертное – по кругам Ада, Чистилища и Рая происходит не по справедливости. Здесь – и извечное сомнение в божественном промысле, достигающее трагического апогея в «Хронике арканарской резни».
«Маленький человек» как амплуа тем не менее присутствует – и это не пассивный страдательный Башмачкин, на которого сетовал у Достоевского Девушкин, а скорее пушкинский Самсон Вырин. Такой же смотритель (печной, а не станционный) – оделенный именем, фамилией и прозвищем, в отличие от бесчисленных безымянных душ, Федя Арамышев по кличке Гондон, с которого начинается «Хрусталев, машину!»; им же и заканчивается. Сыгранная Александром Башировым мелкая жертва незаметна даже эпизодическим героям основной драмы (бегство генерала, смерть генералиссимуса). Он вертится на периферии поля зрения и сознания, все время выскакивая мелким бесом на авансцену. Необаятельный шут, обреченный с самого начала, он – германовская версия Скомороха Ролана Быкова из «Андрея Рублева».
Осознанное перераспределение героических функций происходит уже в «Проверке на дорогах». В повести-первоисточнике все просто и прямолинейно: народный типаж – партизан Локотков, антагонист – мерзкий чекист Петушков, герой – весельчак и талант Лазарев, по случайности попавший в лапы к немцам, а теперь искупающий невольную вину подвигом и кровью. И романтическая линия присутствует. В фильме переводчица партизанского отряда увлечена не Лазаревым (Владимир Заманский) – усталым, стертым, подавленным человеком отнюдь не героической внешности, а бойким, отчаянным (тоже, впрочем, лишенным геройской стати) разведчиком Соломиным (Олег Борисов). И его смерть буднична, случайна, не отягощена пафосом, и мучительная гибель Лазарева видна только публике. Те, ради кого он расстается с жизнью, уже далеко, они не оборачиваются.
У Германа нет антигероев, зато полным-полно не-героев: таков практически каждый персонаж «Проверки на дорогах». И Петушков (Анатолий Солоницын) – не мразь-карьерист, а тяжелый, страдающий человек с туманным прошлым, и Локотков (Ролан Быков) – не тот, что в книге, не смекалистый былинный богатырь, для одной лишь маскировки рядящийся в невзрачного мужичка. Потому и тянет в финале свою лямку наравне с однополчанами, вытаскивает застрявшую боевую технику из случайной колдобины; все в том же чине, без надежды на ордена и звания. Локотков – бывший милиционер, Лазарев – таксист. Каждый – один из многих, каждый мог бы оказаться среди сотен себе подобных на барже, медленно плывущей под заминированным мостом.
Иван Лапшин в исполнении Андрея Болтнева (роль всей его жизни, без сомнений) – щемяще-точный портрет современника в интерьере эпохи. Милиционер, ловит бандитов, сам себе герой – в глазах понравившейся ему артистки вдруг превращенный в то, чем является на самом деле: косноязычного бобыля-эпилептика, махнувшего рукой на счастье в настоящем ради миражного всеобщего счастья в обозримом (а на самом деле необозримом, невозможном) будущем. Герман утверждает, что тащил Лапшина в герои, увидев в нем «человека из Красной Книги» – редкий, а то и вовсе вымерший вид. Именно то, что «таких больше нет», делает Лапшина героем больше, чем его деяния, чем его безнадежная любовь, чем кровавые сражения с бандой Соловьева. Ведь в остальном он – на равных правах с остальными обитателями коммуналки, с соратниками-милиционерами, со зрителями провинциального театра, с обитателями уездного Унчанска.
Поэтому так резко дисгармонирует с уже устоявшейся, самодостаточной, правдоподобной до жути эстетикой Германа мир «Торпедоносцев», вышедших в те же годы, что «Лапшин». Картина, поставленная Семеном Арановичем по оригинальному сценарию Светланы Кармалиты, написанному в соавторстве с Германом, показывает, как дьявольски важна драматургическая матрица в каждом германовском фильме – и как трудно она облекается в визуальные образы, если сценарий попадает в другие руки. Те же персонажи, попавшие на Северный флот прямиком из Унчанска: Алексей Жарков, Александр Филиппенко, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов, – но над ними возвышается романтическая фигура красавца Белоброва (Родион Нахапетов), ломающая строй и ритм. Герман, пожалуй, не уничтожает, но развоплощает советское представление о герое – милиционере или летчике, – который всегда «один из всех», «один из нас». Любой подвиг в его фильмах – будничное, едва ли не случайное действие, после которого свершивший его остается в растерянности: невозможное сделано, а мир не сдвинулся с места, и сам он – все тот же. С той же походкой, осанкой, запахом изо рта, болячками, проблемами, комплексами.
Лапшин, Хрусталев – они вообще кто? Кто угодно, только не «герои». Лапшин – друг автора («мой» друг в заголовке фильма, а в еще одной повести Юрия Германа – чуть менее интимное «наш» друг). Хрусталев – и вовсе фикция, миф, слово из воздуха. Его в фильме нет – лишь Берия в поворотный момент фильма выкрикнет в воздух фразу, вынесенную в заголовок, обращаясь к неведомому адъютанту, к случайной «шестерке». Эта машина и вывезет генерала Кленского из ада обратно, к нормальной жизни. Впрочем, возможно, Хрусталев все-таки появляется на экране. Просто вычислить, вычленить его из общей массы суетливой челяди не способен не только зритель-неофит, но и сам автор, демиург этой суматошной вселенной. Идентификация Хрусталева – посильная ли задача? И все-таки он реален, как реальны миллионы безымянных тел и лиц на старых фотографиях (без них Герман не приступает ни к одной картине), как реальны судьбы и драмы за каждым из них.
Нежелание автора выделять из разнородной массы тех трех-пятерых «основных», за которыми публика будет в состоянии уследить, а также невозможность найти имя и место каждому (никакие, самые длинные и дотошные голливудские титры не могли бы вместить всех германовских персонажей) превращают наблюдателя в дитя – несведущего участника событий слишком сложных и масштабных, чтобы разобраться в их сути. Ребенок – всегда мальчик, авторское «я». В «Двадцати днях без войны» эти дети – эпизодические сыновья тыловых матерей-одиночек. В сценарии «Торпедоносцев» (Семен Аранович отказался от этого решения в своем фильме), в «Лапшине» и «Хрусталеве» они, невзирая на скромное экранное присутствие, – уже летописцы эпохи, рассказчики. Надтреснутый, не отягощенный лишними эмоциями закадровый голос в начале «Лапшина» погружает нас в гипноз, отправляет в 1935 год, когда нынешнему пенсионеру было столько же лет, сколько сегодня его внуку, сидящему тут же рядом на ступеньках «хорошему мальчику». В первых же кадрах «Хрусталева» мальчик вскакивает с кровати среди ночи, под бабушкин лепет («Сны, сны…»; так и весь фильм есть сон), чтобы в ванной посмотреть в зеркало и смачно плюнуть в свое отражение.

Лазарев – Владимир Заманский («Проверка на дорогах»)

Кленский – Юрий Цурило («Хрусталев, машину!»)
Фотограф – Сергей Аксенов

Летчик-капитан – Алексей Петренко («Двадцать дней без войны»)

Женщина с часами – Лия Ахеджакова («Двадцать дней без войны»)
Плевок смазывает черты, четкое изображение затуманено. Сквозь него, через экскурс по невероятной, немыслимой судьбе – такие встречаются только во снах или в недостижимом прошлом – и проступает облик героя. Кто есть герой для ребенка, как не его отец? Кленский (в сценарии Глинский) – отец автора, не потому что он – слепок с Юрия Германа. Рослый, усатый, бритоголовый Кленский в блестящем исполнении Юрия Цурило – отец архетипический, обожаемый, невозможный и непостижимый, сверхфигура, чьи жизненные силы поддерживает особое магическое зелье (чай с лимоном и коньяком, в котором коньяка больше, чем воды).
По ходу действия оптика меняется, постепенно смещается. Сперва в кадре гротескная неразбериха огромной квартиры – иной и не может ее видеть мальчик-четвероклассник. Под стать ей мир вокруг: абсурдные лабиринты необозримого госпиталя, закоулки кафкианских пространств, в которых перемещается из заданной в начале точки А к неопределимой точке Ять (неужто движение идет по кругу?) генерал медицинской службы. Как знать, возможно, и закоулки больницы, где отец встречает двойника, и убогое жилище толстухи – классной руководительницы мальчика – есть лишь детские сны, продленные за границы обозримого. В этой системе координат отец всемогущ, необъясним, титанически силен и умен. Но возникает вторая половина фильма, отделенная от первой титром, и образ отца-героя начинает плавиться, исчезать на глазах, как огарок свечи. Светило превращается в спутник какой-то мощной и явно недоброй звезды – не в седьмой, а в сто сорок седьмой; сжимается до уровня незначительного небесного тела, обломка метеоритного дождя. Будто бинокль перевернули – все мельчает, все мельчают, и сам Сталин вдруг оказывается стариком-полутрупом – зримым воплощением беспомощности.
Тут детский взгляд уже ни при чем: это для сына генерал был ожившим монументом, а самому Кленскому остается лишь плюнуть в зеркало (тем паче что ожившее отражение, приведенный КГБ усатый двойник, всегда под рукой) и отказаться от своего «я». Вернувшись после внезапного ареста и еще более внезапной амнистии домой, генерал не может возобновить прерванную жизнь – и уходит в никуда истопником поезда, на открытой платформе которого он показывает цирковые фокусы случайным попутчикам. Не герой? Вовсе человек без имени, профессии и судьбы – счастливым образом зачеркнутой и позабытой.








