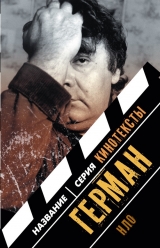
Текст книги "Герман. Интервью. Эссе. Сценарий"
Автор книги: Антон Долин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Антон Долин, Алексей Герман
Герман Интервью. Эссе. Сценарий. Книга А. Долина
Эффект Германа
(вместо предисловия)
За книгу о Германе, и тем более книгу интервью с Германом, браться было страшно. Сложный характер классика вошел в легенды, разговаривать с ним наравне невозможно – хотя бы в силу возраста… Помогло то, на чем построен каждый германовский фильм: воспоминание. Одно из первых по-настоящему сильных впечатлений из детства – от «Моего друга Ивана Лапшина». Тогда я понятия не имел, что это за кино: его показывали по телевидению и, вероятно, не в первый раз. Родители смотрели как приклеенные, я читал какую-то книгу, не обращая внимания на экран. Потом в какой-то момент мне сказали: «Смотри». И я увидел, как смутно знакомый щеголеватый человек, которого я знал по «Обыкновенному чуду», идет к другому, невыразительному, а тот называет его «дяденькой», и уже ясно, что вот-вот ударит в живот ножом. Ножа толком не видно, и кровь черно-белая, но невыносимо страшно – потому что ясно: это конец. Какова смерть? Ответ чаще приходит из кино, чем из жизни. Ответ «Лапшина» – веский, убедительный. Забыть его трудно – или вовсе невозможно. Сразу ясно: то, что чуть позже тот же «дяденька» на экране опять живой, – случайность, условность. Главное уже произошло.
Есть и фамильная история. Сплав фантастического гротеска и документальной реальности в картине «Хрусталев, машину!» позволил многим обвинить его в «невнятности». Странным образом не только автор картины, но и автор этих строк видят в этой картине не столько фантазию, сколько семейную хронику. Мой родной прадед, ученый и медик Александр Долин, работавший с академиком Павловым и бывший в Гражданскую пулеметчиком Котовского, в 1940-х был начмедом в крупном госпитале в Ленинграде. Согласно семейной легенде, во время «дела врачей» он уцелел чудом: ушел из дома на несколько дней, не сказав куда, и пришедшие его арестовывать спецслужбисты вернулись ни с чем. А потом умер Сталин.
Узнавание себя в фильме, как в зеркале, – эффект Германа.
* * *
Еще до начала интервью Герман предлагает заголовок для будущей книжки: «Шепот из подвала». Проблема в том, что на «подпольного человека» – ни в достоевском понимании, ни в каком-либо еще – Алексей Юрьевич похож меньше всего. Под его рассказ в голове возникает другое название, из другой эпохи: «Жизнь и мнения Алексея Германа, джентльмена» – как и стерновский Тристрам, он добирается до собственного рождения едва ли к середине многочасовой беседы. И то неохотно: ведь так многое еще не сказано о времени, о родителях, о событиях, при которых он не присутствовал, и людях, которых не знал.
Первый парадокс Германа – в том, что он может показаться человеком и художником, зацикленным на себе, лишь со стороны, и очень невнимательному наблюдателю. Себя он исследует с таким же тщанием, с той же въедливой мелочностью, что и эпоху: в его монографических сеансах психоанализа (авто)биограф – чаще врач, чем пациент. Время, как и разговор, дробится на мельчайшие частицы, Герман носится от одной крупицы к другой, пытаясь собрать их в единое, неделимое целое. А сам он, пресловутое «Я» художника, которое принято писать исключительно заглавной буквой, в этом времени, пожалуй, вовсе растворяется.
Книг, в которых режиссеры рассказывают о себе и своем кино, бесчисленное множество. Однако все они – вероятно, за исключением бергмановской «Laterna Magica» (но это все-таки монологическая проза, а не диалог: автор обращается к вечности, а не интервьюеру) – строго подчинены одному правилу. Биография в них – соус к основному блюду, а в центре внимания кино. Не обязательно секреты мастерства; это могут быть и смешные случаи со съемочной площадки: презренный жанр, якобы предпочитаемый журналистами, в реальности рожден самими киношниками. Никто не любит рассказывать о личном. Каждый предпочтет рассуждать о вечном, даже если эти размышления закамуфлированы под ненавязчивый треп. Герман – опровержение этого закона. Он может позволить себе заявить, что кино ему безразлично, а вот вспомнить случайную фразу, услышанную на улице, передать словами цвет чьего-то заношенного пальто, вспомнить лай соседской собаки – о, это совсем другое дело.
Перебить его невозможно. Встрепенувшись, он угрожающе или подавленно спрашивает: «Что, неинтересно?» – и недоверчиво слушает заверения в обратном. Кстати, было интересно. Каждая боковая тропинка, заставлявшая забыть о генеральной линии рассказа, открывала что-то неслыханное, за любым поворотом лабиринта поджидал сюрприз. Но невозможно и переломить режиссерскую волю человека, рассказывающего о том, что важно ему, и категорически безразличного к выстроенному тобой сценарию разговора. Он признает только свои сценарии – даже если в титрах значится кто-то другой.
Герман очень похож на свои фильмы. Не найти лучшего воплощения германовской эстетики и этики, формального метода и философии, чем личность автора. Та же пристальность – дотошная до несуразности. Тот же парадоксальный юмор. То же сочетание высокого с низким, банального с необычайным. Тот же настойчивый, истерически-упорный поиск места, которое может – и должен – занимать в Большой Истории маленький человек. Идеализм. Фатализм. Проза факта. Поэзия подробности.
Рассказ Германа о себе – конечно, еще и роман. Владение словом (бесспорное, хоть и неочевидное в книге, записанной с голоса) – дело десятое. Куда существеннее умение увидеть человека в контексте, почувствовать и описать этот контекст, вписать героя в рамку… но так, чтобы рамка его не заслонила, не сделала слишком незначительным штрихом на монументальном фоне. Этот человек – Герман, но Герман условный, прошедший фильтры авторского сознания, вписанный в бесконечный сюжет. И, в точности как в классической русской прозе, богатство «второго плана», подчас загораживающего «первый», никак и никогда не заглушит одинокий голос человека. Это в кино Герман – неисправимый авангардист. В литературе он – адепт классической школы, пишущий и мыслящий кристально ясно, не допускающий лукавых двусмысленностей. Тот жанр, в котором он ведет рассказ о себе, – не кокетливый модернистский «Портрет художника в юности», а вечно актуальный «роман воспитания».
К кинематографу и литературе нельзя не прибавить живопись. Далекая средневековая планета из «Хроники арканарской резни» – отражение СССР и нынешней России; для Германа этот мир навеки погружен в кромешную тьму Босха. Мутанты и уроды бесконечно копошатся в Аду и не надеются пробраться на другой край Сада земных наслаждений. Румата – странная фигура из другого мира, обреченная на одиночество, как святые на босховских картинах, скорбно и недоуменно взирающие на окружающий ужас. Однако фильм по Стругацким все-таки ближе к макабрическому покою полотен Брейгеля Старшего, чем к кошмарным фантазмам брабантского прародителя сюрреализма. Брейгелевский фетишизм в отношении детали, неожиданный переход от грубости к нежности, от метафоры – к натурализму, и грязноватый северный снег вечной средневековой зимы – все это отразилось в «Хронике арканарской резни».
Летом 2003-го я побывал на «Ленфильме» на съемках картины. В тот день не было Ярмольника. Камера отрабатывала считанные движения – дублер героя полз по балке под потолком, потом спрыгивал оттуда и бежал несколько шагов к воротам. Так продолжалось целый день (возможно, процесс начался даже не накануне и завершился еще через несколько суток). Смотря на монитор, разглядывая остатки фрески на тщательной декорации черно-белого замка, я казался себе случайным гостем археологической экспедиции, раскапывающей средневековый шедевр, внезапно обнаруженный под вековыми слоями праха и пепла. Будто каждое движение дублера под прицелом камеры – ритуал, в результате которого количество перейдет в качество, и фильм родится.
Каждый фильм Германа притворяется хроникой, как и рассказанная им самим история жизни. Однако приглядись – и из-за хроникальной фактографии покажется картина мастера северного Возрождения, будь то Босх, Брейгель или вовсе неизвестный Мастер Какого-то Алтаря.
* * *
Имя Светланы Кармалиты появляется на страницах этой книги, вероятно, недостаточно часто – но именно потому, что с первой встречи Германа с ней и до сих пор почти каждое «я» легко конвертируется в «мы». Герман – коллективная творческая единица: пишем «один», в уме «два». Кармалита – не муза, она полноценный соавтор. Сценарист, редактор, наипервейший из ассистентов на каждом этапе производства фильма. Не только жена и подруга, соратница и защитница, не только товарищ в беде и радости, но неотъемлемый элемент творческого процесса. Тот элемент (возможно, единственный), без которого нынешнего феномена под названием «Герман» попросту бы не существовало. И для самого Германа она – та интимная частица жизни, в которую посторонним допуск закрыт. Их совместная работа, их творческий симбиоз – слишком личное, слишком важное.
Беседы с Германом происходили один на один, и все равно заслуга Светланы в появлении книги интервью с ним – неоценимая, непереводимая на язык слов. Она – ее первый читатель.
Незаменимый консультант по киноведческой части – Ирина Рубанова, автор самых точных и умных текстов о кинематографе Германа. Огромное ей спасибо.
Специальная благодарность Людмиле Каро, верному другу из Петербурга.
Интервью были записаны и расшифрованы в период с весны по осень 2010 года. Также в книгу включены фрагменты интервью Антона Долина с Алексеем Германом, публиковавшихся в изданиях «Газета», «Труд» и «The New Times».
Фотографии предоставлены на безвозмездной основе Сергеем Аксеновым и Геннадием Авраменко, редакцией журнала «Искусство кино», Музеем кино, а также Светланой Кармалитой и Алексеем Германом, открывшими для нас семейный архив. Мы признательны им за это.
I. В рубашке и с петлей на шее
Счастье – Комарово – Отец – Фамилия – Сталин и Дзержинский – Откуда взялся «Хрусталев» – Родня – Сало – Архангельск – Американцы – Первое кино – Пожары – Театр – День Победы – Ленинград – Дело Зощенко и Ахматовой – Аресты – Квартира и школа – Мангобей и боксер – Воры и гопники – Проблемы
с дисциплиной – Бегство из дома

Первый вопрос Герман задает себе сам.
Я счастливый человек или нет?
Конечно, если взять для примера человеческое существо, которое бьют батогами, то в сравнении с ним я счастлив. Рядом с каким-нибудь несчастным зэком я – победитель; трудные времена я прошел легко. Дожил до 72 лет, приспособился к этому строю и государству, даже страну эту люблю. Наград у меня полно, значков всяких много, государственные премии. Вроде все хорошо.
С другой стороны, я себя ощущаю человеком несостоявшимся и, в общем, не получившимся. Несчастным. Почему, я понять не могу. Вот попал я в больницу с довольно неприятным диагнозом – вода в легких. Откачали, вышел, исчезла одышка. Но ощущение воды во всем теле осталось… Вообще я человек не сильный, подверженный депрессиям. Я всегда боялся, что моя жизнь закончится по моей воле – у меня и в семье полно самоубийств. Я растерян и одинок. Многие умерли, некому позвонить, и никому ничего в этой стране не надо. Жизнь прошла крайне глупо. Унизительно глупо.
Помните, когда ощущали себя абсолютно счастливым?
Недавно я два раза падал в обморок, связанный с диабетом, – и это счастье, будто тебя подхватывают огромные руки. Если смерть такая – жди ее! А раньше… Помню самое большое счастье в моей жизни, которое уже не повторится. Я в нашей бане ночью зимой читаю «20 тысяч лье под водой» – именно так, а не «80 тысяч километров под водой»!.. Я вообще читать начал очень рано, года в четыре, – но читал примерно «Черемыш – брат героя». А Жюль Верн начался позже, в Комарово. Поскольку я провел всю войну на Севере, мне дали справку, что я подвержен туберкулезу. Нам дали там маленькую дачку, которая до сих пор стоит. Поскольку папа тогда получил Сталинскую премию, дача у нас была по адресу «Комарово, дом 1». И телефон у нас был «номер один».
Мы там поселились, и это были очень счастливые дни нашей жизни. Был белый снег, которого больше никогда не будет. Был камень у ворот – на нем я узнал, что люди живут половой жизнью. Папа писал то, из чего мы потом сделали сценарий «Торпедоносцев». Был в Комарово магазинчик, был Дом творчества, из которого ходили к нам писатели: там телефона не было, а у нас был. Евгений Шварц тогда напечатал и повесил на нашем доме объявление с категориями гостей: «Гость, который пришел во время обеденного перерыва в магазине. Гость, пришедший позвонить…», а кончалось словами «Гости, как собаки, прыгают в окно». Все читали, хихикали – и сидели у нас часами. Ходил поезд, офицеры были пьяные и очень часто просили милостыню. Папа купил старую трофейную машину «Опель Капитан».
В Комарово было три комнаты и еще огромный сарай, где я однажды нашел каску с черепом. Было дикое количество клопов – они висели гроздьями. Их морили, потом мы переехали. Папа был еще военным: помню, потому что, когда у нашей маленькой собачки была течка, сбежались все комаровские собаки, и одна из них укусила папу за ногу, а он стрелял в них из пистолета.
Друзья у вас там тоже были?
Товарищи были. Одного звали Вадим, другого – Адольф (еще довоенного года рождения), они были братьями. Их старший брат Лоэнгрин уже был в военно-морском училище. Кроме того, был Левка Косой. Мама Вадима и Адольфа была директором школы. Она всячески поощряла какие-то странные игры – думаю, артистизм мне привила именно она. Мы играли на тему той или иной книжки. Ходили, рядились в каких-то офицеров, говорили фразами из Каверина: я очень любил «Двух капитанов». А прочитав книгу, утром мчался к Вадику и Адольке или Левке Косому, им рассказывать, что прочел… Они потом читали эти книги и говорили, что они гораздо скучнее, чем я рассказывал.
В школу вы впервые начали ходить тоже там? Она не разрушила ощущения счастья?
Папа берег меня от жизни. Долго не отдавал в школу, учил дома. Физически я не был очень силен, а в школу пришел в конце третьего класса. Меня хорошо встретили. Сказали: «Сейчас ты посмотришь Москву». Поставили на четвереньки, дали кусочек зеркальца, накрыли пальто, и вся школа стала на меня писать. Я выскочил с ревом, и все мое учение полетело: я боялся и ненавидел одноклассников.
Учительница Валентина Ивановна при мне познакомилась с пожарным Димой, который ее потом страшно избивал. Она нарочно мне ставила плохие отметки, чтобы папа ее нанимал делать со мной уроки. Ей очень были нужны деньги. В один прекрасный день я получил две двойки, а папа тут же приехал в школу и все проверил. Получился жуткий скандал: выяснилось, что я все знал назубок. Папа спросил: «За что вы ему поставили двойки?» Она ответила: «За фразу “По степи катятся реки”. Реки не могут катиться!» «И за это – двойка? Ведите себя прилично, мадам! А то будете работать на железной дороге». И я моментально стал отличником.
Ваш отец Юрий Герман – главный пункт любого вашего интервью, да и любого высказывания вообще: человек, без которого невозможно до конца понять ни один ваш фильм, ни биографию.
Он был, может быть, лучшим человеком, которого я встречал на свете. Для меня – самым лучшим. У него были недостатки, он мог оказаться жестоким или несправедливым, но в нем было что-то высшее. Он, например, всегда стеснялся, что богат, и всем рассовывал деньги. Когда он умирал, не допускал ни меня, ни маму ни до уток, ни до тела: у него лежала большая пачка денег, и за каждую процедуру он давал по двадцать пять рублей шоферу: допустим, за то, чтобы утку вынести или дерьмо отнести в сортир. Тот был счастлив. Я сидел в коридоре, и лишь один раз мне удалось вынести утку, когда он был в забытьи. Это одна из удивительно мужских черт, которая мне не дана – я бы такого не выдержал. Последние его слова, которые я слышал, были: «Что же вы, дети, спать не идете?»
Папа вообще был удивительный человек. Бабы падали к его ногам, как ноябрьский виноград. Однажды при мне один пьяный человек хотел зарубить собаку, которая сидела на цепи. Она бежала вокруг дерева, цепь наматывалась. Милиционер прибежал с пистолетом: «Петров, вот я тебя! Петров, стреляю в воздух!» Вышел мой папа – он был тяжелый, драчливый, у него был очень сильный удар. Он подошел к этому мужику с топором, развернулся и хряпнул его по роже так, что тот в дерево врезался. Взял топор, поплевал на него, обрубил собаке цепь, выбросил топор и пошел домой.
Другая была драка здесь, в Ленинграде. Отец избил спецкора «Известий». Был чей-то юбилей, и там плакала Сильва Гитович. Папа спросил: «Сильвочка, что случилось?» Оказалось, один человек к ней подошел и сказал: «Я бы вас пригласил, но принципиально не танцую с еврейками». Папа подошел к этому человеку и стал его страшно бить. А юбиляр бегал вокруг и кричал: «Юра, не волнуйтесь, я за все заплачу!»
Потом папа умудрился навернуть по роже чемпиону СССР, майору; тот папе в ответ сломал ногу – одним ударом. Папа никогда не стал бы сам звонить в милицию, но редактор Светлана Пономаренко позвонила папиному другу, генералу милиции Соловьеву. Тот прислал адъютанта, который был в штатском. И папа совершил страшную ошибку – привалил пару раз и адъютанту. После этого моя знакомая по тюрьме «Кресты» говорила, что его не могут сфотографировать: чем ни мажут, не могут, так он избит! Потом сам папа нанял этому человеку адвоката. И все равно генерал-лейтенант Соловьев с папой не здоровался еще месяца три.
Вернемся к началу. Откуда вообще взялась фамилия «Герман»?
Родословная у меня очень путаная. Отец происходил из странной семьи. Его прадед был подброшен в семью русского генерала в Варшаве. Там был крестик и кулек с ребенком. Этот генерал прадеда воспитал, отдал его в кадетский корпус принца Ольденбургского, но своей фамилии не дал. А дал фамилию Герман: в Восточной Европе эта фамилия значит «божий человек». Распространенная фамилия. Бывает она с двумя «н», это обозначает дворянство, бывает с одним. Моя – с одним. Дальше воспитанник этого генерала окончил курс и стал полковником… по другим данным, генералом.

Отец – Юрий Герман. 1920-е годы


Мать – Татьяна Риттерберг (фото вверху – в центре)
Об этом рассказывал мой отец, который вруном не был – но был восхитительным фантазером, преувеличителем. Он мне рассказал много американских картин, потому что был спецкором ТАСС на Северном флоте, и там им иногда крутили голливудские фильмы. Потом так случилось, что некоторые картины мне удалось посмотреть: то, что он мне рассказал, было на десять голов интереснее и на двадцать голов художественнее. Поэтому я не знаю, был прадед полковником или генералом. По данным отца – генералом, по данным его двоюродного брата, хорошего французского художника Константина Клюге, – полковником. Он был начальником воинской губернии Кеми. Мы пытались туда съездить, что-то раскопать, но там ничего не осталось. Знаю только то, что его расстреляли матросы, когда он поехал в Кисловодск.
Моего деда Павла Николаевича Германа я всегда помнил очень толстым и лысым. Но он был офицер конной артиллерии и не мог всегда быть толстым и лысым! От смерти его спасла именно толщина. Из-за нее его в последние годы революции перевели на службу начальником санитарного поезда. Его начальнику солдаты на глазах папы приколотили погоны к плечам гвоздями. Бабушка, Надежда Константиновна Игнатьева, была из дворянского рода. Наверное, они прожили страшную жизнь. Были чудовищные ультрапатриоты, потому что папу взяли с собой на фронт, когда ему было четыре года. У него была своя лошадь по имени Орлик, и он был при батарее. После этого папе надо было как-то делать свою биографию в этой стране: ведь дед – офицер, бабка – дворянка. Он стал писать, работал металлистом на заводе, потом некоторое время учился в театральном институте, где позже учился и я.
В годы вашего детства он уже был знаменитым писателем, одним из фаворитов Сталина?
Он был на вершине славы. Его в начале 1930-х поставил Мейерхольд – и, хотя Мейерхольда уничтожили, шлейф тянулся. Он написал сценарии нескольких картин, одна из них называлась «Семеро смелых».
А началось все, когда он сидел в парикмахерской. К нему вошел его пожизненный друг Лева Левин и сказал: «Ты тут сидишь, дурак, и не знаешь, что на тебя свалилась слава!» И протянул ему газету, где был абзац Горького – мол, из этого человека может получиться хороший писатель. Папу пригласили к Горькому. Он жил у Горького, тот учил его писать.
Горький никогда папу не унижал, был к нему ласков, а тот очень его не любил и презирал, хотя мало к кому так относился. Не знаю, почему. Может, дело в запахе страха, который чувствовал папа? Если на собаку набрасывается другая, которую она боится, то от собаки пахнет страхом. Некоторые утверждают, что и львы набрасываются только на тех, кто пахнет страхом. А на бесстрашную антилопу не бросится…
В гости к Горькому приезжали Сталин и Ягода. Именно тогда папа попросил Ягоду за деда, чтобы того не сажали. Ягода написал маленькую бумажку, и деда не тронули никогда – даже после смерти Ягоды, Ежова и Берии. Видимо, его фамилия перешла из одного ящика в другой. Такая же история описана у Шаламова: какая-то лагерная проститутка, которой он помог, будучи фельдшером, работала машинисткой и приписала в деле одну букву. «Д» вместо «Т». «Т» не мог выйти, а «Д» – мог. И он вышел.
Самое стыдное – то, что папа тогда обожал Сталина. Был в полном восторге. Говорил, что обаятельнее фигуры он не видел. Находил он что-то и в Дзержинском, увлекался. Ему тогда позволили писать о Дзержинском, и он писал… все выдумывал, потому что материалов не было никаких. Вроде того, как тот съел свою чернильницу, как в Швейцарию выезжал в 1919 году. Папа же раскопал, что Дзержинский выступил против планов коллективизации; папа первый получил документы о том, кто посадил Мейерхольда, статуэтка которого всю жизнь стояла у него на столе. Мейерхольда посадил артист М. – папа держал в руках его донос о том, что Мейерхольд в Париже встречался с Седовым, сыном Троцкого.
В 1957-м вышел из тюрьмы шофер Дзержинского. И папа, который напридумывал про Дзержинского, что тот, хоть и палач, и кровавая сволочь, все же был движим великой идеей сделать новое человечество, помчался к шоферу. Приводит его в «Асторию». У шофера зуба ни одного нет, яйца, я думаю, отбиты, и он говорит: «Ну что, товарищ писатель. Записывайте. Помню как сейчас…» – и рассказывает все рассказы папы наизусть, с запятыми! Он мог только папины рассказы рассказывать. Ему дали их в зоне, он их выучил, а сидел он года с 1936-го. За двадцать лет можно выучить.
Угроза ареста над вашим отцом не нависала никогда? Ведь, кажется, именно из этого страха произошел «Хрусталев, машину!»?
В «Хрусталеве» я решил представить, что было бы со мной, если бы папу посадили, а нас с мамой переселили бы в коммуналку. Это фантазия, сон, наш ужас. В этом страшном сне мы были достаточно беспощадны к самим себе, и к любимой моей матушке, и к бабушке… Вы же понимаете, что я не был стукачом, что это фантазии. Мама была из очень богатой купеческой семьи, и она вряд ли смогла бы такое пережить. Но, естественно, я не мог написать себя хорошим. Тогда мы придумали, что мальчик будет доносить на папу. Этого никогда не было! В отличие от ситуации с Линдебергом – тем шведом, который возникает в начале фильма.
А возник он следующим образом. Мы с Андреем Мироновым выступали в Финляндии, куда ездили с «Лапшиным». Я выхожу к набитому залу и говорю: «Здесь, в Хельсинки, преподавал в университете русскую литературу Сергей Александрович Риттенберг. У него был друг по профессии Линдеберг. Мне очень важно получить о нем хоть какие-то сведения. Например, портрет». Я знал, как пьяный Линдеберг приходил к нам домой, но не помнил, как он выглядел. Когда я пришел в гостиницу, там меня ждал брат Линдеберга, который отдал мне огромную пачку писем – переписку Линдеберга и Гули, как у нас в семье называли Сергея Александровича – моего дядю.
Эти письма дали нам очень много. Мы узнали, что именно Гуля попросил своего приятеля Линдеберга – тот был левым, социалистом, а сам Гуля был монархистом – узнать, жива ли мама. Линдеберг как раз ехал в Советский Союз. Он напился и вместо того, чтобы тихо все разузнать, явился к нам домой в три часа ночи, считая, что за ним никто не следит. В фильме генерал спускает его с лестницы – так вот, это действительно случилось в нашей квартире на Марсовом поле. Помню, горел газ, кипело белье и сидели очень напуганные папа и мама. Было начало 1950-х. Гуля умолял Линдеберга не появляться у нас дома, он просил просто узнать, жива ли Таня и кто ее муж! Но тот в результате приперся к нам… Оттуда я и запомнил фразу папы, попавшую в фильм: «Трудная у тебя работа, бьют иногда».
Выходит, в сталинское время часть вашей семьи жила за границей, в Европе?
Мой дед по материнской линии был известный адвокат и, кажется, защищал на процессе Зиновьева. Была богатая семья – лошади, свой участок на Финском заливе. Детей было трое: Наташа, моя мама Таня и Сергей Александрович – Гуля. Был еще один дядя, который застрелился, потому что его не приняли в Морской корпус: не было трех поколений христианской крови. Из-за этого застрелиться, разве можно себе представить? А Гуля пошел записываться к Врангелю, очень торжественно – на площади стояли столы, играл оркестр. Они поехали воевать вместе с Вадимом Андреевым. Тот уехал раньше, а у Гули была грыжа… Когда он был на полпути на фронт, Врангеля разбили. Но вернуться он уже не мог.
Гуля стал профессором филологии в Хельсинкском университете, потом работал в двух университетах в Стокгольме. Был другом Берберовой. Помню, как он приехал в СССР в 1956 году. Тогда он мне показался каким-то шутом… Он был великолепным знатоком литературы и поэзии. В Русском музее принялся посетителям рассказывать про «Заседание Государственного совета». Собралась толпа, человек сто. Пришел директор музея, пригласил Гулю в свой кабинет, налил чаю, спросил: «А вы кто?» «Я – шведский подданный». «Я вас очень прошу, – сказал директор, – рассказывайте все мне. Мы не можем доверить шведскому подданному проводить экскурсии по Государственному Русскому музею».
Гуля был прелестен, наивен, добр. Он был не наш, не совковый. Например, громко восхищался тем, что в нашей стране есть единственное потрясающее достижение – у нас мало машин! Как его ни одергивали, он обязательно об этом говорил вслух. Кстати, сейчас мы понимаем, что он был прав… Гуля – персонаж «Хрусталева».
Каких еще персонажей этого фильма вы помните из детства?
В «Хрусталеве» есть две девочки, Белла и Лена Дрейден, которые живут в нашей квартире: так вот, это дочери моего дядьки. Муж сестры моей мамы был главным инженером завода «Севкабель». Тяжелый, неумный человек, технарь, он не признался ни в чем. И выжил. А в одной камере с ним сидели те, кто работал в реальной бригаде Лапшина: посадили каждого – были они василеостровские немцы. Того, кого играет Миронов, звали Стенич: он ползал по камере с перебитыми ногами. Это он научил всех говорить о себе любые глупости: «Я продал японцам тормоз Матросова». Будет суд, все засмеются, и всех выпустят. Но суда не было. Их всех расстреляли. Кроме моего дядьки.
Беллу и Лену я не с большой любовью изобразил. Они думали, что их удерживают в нашем доме насильно. А их папа и мама жили на Печоре и по утрам собирали куропаток вдоль железной дороги. Они были зэки – полурасконвоированные, потому что дядька был крупный специалист. Тогда, после войны, концлагеря перешли на хозрасчет, инженеров стали подкармливать и выделять. Белла и Лена у нас жили и ненавидели маму, которая не отпускает их к родителям. А ведь они бы там умерли, на зоне.
Когда я через много лет приехал в Америку, мне сказали, что меня дожидаются Дрейдены – после просмотра «Хрусталева» на кинофестивале в Сан-Франциско. Оказалось, что это дети Беллы и Лены! Богатые, у них свои дома, нас обожают; один – профессиональный боксер, другой – деловой человек. Я боялся, что они будут плохо говорить о маме, как когда-то девочки: «Мы вас ненавидим, тьфу на вас!» Нет, они нас благодарили, везде возили, были очень милы. Приятно иметь в Америке родственника-боксера.
От Стокгольма до Сан-Франциско – обширная семейная география.
Еще у папы было два двоюродных брата, отец которых, полковник Генерального штаба, был начальником штаба у Унгерна – от которого он бежал, когда тот сошел с ума. Мама их умерла, отец женился на какой-то полутуземной княжне: замечательная женщина, картежница. Она их вырастила. Один стал художником, второй – преподавателем математики во французском лицее.
Кроме того, были две двоюродные сестры, Светлана и Наташа, была тетя Оля, родная сестра моей бабушки, очень красивая и очень злая. Она была замужем за очень известным адвокатом. Они бежали от большевиков и жили в Таллине. Ее называли там «француженкой», хотя она была Игнатьева: все потому, что она преподавала французский язык.
Папа вступал в 1940 году в Прибалтику и успел каким-то образом проскочить в Эстонию и предупредить тетю Олю и ее мужа, чтобы те драпали – чтобы только не ждали наших. И она успела убежать, а муж Миша замешкался. Его расстреляли. Тетя Оля потом жила приживалкой в Стокгольме, и шведка оставила ей все в наследство. Помню, когда она приехала, папа показывал ей хрущевское строительство, а она ответила: «Хорошо, Юра, а почему вы думаете, что всего этого вам не построил бы царь? Ведь все остальное он вам неплохо построил». Я захохотал… Вот и все, что о ней помню.
Еще в Америке живет моя сестра Марина – дочь моей мамы от первого замужества, брака-мезальянса.
Расскажите о жизни вашей матери до знакомства с вашим отцом.
Леонид Андреев жил на Черной речке. Был у него сын Вадим, который позже писал, что уехал из-за девочки, в которую был влюблен – она не ответила ему взаимностью, и тогда он ушел к Врангелю, чтобы умереть… Так вот, та девочка была моя мама.
Семья мамы уехала за границу вскоре после революции. Когда они выезжали, никто не верил, что большевики – это надолго, и бабушка Юлия Гавриловна всем давала в долг. А вернуть никто не мог. В результате они продали дом, переселились в дом садовника. Тот на самом деле был большевик, который скрывался у них на даче под видом садовника. Он и устроил потом их переезд в Советский Союз, в начале 1920-х. Маму тут же посадили. Ей было пятнадцать лет, вошли три человека и увели ее. Времена были еще нэпмановские, и ее выпустили через сутки.
После этого, чтобы устроиться в медицинском институте, мама бешено стала устраиваться еврейкой – евреев тогда брали, а русских нет. Доказать было трудно, и помогла взятка. Обратно устроиться русской в 1949-м она уже не смогла. А тогда, в 1920-х, ее приняли на медицинский факультет. Там она училась с безграмотными людьми, учила их читать-писать, а одновременно обучалась медицинскому мастерству. Тогда она и вышла замуж впервые…








