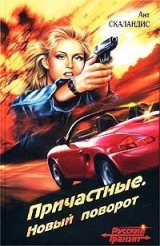
Текст книги "Новый поворот"
Автор книги: Ант Скаландис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Уезжал он тоже на такси, потому что никакой другой транспорт уже не работал. Уезжал и думал: а удалось ли поговорить о важном? Удалось. Еще как! Но только он так и не понял, что было самым важным для Гели. Для Давида – конечно, последнее. Чего греха таить. Он – и вдруг директор! Это было столь невероятно, что на какое-то время заслонило все вокруг. Радость распирала его, он даже начал таксисту рассказывать про ГСМ. Но путь был коротким, по ночной-то Москве, и рассказать он успел немного. А так хотелось поделиться хоть с кем-нибудь, так было грустно возвращаться в пустую квартиру!..
У двери (у его двери!) стояла эффектная длинноногая девица с пышной прической. Черты ее лица были далеки от мировых стандартов красоты, но глаза с поволокой, большой чувственный рот, высокая грудь под облегающей кофточкой, очень короткая юбка, очень высокие каблуки – в общем, профессиональная обольстительница. Так он решил в своем восторженном состоянии. А девица спросила:
– Вы Давид Маревич?
– Я.
– Ну, слава Богу. Вам конверт очень важный из Симферополя от Зямы Ройфмана.
– А вы что, такой специальный ночной почтальон? – улыбнулся Давид. Мне следует где-нибудь расписаться?
– Нет, – ответила она серьезно. – Я сестра Зямы.
И расписываться нигде не надо. Пока. Мне пора.
– Да вы что?! – Давид схватил ее за руку, потому что сестра Зямы действительно сделала шаг в сторону лестницы. – Вы с ума сошли! Куда можно идти в такое время? Два часа ночи.
– Домой. Я тут совсем недалеко живу.
– Какая разница! Это невозможно! Как вас зовут?
– Марина.
– Мариночка! – торжественно объявил Давид. – Как директор Финансовой компании ГСМ я официально приглашаю вас немедленно отметить мое вступление в должность.
Вот когда пригодилась бутылка итальянского вина.
И коньяк, который оставался дома. Марина, он уже слышал про нее, только не был знаком, работала на студии Горького ассистентом режиссера и, когда было нужно, помогала брату, официальному представителю ГСМ в Крыму, передавать с проводниками поездов всякие важные документы, благо жила недалеко от Курского вокзала. Марина была уже в третий и явно не последний раз замужем, образ жизни вела богемный, и для нее пропилить на такси в два часа ночи по Бульварному кольцу от Никитских ворот до Покровских действительно не представлялось проблемой, а не поймает тачку, так и пешком рвануть через центр можно. (Откуда на Красной площади хулиганы? Там одни менты.) Про Давида ей Геля сказал, что вот-вот будет дома, потому что уже ушел, а она у подруги сидела, только оттуда пора было сваливать, там люди не такие – им с утра на работу, – вот она и решила под дверью подождать, конверт-то на самом деле важный.
А конверт был действительно эпохального содержания – нотариально подтвержденное заявление какого-то шведского гуманиста с мировым именем, отдыхавшего в Ливадии и заарканенного Ройфманом, – иностранец требовался позарез Фонду СМ для регистрации документов. Очень важный конверт. Но еще важнее – высокие бокалы с золотистым итальянским чудом, и быстро сотворенный умелыми женскими руками вкусный салатик, и рюмка хорошего коньяка, и глаза с поволокой, и быстрые, тонкие, нежные пальцы, и большие чувственные губы, он и не представлял, что губами (и зубами!) можно делать такое. Боже, какой восторг, или ему просто очень-очень одиноко и не надо никаких Групп, никакого спасения мира, никаких Посвященных не надо, нужно только простое человеческое тепло, уют, забота, ласка…
Утром стало предельно ясно, что для уюта, заботы и ласки Марина подходит меньше всего. В девять ее разбудил звонком режиссер. (Когда успела дать телефон? Впрочем, ночью звонила куда-то, это точно.) И Марина, матерясь, едва успела принять душ, допить из горла остатки сухого, смешав с последней каплей коньяка, глотнуть кофе и накраситься. Тут во дворе и засигналил студийный «рафик».
И все-таки она поселилась у Давида. Только позже, уже почти зимой. А сейчас, допивая кофе на вновь опустевшей холостяцкой кухне, он вдруг вспомнил, как уже перед самым сном, часов в пять или шесть, потянулся в карман пиджака за сигаретами – себе и ей, а пиджак был не то чтобы повешен, а скорее скомкан, но на спинке кресла, поэтому из кармана вместо сигарет сначала выпал «макаров». И какого черта он таскал оружие с собой? Ах да! Они же с утра ездили за город смотреть землю под строительство коттеджей, и Давиду взбрело в голову проверить исправность пистолета на природе. Случая не представилось, а потом домой заехать было некогда, вот и проносил весь день за пазухой.
– Ой, дай посмотреть! – восхищенно прошептала Марина. – Настоящий?
– На, посмотри.
– Дейв, это ты народный еврей СССР? – Марина поглаживала пальцем гравировку.
– Я, – почти не соврал Давид.
Ему было ужасно неохота объяснять сейчас, откуда взялось такое звание.
– Похож, – констатировала Марина и, затушив в пепельнице половину сигареты, добавила:
– Давай спать.
Глава четвертая. ПОЖАР НА СКЛАДЕ ГСМ
– Раздел два. Точка. Цели и задачи Фонда. Нету точки. Все буквы прописные. Пункт два, точка, один, точка. Основной целью Фонда является…
– Точка.
– Нет, еще не точка.
– Слушай, достал ты со своими точками! Не обезьяне диктуешь.
– А кстати, если стадо обезьян будет бесконечно долго стучать по клавишам пишущих машинок, рано или поздно они напечатают всю Британскую библиотеку. Эта мысль принадлежит, кажется, Максвеллу, – поведал Давид.
Климова посмотрела на него и неуверенно улыбнулась, пытаясь сообразить, сказал он что-то обидное для нее или нет. Наконец решила, что нет, хихикнула и вернулась к работе.
– …является объединение граждан СССР, иностранных граждан, лиц без гражданства…
– Кто такие лица без гражданства?
– Лица без гражданства – это бомжи, проститутки и… обезьяны. С человеческим лицом. Климова! Мы так никогда не закончим.
– Ну ладно, ладно, поехали.
– …без гражданства, организаций, учреждений, предприятий и общественных формирований на основе общности их интересов, направленных на исследование литературно-художественными, научными и другими творческими средствами возможных путей развития личности и человечества, на приближение и закрепление ожидаемых и желательных изменений в социально-экономической и духовной жизни мирового сообщества…
Господи! Что ж это за язык такой суконный! Вроде все съедобное, а прожевать невозможно. Ну что это за другие творческие средства исследования, помимо научных и художественных? Интуиция? Мистические прозрения? Шизоидный бред? На самом деле это просто привычка опытного юриста Гроссберга в каждом пунктике оставлять себе зазор, мол, как же, как же, батенька, а мы и это предусмотрели, читайте: лица без гражданства изучают человечество безумным способом.
– Дальше, – попросила Климова.
– О! Дальше самое интересное, – дурашливо объявил Давид. – Пункт два-два. Целями Фонда являются также координация, мобилизация… химизация, механизация и электрификация всей страны.
– Чего? – Климова обернулась в испуге.
– Со слова «химизация» не печатать.
– Ну кто домой-то торопился?
– Я. Но, видишь ли, устав величайшего из фондов – Фонда Спасения Мира невозможно читать без слез. И без смеха сквозь них. Продолжаем.
Давида несло. Настроение было просто великолепное.
– …и поощрение творческих усилий его участников по разработке и пропаганде оптимальных решений проблем современности, укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению природной среды, утверждению прав и свобод человека, оказание содействия деятелям искусства, науки и культуры, организациям, работающим в направлениях, отвечающих целям Фонда. Ф-ф-у-у! – выдохнул он. – А какое восхитительное сочетание слов: содействие деятелям!
– Да ладно тебе, не придирайся, – подал голос Димка Фейгин. Бюрократический стиль – одно из великих направлений в мировой литературе. Оно древнее беллетристики и канонических текстов, древнее поэзии и анекдотов, а в грядущем переживет века. Кстати, я свою работу закончил.
– А что там у тебя? – спросила Климова. – Ты говорил, а я не помню.
– Заметка для «Столицы». Будет желание – прочтете.
Я откатал две копии на ксероксе. Спешу заметить, стиль совсем другой.
– Не сомневаюсь, – провозгласил Давид, подходя к окну и закуривая: Алка не любила запаха дыма. – Чаю выпьешь?
– Нет, ребята, я побежал. Уже девять. Все комнаты, кроме этой, закрыты. Вот ключи. Счастливо оставаться. Кстати, слыхали? Ельцин из партии вышел.
– Иди ты! – не поверил Давид. – Когда?
– Сегодня. Я «Свободу» слушал. Бросил партбилет – и все дела.
– Класс, – сказала Климова.
А когда они остались вдвоем, Давид спросил ее прямо от окна, выдохнув дым в открытую створку:
– Ну и как тебе Геля?
– Отличный парень. Нет, правда, он мне понравился, хотя и не люблю таких толстых и неспортивных. Он, между прочим, похвалил мою работу о буддизме, обещал где-нибудь напечатать.
Давид читал немного раньше «работу» Климовой – статейку страничек на двенадцать машинописных – и в принципе соглашался с ее основным смыслом. Речь там шла о том, что нам, гражданам эпохи перестройки, бывшим советским людям, потерявшим опору старой идеологии, утратившим веру во все и всех, ближе любых других оказываются сегодня именно идеи раннего буддизма. Ведь две с половиной тысячи лет назад люди оказались точно в таком же положении. И великий Гаутама попытался перенести центр тяжести их интересов с почитания Бога на служение Человеку. Будда не столько стремился создать новую систему Вселенной, сколько мечтал внедрить в повседневную жизнь новое чувство долга. Религия, провозгласившая спасение, достигаемое совершенствованием характера и преданностью добру, спасение без посредничества священников и обращения к богам – это уже не религия, не совсем религия. Для Давида были давно опорочены практически в равной мере и христианство, и коммунизм, так что новая вера выглядела вполне привлекательно, если бы только не обилие словечек типа «дхарма», «бодхи», «мадхьямики», «хинаяна», «абхимукхи» и даже такая непроизносимая штука, как «Маджджхима». Всего этого было в избытке на двенадцати страницах климовского творения, что и заставляло Давида относиться иронически к идее кровного родства ГСМ и буддизма.
– Это хорошо, если Геля статью напечатает, – сказал он. – А кто еще в ГСМ показался тебе симпатичнее других?
– Не знаю. Ты хочешь спросить, кто еще в ГСМ Посвященный? По-моему, никто.
– Очень может быть, – проговорил Давид. – Именно это я и хотел от тебя услышать.
– Слушай, Дейв, а ты уверен, что сам Вергилий – Посвященный?
На подобный вопрос отвечать было нечего. И Климова сама продолжила:
– Ведь когда мы с тобой подошли, он стоял не один.
– Я помню, но с ним рядом был только Петр Михалыч. Все остальные болтались достаточно далеко. Правильно?
– Пожалуй, – неуверенно произнесла Климова. – Наверно, ты прав.
– Да ты с ума сошла, Климова, я прав на все сто! Михалыч – он же отставной полковник, в органах, наверно, служил. Как он может быть Посвященным?! Ты с ума сошла. Давай дальше работать. Я уже покурил, а чаю после попьем.
– Давай, – согласилась Климова безропотно.
– Итак. Пункт два-три. Точка. Ой, извини.
– Ой, извини. Напечатала. Дальше.
– Перестань. Значит, так. Разработка и поддержка программ исследования глобальных и региональных проблем средствами художественного и научного творчества на профессиональном уровне. Двоеточие. Два-три-два. Содействие гуманистическому воспитанию граждан, демократизации общественной жизни…
«Слова, слова, слова… Или как там у Владимира Асмолова:…и бушует река болтовня!»
Это было двенадцатого июня тысяча девятьсот девяностого года. Давид чувствовал себя прекрасно. Уютно, спокойно, комфортно – вдвоем с секретаршей Алкой Климовой в своем директорском кабинете. Не с любовницей-секретаршей, как это принято повсеместно, а просто с секретаршей, хорошей школьной подругой. Любовница была другая – чумная, непредсказуемая Марина, Мара – вся из себя порывистая, как актриса («Ах, у меня сегодня съемка, ах, мне ночью опять на телевидение!..»). Алка же была просто другом. Возможно такое? Выходит, что возможно. Уж не благодаря ли тому, что они Посвященные. Но в любом случае это было здорово.
Он провожал ее до дома, если засиживались допоздна, на своем «Москвиче» или на Жориных служебных «Жигулях». У подъезда она протягивала руку по-мужски, и глаза ее сияли.
И было все так здорово до самой осени. Почти до зимы.
В конце июля провожали Бергмана.
Был простой будний день четверг, но отпрашиваться на это мероприятие Давиду не пришлось, пришлось просто извиняться, потому что Геля отмечал свой сорокалетний юбилей и практически для всего руководства объявил нерабочий день. Как потом рассказывали, гулял Вергилий Наст широко: куплен был, ну, то есть взят в прокат целый пароход, на коем приглашенные доплыли от Северного речного вокзала до Солнечной Поляны и там пировали день и ночь напролет с кострами и цыганами (буквально – с живыми цыганами!), с поливанием шашлыков и дам шампанским, с визгами в кустах, с купанием голяком при луне и последующими безобразными плясками, переходящими в свальный грех… Все это – по слухам, так что, где проходила граница правды и вымысла, Давид судить бы не взялся.
Смутное сожаление об упущенных возможностях, мучившее его достаточно долго, в конечном счете было побеждено благородной гордостью истинно Посвященного, то есть человека исключительного, умеющего встать над.
А, в общем-то, какой у него мог быть выбор? Не проводить Владыку, с которым в этой жизни он расставался, очевидно, навсегда? Немыслимо. А что такое встречи в следующей жизни, он пока еще плохо представлял себе, хотя в теории был уже познакомлен с общими правилами неземного бытия. Плевать на неземное – успеем. Хотелось просто и по-людски проводить до аэропорта, до трапа, настоящего человека, Учителя, Владыку, почти отца – таким Бергман стал для Давида за эти полгода. И, как он понял, не только для него.
Народу на прощальный обед собралось немало, целая толпа для скромной квартирки. Люди на лестнице стояли. Шампанским никого не поливали, да и водку пили так – символически. Зато плакали многие. И друзья – ровесники Игоря Альфредовича, и старики-фронтовики, победившие фашизм внешний и смело повернувшиеся теперь лицом к лицу с фашизмом внутренним, и мальчики-девочки из ДС, готовые грудью встать на защиту Бергмана от чего угодно. А похоже, было от чего, потому что другие мальчики, постарше и в одинаковых серых плащах, тоже покуривали здесь же, на лестнице, но ни во что, по счастью, не вмешивались. Не дураки же они, в самом деле!
В аэропорт поехали всего человек десять. И Давид оказался в числе самых близких друзей, ехал, правда, во второй машине, но там, по ходу томительного ожидания, когда же наконец объявят рейс на Вашингтон, они поговорили. Владыка должен был найти время для разговора с ним тет-а-тет. И нашел. Все слова были важные, теплые и значимые, но – ожидаемые. Как обязательный ритуал. И только под самый конец Давида ждал сюрприз. Скорее неприятный.
– Знаешь, Додик, очень не нравится мне твой Вергилий, – проговорил Игорь Альфредович с чувством, словно хотел, чтобы именно эти слова лучше всего запомнил его ученик. – Никто из наших не помнит, не знает его. Понимаешь, никто. Бывают такие Посвященные, которые нарочито избегают встреч со своими. Но это всегда настораживает. Во-первых, как правило, они бывают запоздавшими, то есть позднообращенными людьми, и долго на Земле не живут. А во-вторых, у них всегда свои, от всех далекие цели, что опасно. Конечно, тебе виднее, Додик, ты его близко знаешь. Но я даже по рассказам твоим – уж прости старика за откровенность! – не люблю этого Гелю Наста. Подумай над моими словами. Только, упаси тебя Бог, которого нет, понять это как руководство к действию. Сама идея ГСМ хороша. Ты же помнишь, я радовался, когда ты попал туда. Да и деньги, которые они платят, хороши. Но ты не просто Посвященный, Додик, ты совершенно особенный человек, во всяком случае, для меня, поэтому прошу, будь осторожен, будь всегда рассудителен, не делай глупостей и тогда… ты встретишь Анну. Ведь для тебя это самое главное? Правда?
Вот так странно он и закончил свою неожиданно длинную прощальную речь, помолчал немного, прислушался и сказал:
– Кажется, наш рейс объявляют. Прощай, Додик! И до встречи! До встречи! Ты понял?
Он понял. Но не до конца. Да и где ему было понять?
В пятницу на работу пришли не все, зато те, кто пришел, пахали исключительно интенсивно: во множестве рождались новые письма и договора, принимались и отправлялись факсы, мелькали бесконечные посетители, телефон трезвонил, не переставая, в комнате, где стоял большой ксерокс, тоже работавший без передышки, сделалось жарко и отчаянно пахло аммиаком. Про перерыв на обед забыли дружно. Так что когда к концу дня из банка приехала Жгутикова с последней выпиской, все уже стояли на ушах. Гастон взял выписку в руки, глянул и призвал народ к тишине.
– Господа! – объявил он. – Поздравляю всех. Сегодня мы стали миллионерами. На счету ГСМ впервые образовалась сумма, превышающая миллион рублей. Ура, господа!
Васю Горошкина тут же послали за коньяком, и конец дня превратился в праздник. Гелю, конечно, вспоминали, но отсутствие его было для всех вполне понятно. А Давид, помнится, тогда впервые подумал, что и без Гели у них совершенно замечательная компания.
Хуже было в понедельник. Геля пришел с утра вялый, хмурый, как будто и не было выходных. Давид успел с ним только двумя фразами перекинуться и умчался по срочным делам в Центробанк. А когда вернулся, Гели уже не было.
– Ему что-то с сердцем плохо стало, – небрежно пояснил Попов, сидевший в Гелином кабинете. – Праздники стали тяжело даваться. Возраст.
– Да иди ты, – сказал Давид.
– Не иди ты, а так и есть. Вот доживешь до сорока, сам узнаешь.
Подходил срок давно спланированной Вергилием поездки в Голландию. Геля не говорил, но Давид догадывался, это как раз по поводу европейского филиала. Голландия не Швейцария (в смысле нейтральности и защищенности), но тоже страна, вне всяких сомнений, замечательная и привлекательная. А связи там сугубо Гелины, личные, и кроме него никто из гээсэмовцев поехать не мог.
И вот тринадцатое августа, понедельник, восемь дней до предполагаемого отлета в Амстердам. Геля на работе не появляется. Что ж, решил поработать дома. Понедельник – день тяжелый.
Четырнадцатое августа. Давиду звонит секретарша Коровина. Ромуальд через знакомого министра и с оформлением командировки от Всесоюзного Центра культуры достал Вергилию билет на Амстердам. Срочно выкупать! (Боже, ну как все сложно, без знакомого министра и за границу не улетишь!) Но Гели нигде нет. А билет-то стоит не хухры-мухры – тысячу девяносто два рубля! Как назло, в кассе финкомпании тридцать рублей с мелочью, и Юра Шварцман, у которого дипломат вечно набит казенной наличкой, тоже где-то носится. Закон подлости. Не беда: Давид бегом (да, да, бегом на метро, потому что машины тоже все в разлете!) несется домой, берет свои кровные и выкупает билеты. Мог это сделать кто-то еще? Разумеется. У всех гээсэмовцев по нескольку кусков дома зарыто было. Но никому не приходит в голову вынуть их вот так запросто. Кроме Давида. «Это же Геля!» – думает он.
А телефон на Звездном бульваре по-прежнему не отвечает. Правда, известно, что Верка с сыновьями уехала на Юг. Мало ли куда Геля мог уйти! Но, с другой стороны, это-то и страшно: один в квартире. Все советуются и решают ждать до утра. Ну зачем к нему ехать? Дверь ломать, что ли? А Давид всю ночь не смыкает глаз.
Пятнадцатое августа. Утром ничего не изменилось. Вот когда начинается легкая паника. Нервничают уже почти все. Только Гастон Девэр спокоен как танк. Говорит, такое уже бывало. И не раз. Что же он имеет в виду? Спрашивать неудобно.
Чисто по-женски больше других переживает Маша Биндер.
– Я, знаешь, тоже не девочка, – говорит она Давиду по телефону. Понимаю: все может быть. Поверьте, мужики, надо ехать. Дверь того не стоит. Черт с ней, новую вставим. А то мало ли что…
Маша боится произнести, что именно, а Давид боится даже подумать, ведь только ему одному по-настоящему страшно. Ну, может быть, еще Климовой. Если, конечно, она как следует подумала. Теперь Давид уже ясно понимает: других Посвященных в Группе нет. А что может случиться с Посвященным, известно слишком хорошо: Анна, рассказы Бергмана, история с Веней. Нет, уж он-то точно не поедет ломать дверь. Если там гэбэшная засада, что может быть глупее, чем так бесславно погибнуть. У него же совершенно другая задача.
В этот день после работы он едет с Витькой на дачу. Витька давно приглашал, а тут вроде точно сговорились. Не отменять же! На даче, конечно, хорошо: прогулка на реку, коньяк, фрукты, сухое вино. У Витьки чудесная жена Галя, работает в советско-итальянском СП, получает четыреста рублей, и Витька комплексует: с перестройкой папашу его задвинули совсем, комсомольская работа теперь откровенно неперспективна, в институте, где он остался на кафедре, платят гроши – в общем, Витька дошел до того, что в каком-то кооперативе по совместительству работает шофером, и рубликов двести пятьдесят у него в месяц выходит.
Давид улыбается – не с превосходством, не злорадно, а скорее философски. Вот и пришли новые времена. Теперь он, отпрыск плебейского рода Маревичей, зарабатывает больше всех своих друзей из вчерашнего высшего света, и это он, Давид Маревич, привез сегодня и коньяк и сухое. Пожалуйста, угощайтесь!
Но смертная тоска и тревога не отпускают, особенно здесь, в двух шагах от дачи Аркадия, той самой дачи… Он звонит ребятам из ГСМ каждые десять пятнадцать минут. И никого, никого не может застать. Наконец на проводе Юра Шварцман:
– Нашелся Геля. Он дома. Успокойся. Что вы все переполох подняли, как бабы? Ну, выпил человек, с кем не бывает, отключил телефон. Теперь у него сидит мать. Не дергай их, Дейв. Он тебе сам позвонит.
У-у-у-ф-ф.
Давид почувствовал, что из него просто выпустили воздух.
А Витька почувствовал, что пора наливать:
– Давай! Дернем, чтоб твоему Геле меньше досталось.
Потом откуда-то взялся Аркадий с бутылкой водки, и они все напились.
Шестнадцатое августа. Витька подбрасывает до офиса на Чистых Прудах. В одиннадцать звонит Геля, едва ворочая языком:
– Слш, Дыф, мн очн плох, зафтр пзвню.
И тогда у Давида все сильнее и сильнее начинает болеть голова. Этакое запоздало пришедшее «после вчерашнего».
С обеда он уходит домой спать.
Семнадцатое августа. В восемь утра будит звонком Геля и через полчаса приезжает. На ногах стоит твердо, но разговаривает странно: весело, однако не своим голосом. То ли уже принял, то ли держится на таблетках.
– Вот это – килограмм. – Он протягивает пачку красненьких. – А это довесок. Меня такси ждет. Спасибо тебе, Давид. Ну, я поехал. За валютой на Ленинградку. Оттуда позвоню.
Не позвонил. Это уже не удивляет.
Около трех в трубке голос Гастона: Геле опять плохо, он дома, валюты не поменял, там безумная очередь и никакой надежды, и вообще надо срочно сдавать билет, куда ему, к черту, лететь! Какая Голландия?!
Но сдать билет в советской стране – дело не менее сложное, чем приобрести его. Кто покупал, тот и сдает – инициатива наказуема. Давид носится как ошпаренный по этажам «благотворительного министерства» и чудом застает всех кого надо в бухгалтерии и администрации, но около четырех звонит сам Геля – голос почти нормальный – и распоряжается: билет не сдавать, а менять. Дело только в валюте, ведь без денег он не поедет, а здоровье тут вообще ни при чем, и еще надо, очень надо взять у центровского начальства загранпаспорт, поставить в посольстве голландскую визу, опять вернуть начальству, и это все так сложно и ответственно, что никакой Лидочке или Илонке поручить подобное нельзя…
Давид начинает функционировать уже в каком-то автоматическом режиме и успевает все, что можно успеть. Затем решает уточнить у Вергилия планы на следующий день, но к телефону подходит его мама и достаточно невнятно объясняет, что Геля отошел ненадолго, куда – она не знает. С чувством смутной тревоги Давид уходит из конторы, берет такси и едет на Звездный.
А там сидит совершенно замечательная мама Алевтина Ивановна, и Глотков, и Вера, и Толик с Мишей, и даже хомяк Чудик, вот только Гели нет. Он ушел в неизвестном направлении еще часа в четыре, пока мама отлучилась в булочную, не дождавшись, разумеется, Веры с детьми, которых Петр Михалыч только что привез с вокзала.
У Михалыча появляется интересная творческая работа – поставить на место напрочь свороченную раковину в ванной. («Кто же это ее свернул? Ай-ай-ай!») А Давид и Вера сидят на нераспакованных чемоданах посреди комнаты и молча курят, стряхивая пепел на ковер. Как в кошмаре. Потом, словно вдруг очнувшись, выходят на балкон. Вера начинает откровенничать, вспоминает, как они с Гелей нашли друг друга совсем не так давно, Мишка у них общий, Толик – Верин, а у Гели есть еще старший – Данила, который живет отдельно. Вера рассказывает, как тяжело им жилось до ГСМ, как вздохнули теперь… Давид очень скоро перестает ее слушать. Гелина жена выворачивает ему наизнанку «душу номер два». Нет, он не обижается, просто перестает слушать. Ему все понятно. Вера – не Посвященная. Тот же случай, что и с Бергманом. Никогда в жизни любящая женщина не станет рассказывать правду о таком муже случайному человеку. Вот только почему он-то случайный? Неужели Геля не рассказывал? Какой же он чудной, право!
И Давид и Вера, оба страшно психуют и высаживают на пару целую пачку «Явы» за два часа. Но психуют они очень по-разному, каждый по-своему, и оттого не заглушают, а только усиливают тревогу друг друга.
«Кто-то очень не хочет, чтобы Вергилий ехал в Голландию. Вот в чем дело, – рассуждает Давид. – А запой это или злые козни врагов – какая разница, с точки зрения Посвященных любое препятствие является давлением внешним. Разглядеть бы только этих врагов, встретить их во плоти, тогда бы легче стало. Но он все равно победит. Не может не победить. Ведь когда что-то в его жизни особенно важно, включаются скрытые резервы, просыпается alter ego, и это как раз такой случай – он чувствует. И он не сдастся».
А Вера чисто по-женски боится за любимого человека, за здоровье его и за жизнь. Как им понять друг друга?
Особенно интересно, чего боится Михалыч. Он уже третий час возится с раковиной в ванной. Не слишком ли? Ага, закончил. Появляется в комнате. Светлые, очень умные, проницательные глаза. Удивительно приятная манера говорить. Мягкая кошачья походка. Где он мог раньше работать, этот интеллигентный отставной полковник? Ах да, кто-то же говорил ему. Димка, кажется. Глотков до ГСМ был одним из руководящих работников нашего представительства в ООН и вроде бы даже сотрудником секретариата. Полковник. В ООН. Это же КГБ!
Под черепом тихо разрывается бомба. Ну вот и все. Если это КГБ, если Глотков давно их пасет, если Геля пропал не случайно, значит… Да, он, Давид Маревич, Посвященный и просвещенный Владыкой, бессилен что-либо изменить в такой ситуации. Против лома нет приема.
А Петр Михалыч тем временем, адресуясь преимущественно к Алевтине Ивановне, в который уж раз на памяти Давида жалуется на свои крайне неудобные имя и фамилию.
– Представляюсь: Глотков. Мне говорят, понятно: как композитор. Да нет, говорю: композитор – ГлАДков, а я ГлОТков Петр Михайлович. А, говорят, как Достоевский! Да нет же, говорю, Достоевский – Федор Михайлович, а я Петр…
И тогда Давид разворачивается, как сомнамбула, громко прощается, глядя в пространство, и уходит, оставляя всю семью Вергилия Наста на попечение композитору Достоевскому.
– Я позвоню вам, Давид! – кричит вдогонку Вера.
Не позвонит. Он это знает наверняка. Не позвонит.
И не позвонила. А он опять не спал всю ночь.
Восемнадцатое августа. Семь сорок утра. Геля звонит сам. Как ни в чем не бывало. Голос абсолютно трезвый:
– Дейв, касса открывается в восемь, я уже не успеваю, тебе там ближе…
И не завтракая, не умываясь, натягивая майку и застегивая ширинку на лестнице, – бегом. Международная авиакасса на Петровке. Оказался в очереди седьмым. В девять пятьдесят уже свободен. Дату вылета поменял (на двадцать второе, причем через Питер, из Москвы по четным в Голландию не летают), да вот билета не получил. Все несколько сложнее оказалось: штраф – двадцать пять процентов стоимости – принимают только по безналичному расчету. Во идиотизм-то! Кому расскажешь – не поверят. В общем, конца истории не видно.
В состоянии легкого отупения с примесью прямо-таки мальчишеской гордости от сознания важности выполняемого дела, Давид доходит до площади Ногина и от метро звонит Геле. Но автомат глотает единственную двушку, и тогда, вопреки всякой логике, он едет на Звездный бульвар.
Он уже готов не застать там никого, или застать полную квартиру трупов, или…
Нет, у Гели все нормально. Приезду Давида старший товарищ не удивляется. Они вместе завтракают. Говорят о всякой чепухе и упорно обходят скользкие вопросы. Геля иногда держится за сердце и даже не курит. Похоже, ему теперь действительно плохо. Курит только Давид, Геля за компанию выползает на балкон. Стоит, тяжело привалившись к стене. Давид разговаривает с ним почти как с ребенком: «Все будет хорошо, Геля», «Ты не расстраивайся, Геля» и прочие подобные благоглупости.
Так что же, ничего и не было? Было. Меня, брат, не обманешь!
Давид не глубоко, не насквозь, но читает мысли Вергилия. Собственно, в самом верхнем слое – там и читать особо нечего: апатия, раздражение, тошнота, недовольство всеми и всем. Но Давид напрягается и видит вчерашнее. Видит…
Геля покупает у метро в ларьке бутылку очень хорошего французского коньяка, рублей за триста, а потом, высосав ее до половины в кустах за детской площадкой, бросает… нет, задумавшись на секундочку, аккуратно ставит на землю и уходит, уходит далеко, очень далеко, он уговаривает себя не пить, не пить сейчас, не пить сегодня, не пить завтра, не пить вообще никогда, он ходит кругами по Москве, и сначала круги расширяются, расширяются, а потом становятся все уже, уже, все ближе, ближе к тому месту, где он оставил ЕЕ, он сжимает кольцо, он возвращается, уже темно, совсем темно, а бутылки нет. Нет! НЕТ!!!
И тогда он покупает в ларьке самую дешевую водку. И пьет ее из горла в чужом подъезде, и, плача, разбивает о перила едва ли не полную бутылку…
Они беседуют о какой-то чепухе, и Давиду уже почти удается докопаться до третьего слоя, до причин, заставивших Вергилия пить. Жутким, могильным холодом веет от этих причин…
Но тут Геля говорит, вздыхая и морщась:








