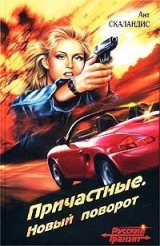
Текст книги "Новый поворот"
Автор книги: Ант Скаландис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Глава третья. ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ
– Поручик, а не пора ли нам пообедать?
Микис одним глазом косился на свой «Ролекс» – в ярких солнечных лучах циферблат часов играл бриллиантами, каждый из которых тянул на добрую тысячу, не меньше, – а другим глазом щурился на собеседника. Было в этом что-то очень неестественное.
– Если учесть, что я сегодня не завтракал…
– Тем более. Пойдемте в кнайпе. Тут на Глюк-штрассе есть чудесный погребок.
Приезжий никогда не сказал бы «кнайпе». Да и погребок на улице Глюка не входил в число самых знаменитых заведений города. Правда, пару лет назад поговаривали, что там встречаются агенты британской разведки. Но при чем здесь это? Симон удержался от вопроса, и некоторое время они шли молча.
– Скажите, Микис, а вы всегда вот так запросто ходите по улицам?
– Да. А что? – живо откликнулся Золотых. – Я же не кинозвезда. Признаюсь вам, терпеть не могу личную охрану.
– Вы хотите сказать, слишком заметную охрану? – спросил Симон и внимательно посмотрел на тяжелый, похоже, бронированный «мерседес», стоявший до сих пор возле парадного подъезда ОСПО, а теперь тихо тронувшийся вслед за ними.
– Браво, штабс-капитан! – похвалил Микис.
– Спасибо. В жандармерии тоже кое-чему учат.
Напряженность между ними все усиливалась, и было такое ощущение, что Золотых это мешает еще больше, чем Граю. Очевидно, он безумно устал от чинопочитания и подобострастия. Но что поделать, уж больно высоко ты залетел, мужик. Учись у царя-батюшки, он-то, наверно, не комплексует. Ну да, ему, родимому, вверх смотреть не надо, только вниз. А ты, Золотых, как ни щурься на народ, другим глазом все равно вынужден на «Ролекс» коситься: сколько там минут до аудиенции у Государя? Пять? И, значит, все, не до вас, мои меньшие братья. Вот такой он неестественный, твой демократизм, товарищ генерал!
Однако сидя в кнайпе со странным поэтичным названием «Цурюкгецогенхайт», то есть «Уединенность», и поедая заливного осетра под легкое пиво, а потом запеченные куриные бедрышки под пиво покрепче, оба они оттаяли. Микис закурил очередную свою аспидно-черную сигарету угрожающего вида и произнес:
– Признайтесь, вы узнали меня?
– Признаюсь: не узнал. Но точно помню: где-то раньше видел. И не по телевизору.
– А меня и не показывают по телевизору. Мы с вами учились вместе. – И Микис добавил после паузы: – Давно это было.
Но Симон уже вспомнил: Москва, Покровский бульвар, Полицейская Академия. Шальные вечеринки и их бессменный тамада – балагур, бабник и пьяница Мишка Тихонов с параллельного потока.
– А почему вы тогда были Тихонов?
– Потому что уже тогда работал на КГБ.
– А почему теперь Микис?
– Так у меня же мать гречанка. Из Абхазии. Это мое настоящее имя. Ну ладно, Симон, наливай, выпьем на брудершафт. Конечно, без всех этих глупостей с переплетением рук и поцелуями. Видишь, как легко переходить обратно на «ты»…
Кого еще он встретит сегодня? Что еще случится? Не иначе, приедет Мария и представится фрейлиной Британского Королевского двора…
Да, конечно, генерал Золотых предпочел иметь дело со старым знакомым, но и послужной список Симона Грая сыграл, надо думать, не последнюю роль. А специально наведенные справки подтвердили уже сложившийся в представлении высокого сановника образ мужественного, очень неглупого, высокопрофессионального, да, небескорыстного, да, любящего выпить, да, неравнодушного к женщинам, но искренне патриотичного, исполнительного, верного Царю и Отечеству российского офицера. Из таких и формировали спокон веку Органы, а сказки о кристально честных фанатиках с чистыми руками, холодными мозгами и раскаленным, как «пламенный мотор», сердцем – все это чушь, равно как и страшилки про бесчувственных монстров, садистов и кровопийц. Сам Золотых по окончании Академии отбарабанил десять лет в разведке. (Вот откуда привычка изучать заранее город, в который едешь, и как бы легендированное общение с любым незнакомцем.) От младшего офицера группы обеспечения в Эквадоре дослужился до резидента в Лондоне. А дальше Метрополия и стремительный, впрочем, уже вполне естественный взлет карьеры, потому что глава резидентуры во вражеском логове – это ведь уровень почти министра.
– Поверь, Симон, уж если я приехал сюда лично, значит, дело дрянь.
Вот этого он мог бы и не говорить. От папочки, набитой столь разнородными материалами, за версту веяло то ли чертовщиной, то ли цареубийством и государственным переворотом.
– Как погиб этот Роликов? Расскажи.
На улице было тепло, почти жарко, после уютного погребка хотелось опять куда-нибудь в прохладу, и они сами не заметили, как вышли к Замковому пруду.
Полковник Роликов, служебное имя – Верд, был одним из лучших следователей Второго управления. Работал в Кенигсберге конспиративно под именем Кнута Найгеля почти месяц. Жил на побережье, в Кранце, – лето все-таки. В город наезжал как бы невзначай, контакты устанавливал исключительно осторожно, информацию получал только по спецканалам и напарников, даже для подстраховки, не имел. Убили его минувшей ночью там же, в Кранце, а вместе с ним и хозяйку дома. Бедняга некстати оказалась рядом и тоже получила пулю в затылок. Расследование, порученное Верду, курировал лично генерал Золотых. Вот почему он прилетел в Кенигсберг уже через час после того, как Роликов не вышел на очередной сеанс связи.
– Наши сотрудники сделали все необходимое, – пояснил Микис. – Теперь это дело будет вести твой заместитель по отделу убийств Дягилев. К сожалению, в интересах следствия ему не предоставят нашей информации. Пусть отрабатывает чисто уголовную версию.
– А разумно ли это? – удивился Симон.
– Разумно, – жестко ответил Микис. – И никакой самодеятельности! Исключительно ты и Бжегунь будете в курсе. И то Бжегунь лишь предупрежден о нашем контроле за расследованием и о необходимости ежедневных отчетов. Полная информация в том объеме, каким владел Верд, будет только у тебя.
– Спасибо, – медленно проговорил Симон. – А мне предоставят охрану?
Они уже обогнули пруд и, перейдя его теперь по мостику, двинулись обратно, к Северному вокзалу и дальше, в сторону Западной окраины. Микис долго молчал, и Симон подумал, что задал риторический вопрос или попросту неудачно пошутил. Он же солдат, первый раз, что ли, на смерть посылают? Но Микис, вдруг повернувшись, печально сказал:
– Нет, Симон, тебе не понадобится охрана. Видишь ли, мы тут столкнулись с такими силами, от которых охрана не спасает…
Последняя фраза далась генералу с трудом, и Симон, еще произнося полунебрежно «Ой ли!», перехватил его взгляд и буквально поперхнулся: было в этом взгляде нечто совершенно неуместное – не страх, нет, а какая-то почти детская растерянность и обида.
– Так у КГБ есть своя версия происходящего?
– Есть. Мы считаем, что все это – заговор Посвященных.
Симон вздрогнул. Где он слышал уже однажды такое сочетание слов? Ах да, фантастический роман, который цитировала ему Клара. Господи, как же все перемешалось! Какой еще заговор?!
– Какой еще заговор? – непочтительно вопросил Грай, но это получилось автоматически, машинально – продолжение мыслей вслух.
– Обыкновенный заговор. – Микис грустно улыбнулся. – Люди чудныiе, ситуация дикая, а заговор совершенно обыкновенный. Ты должен это понять. Вот скажи: среди документов из папки Верда было что-то новое для тебя?
– По сути? – задумался Симон. – По сути практически ничего. Эти материалы так или иначе проходили через мои руки. Вот только сваливание всей пестрой разнобобицы в одну кучу, пожалуй, ново.
– Это понятно. Ну а справку о Посвященных ты успел прочесть?
– Ты не просил читать. Я просмотрел.
– О Посвященных – это самое главное. Прочтешь внимательно. А сейчас… – Он снова посмотрел на часы.
У меня не слишком много времени. Поэтому в первую очередь я буду рассказывать то, что от других ты вряд ли сможешь услышать.
Теперь они сидели на трибунах пустующего в этот час стадиона «Балтика» и снова потягивали пиво.
– А ты действительно не любишь свою охрану, – заметил Симон Грай. Весь день мотал их, бедняжек, по городу. В экстремальных условиях ребята ишачили. Пускай хоть теперь отдохнут.
– А-а, оставь, Симон! Все это такая ерунда…
– И ты на самом деле не боишься вражеских агентов, покушений? Ведь обстановка, сам сказал, дрянь.
– Дрянь. Но я действительно не боюсь никаких обычных опасностей. Видишь ли, я так давно думаю о Посвященных, что иногда мне кажется, будто я сам Посвященный, потому и не боюсь смерти.
– А такое может казаться? – спросил Симон.
– В том-то и дело, что нет. Посвященный всегда знает, что он Посвященный. Обязательно знает.
Вдалеке раздался громкий и очень неприятный звук: долгое тоскливое «у-у-у-у» нарастало крещендо, потом стихало медленно и вновь взмывало высоко к небесам. Очень похоже на сирену полиции или «скорой помощи», но все-таки не сирена.
Микис встрепенулся, едва не выхватывая оружие. Даже телохранитель вынужден был обнаружить себя, показываясь в проходе под трибуной.
– Моя машина! – И повторил с некоторым сомнением в голосе: – Моя машина?..
Симон улыбнулся, уже догадавшись, что это.
– Это со стороны Тиргартенштрассе.
– Правильно, я там и оставил автомобиль.
– Это не автомобиль, мой генерал, это гиббон.
– Что?!
– Ты немецкий знаешь?
– Немножко.
– Хватит и немножко. Это же Зоологическая улица. Город он изучал! Великий шпион. Там же зоопарк, а в зоопарке паукообразный гиббон. Он часто так кричит. Кушать хочет, наверно…
Взгляд Золотых сделался вдруг стеклянным, и Симона мгновенно бросило в жар. Что это он разболтался, как с приятелем на дежурстве? Дружба дружбой, но ведь нельзя забывать, кто перед тобой.
Генерал нервно хохотнул и отчеканил ледяным тоном:
– У нас мало времени, поручик. Слушайте.
Да, именно так: слушайТЕ.
– В КГБ очень давно интересовались Посвященными.
К девяностому году ими занимался уже целый отдел в Пятом главном управлении. А потом случился девяносто первый год, и Пятого управления не стало. С легкой руки известных товарищей. Что в таких случаях происходит с архивами? По-хорошему, в цивилизованных странах, например, их четко, по описи, передают правопреемникам. Но где уж там по-хорошему, когда подвешивают на тросе бронзового «железного Феликса», а на красный флаг нашивают сверху полоски не совсем привычных цветов. Тут уж спасайся кто может, и архивы, конечно, уничтожались. О, как стремительно канули в вечность колоссальные материалы по карательной психиатрии, как растворились в небытии тонны доносов, приговоров, протоколов, списки сексотов, палачей, труды теоретиков идеологического фронта! Конечно, уничтожили не все. Единодушия не было. Каждый норовил порубить в капусту и сжечь все про себя, а про другого норовил сохранить, спрятать, предать огласке. Впрочем, до последнего дело практически не дошло, а уж кто что и где сохранил – вопрос особый. Мне об этом по определению, то есть по положению, известно если не все, то почти все, но пусть эти зловонные бумажки, пленки и дискетки, сочащиеся ядом, догнивают все в тех же сейфах, может, хозяева хранилищ задохнутся наконец от гадких испарений – туда им и дорога, да и вообще не о них речь. А речь о том, что все архивы отдела, занимавшегося Посвященными, исчезли полностью и без малейших следов уничтожения. Словно и не было их. Кто-то воспользовался моментом, и воспользовался просто виртуозно. Это первое.
Второе. Посвященные действительно точно знают, что после смерти будут жить. И даже если рассматривать такую особенность как разновидность психического отклонения, все равно это очень важно. Ведь подобное отклонение не мешает индивиду оставаться социально полноценным, а сама по себе искренняя убежденность (не вера, а именно убежденность!) в собственном бессмертии, вне всяких сомнений, формирует принципиально новый тип человека. И уже в этом мы всегда видели угрозу нашей государственности, нашей вере, нашему миру.
Третье. Что, если Посвященные действительно каким-то образом научились видеть тот свет? Вспомни работы Калиновского, Моуди, Кюблер-Росс. Ах да, ты же ничего этого не знаешь. Тебе еще предстоит прочесть. В общем, речь там идет об однотипности видений тех, кто пережил клиническую смерть. «Ну и что? – спросят нас. – Пусть лицезреют тот свет при жизни. В чем опасность?» Так ведь это же грех. Не можно это: по собственному желанию туда и обратно. Если они умеют такое, значит, рано или поздно прогневают Бога и разрушат наш мир. А они, похоже, это умеют.
Четвертое. И последнее. Мне удалось найти одного – только одного! сотрудника того отдела. Теперь уже и он умер. Штатный офицер госбезопасности. Он был почти невменяем, когда мы разговаривали. Он цитировал канонические тексты Посвященных, тексты, как он уверял, нигде не записанные, и мне записывать не велел. Правда, только на бумаге – на пленку, сказал, можно. Я обещал и сдержал обещание. Кое-что из той записи я помню наизусть. Ну вот, например:
Кончаясь, человек не умирает
он просто переходит в мир иной,
на следующий уровень Вселенной.
Ведь мир един, и уровней в нем девять…
Дальше очень длинно и нудно об этих девяти уровнях, о концепции «восьмого цвета радуги», но вот еще одна цитата, слушай:
Да, возвращенье в прежний мир возможно,
но Демиурги это запрещают,
движенье вспять противно естеству…
Симон слушал, но был уже не здесь. Стадион вдруг представился ему жерлом проснувшегося вулкана, пожухлая трава футбольного поля заколыхалась, вскипела и стала подниматься, как раскаленная лава, выше, выше, растворяя одну за другой бетонные ступеньки, сжигая прилепленные к ним легкие пластиковые кресла, а в небе расцветали ядовито-яркие, одна на другую наползающие радуги…
Симон закрыл глаза и помотал головой, стряхивая наваждение.
– …один из возможных путей человечества, – откуда-то издалека проговорил Микис. – Вот, собственно, и все, мой друг. Время наше истекает. – Теперь он был совсем рядом и приветливо смотрел на Симона. – Ты что-то хотел сказать?
Симон многое хотел сказать. Например, о фантастическом романе «Заговор Посвященных». Ведь не бывает таких совпадений. Таких страшных совпадений. О клочке бумаги с телефоном, найденным в лифте, в луже крови. Ведь именно для того и скрыл он находку от родной жандармерии – предвидел, предчувствовал, что станет осом и именно чекистам доверит главную тайну. И еще хотел сказать о Ланселоте, что не враг он и не ханурик, – ну хотя бы для того, чтобы не замели его лучшего агента под горячую руку… Но Симон вдруг понял, что ничего этого говорить не надо. Может быть, даже нельзя. Во всяком случае, сейчас. И он так и ответил придворному генералу:
– Не сейчас.
– Правильно, – одобрил Микис, – не торопись. Я дал тебе вводную. Пока достаточно. Материала много, очень много. Его надо освоить, осмыслить. Конечно, ты должен все делать быстро, но не спеша. Фи, какие банальности я объясняю опытному жандарму! И последнее. Зайди в Обком. У тебя же есть туда доступ. Побеседуй с ними. С Владыкой побеседуй. Лучше прямо сегодня. Ферштейн? Или ты немецкого не знаешь? – подколол напоследок.
Симон улыбнулся. Они уже стояли у ворот стадиона на улице. Микис собирался идти к своей машине в сторону зоопарка, Симон – к своей, припаркованной напротив ОСПО, и начальник отдавал последние распоряжения:
– Связь со мной через Хачикяна. И только на крайний, исключительный случай – вот этот прямой телефон. – Он протянул визитку. – Уже через два часа я должен быть при дворе… Бог мой! Чуть не забыл. («Лукавит, подумал Симон, – такие люди, как Золотых, ничего не забывают».)
В папке Верда не хватало еще одного документа. Он не успел получить его, а только запросил из Санкт-Петербурга. У нас никто не понял, зачем. Документ называется «Историческая справка об изобретении препарата хэдейкин».
– Принято, – сказал Симон. – До свидания.
Пожал протянутую руку и почти тут же закрыл глаза, потому что ощутил острую головную боль.
«Этого не может быть, – убеждал он себя. – Боль не может отвечать на мои мысли. Так не бывает».
Но боль отвечала. Он раскрыл глаза и зачем-то посмотрел на солнце. Солнце было черным. Он еще раз закрыл их и снова открыл, а потом посмотрел просто вдаль. Не мираж и не дьявол, а Микис Антипович Золотых в штатском и без свиты уходил по улице в сторону зоопарка порывистой мягкой походкой.
«Перебор, – думал Симон Грай. – Явный перебор».
Мог ли он знать в тот момент, что это еще далеко не все.
А из обезьянника, протянувшегося аккурат вдоль Тиргартенштрассе, снова закричал паукообразный гиббон. Закричал протяжно, тоскливо, жалобно и очень громко.
Глава четвертая. «ВСЮДУ СИЛЬНО ПАХЛО ВАСИЛЬКОМ»
Он развернулся на Кантштрассе и оставил машину прямо возле двуязычной медной таблички с длинной цитатой из великого мыслителя. Вышел, хлопнул дверцей, тупо посмотрел на цепочки выпуклых букв, сложившихся в длинную фразу: «Захочет ли какой-либо здравомыслящий человек, проживший достаточно долгое время и размышлявший о значении человеческого существования, снова заняться этой скучной жизненной игрой не то что на прежних условиях, но и вообще на каких бы то ни было?» Подпись стояла – Иммануил Кант, и даже название статьи указано – «О неудачах всех философских попыток теодицеи».
Что?!! Какой, к черту, теодицеи?
Симон помотал головой, стряхивая наваждение. Конечно, цитата на табличке была прежняя: «Две вещи наполняют душу все новым и растущим восхищением и благоговением по мере того, как задумываешься над ними все глубже и дольше: звездное небо надо мною и моральный закон во мне».
Да, не слишком складно переведено, но не менее глубоко, только уж очень хорошо знакомо, над смыслом не задумываешься.
А этот-то текст о повторной жизни откуда вылез? Грай отродясь не брал в руки книг с трудами Канта, а уж наизусть учить… Меж тем, мысль оказалась прелюбопытная! Действительно, какого лешего жить по второму разу? Правда, ему, Симону, никто этого пока и не предлагал. А вот ханурики, похоже, считают иначе. По их понятиям, жизнь после смерти – дело обыкновенное.
Кстати, о хануриках. Что-то вдруг расхотелось сворачивать к их обветшалой обители. В этот тихий теплый вечер ощущалась необходимость пройтись, поразмышлять о последних загадках, настроиться соответствующим образом.
И он зашагал вдоль по улице, прямо и на мост. Да, зайти в Обком сегодня необходимо, но ведь у тамошних шизиков жизнь бьет ключом круглосуточно – можно и ночью заглянуть.
Симон спустился по лесенке на Остров, побродил меж зеленых от патины статуй и начинающих желтеть деревьев, набрел на роскошную бронзовую кошку с блестящей спиной, отполированной тысячами людей, традиционно считавших эту скульптуру лавочкой, постоял, вспоминая, как они фотографировались здесь с Марией в год свадьбы. Потом прошелся к Могиле. Так ее здесь и называли просто Могила. Симон действительно никогда не читал философа Канта (да и какой нормальный человек станет читать эту мудреную заумь?), толком даже не знал, чем знаменит старик Иммануил, кроме своей немецкой педантичности, благодаря которой жители Кенигсберга в восемнадцатом веке сверяли по нему часы. Ничего не знал Симон о Канте, но к могиле его подходил всякий раз с непонятным трепетом, стоял перед решеточкой пантеона, не решаясь ступить внутрь, и невольно начинал сам незатейливо философствовать.
Восемьдесят лет прожил на свете знаменитый немец, и мир вокруг него преображался, конечно, потихонечку, но в целом был все такой же нормальная добропорядочная Восточная Пруссия, даже в те недолгие четыре года, когда земля эта принадлежала русской короне. Что там могло всерьез измениться? А потом прошло еще восемьдесят лет, и мир начал трескаться, сыпаться: революции, войны, заговоры, перевороты случались все чаще, историческое пространство уплотнилось и налилось кровью, которая по-настоящему выплеснулась уже в следующем восьмидесятилетии. Началось такое!.. Во времена Канта даже сумасшедший не сумел бы ничего подобного нафантазировать.
Симон и сам не заметил, как вошел в кирху, бывшую когда-то костелом, присел на скамейку с краю и стал слушать орган. Людей под высоченными сводами сидело совсем немного, и оттого возникало ощущение одиночества и вселенской грусти, а может, это музыка была такая. Во всяком случае, мысли его продолжали течь плавно и печально.
Следующие восемьдесят лет попали на первую половину двадцатого века. Веселенькое время. Да, карту Европы кроили не впервые, но придумать «польский коридор»!
И города переименовывали не впервые, но назвать древний Кенигсберг именем ничтожества – всесоюзного старосты с козлиной бородкой! Да и крепости тоже разрушали не впервые. В боях. Но чтобы не оставить камня на камне от овеянных славой замков и храмов в мирное время!.. (Почему-то именно эта мысль особенно раздражала Симона.) А потом прошло еще восемьдесят лет… Нет, восемьдесят еще не прошло, подумал он, всего только пятьдесят три, но, черт возьми, как же немыслимо, непредставимо переменилось все еще раз! Или еще два раза? Где он, тот мир, который начал разваливаться в восемьдесят пятом? И где уже совсем другой мир, который, недоразвалившись, вдруг стремительно склеился в нечто совсем третье к две тысячи шестому? Как это все случилось, черт возьми?!
Черта он поминал уже не в храме Божьем. Симон опять стоял на мосту, любовался падающим в реку Прегель солнцем и полыхающей в его закатных лучах величественной красной свечкой Кафедрального собора с золотым рождественским бантиком часов у основания шпиля. Симон был атеист, в церквах ценил прежде всего архитектурные достоинства, и снаружи они нравились ему, как правило, больше. Сейчас, уставший за день от смены впечатлений и расслабленный, он залюбовался сдержанной и строгой красотой любимого города. Залюбовался так, что не заметил подошедшего человека, для жандарма (пардон, для оса, для оса тем более!) дело абсолютно недопустимое. А человек не просто подошел – человек налетел на него, тоже, наверное, не заметил. Какое трогательное совпадение! Особенно трогательно было то, что это оказалась девушка. Неземной красоты. Наипошлейшее определение, но другого Симон придумать не смог.
У нее были очень, ну о-очень светлые пышные волосы и темные, ну почти черные огромные глаза на смуглом – не загорелом, а именно по-южному смуглом – лице. Сочетание, практически не встречающееся в природе, да и перекрасить брюнетку вот так невозможно. Впрочем, что он понимает в современной косметологии? Ничего. И тем не менее он был уверен: при всей неестественности это исключительно натуральный цвет волос. Господи! Да какая, в конце концов, разница? Почему он вообще думает об этом?
– Простите, – в растерянности проговорил Симон Грай, делая шаг назад как бы из вежливости, но на самом деле перегораживая незнакомке проход. (Случайно? Невольно? Подсознательно?) Он все еще продолжал ощущать на своей руке горячий укол ее твердого соска и волшебный жар на миг прильнувшего и тут же отпрянувшего тела. Словно ему сделали какую-то прививку, а потом мягкой теплой ладошкой нежно успокоили потревоженное место.
– Простите…
– Какого черта?! Я спешу. И зачем вы оказались у меня на дороге? Проклятие!.. – Девушка говорила, точнее ругалась, по-немецки, и когда она обозвала его «лысой потной задницей взбесившегося бегемота» (разумеется, на немецком все это было одним словом), Симон наконец не выдержал и предложил:
– Sorry, let's speak English*.
Теперь он смотрел на ее удивительные, возбуждающие губы. Кажется, принято говорить «чувственные», но он еще не знал, что они там у нее чувствуют, а вот его возбуждали – это точно. Потом стал медленно опускать взгляд: тонкая изящная шея с трогательной ямочкой внизу и – потрясающая высокая грудь, сладострастно облепленная тончайшей пленкой биошелка. Вот почему он так остро ощутил это столкновение – на незнакомке было платье из новомодного материала, только модель почему-то прошлогодняя – слишком короткая для нынешнего сезона и откровенно двухцветная, типа «инь-ян». Он сразу вспомнил Марию. В последний раз она приезжала как раз в таком.
И ее немецкий он вспомнил, с такими вычурными оборотами, что иногда Симон не успевал улавливать смысл. И очень не хотелось теперь говорить по-немецки. А государственного языка второй половины мира не могла не знать даже эта странная красавица, даже с такими невероятными волосами. Вот почему он предложил:
– Давайте будем говорить по-английски.
– Зачем? – удивилась вдруг она на чистом русском. – Зачем мне с вами вообще говорить. Я хотела прыгнуть туда, – девушка показала рукой на серые волны Прегеля, – а вы мне помешали.
Слова прозвучали абсолютно серьезно, и Симон испугался. Не того, что она сейчас прыгнет, а того, что она не в себе. Такая красивая и… вдруг. Зачем все так нелепо в этот день? Симон уже решил про себя не расставаться с загадочной незнакомкой. Почему? Он не взялся бы объяснить. Просто чувствовал: он уже повязан, «прививка» начала действовать. Не покидать ее, не отпускать, не терять, придумать любой повод, любую зацепку…
– Разве это плохо? – спросил он.
– Что?
– Что я помешал вам.
– Не знаю, теперь уже не знаю…
Разговор не клеился, не клеился разговор, сейчас она уйдет, повернется и уйдет, Господи, о чем еще спросить ее?
– Как вас зовут? – выпалил Симон, словно мальчик-гимназист на первом совместном с девочками рождественском утреннике.
Незнакомка улыбнулась странно, одними губами, глаза оставались холодными, далекими, она прикрыла их, и это было фантастически эротично то ли улыбка, то ли приглашение войти, – улыбнулась и тихо сказала:
– Изольда.
И снова открыла глаза. В глазах был лед. Твердый, обжигающе холодный. Все. Он проиграл.
«Изо льда?» – вспомнилась чья-то изящная шутка по поводу этого редкого имени, но было бы уж слишком глупо шутить с человеком, минуту назад собиравшимся наложить на себя руки, и Симон потерянно замолчал. Финиш. Больше он был ни на что неспособен. Разве что самому кинуться с моста в реку. Да уж лучше так, чем расстаться с этой девушкой.
И тут Изольда вдруг снова закрыла глаза и зашептала жарко, как в бреду:
– Не бросай меня, не оставляй меня одну, я не могу сегодня быть одна, не могу, поехали, скорее поехали отсюда…
Это был текст из какой-то другой пьесы, и Симон снова испугался. Так все-таки бред или чтение мыслей?
– Вы даже не знаете, кто я, – осторожно проговорил он. – Почему же обращаетесь именно ко мне?
– Это неважно, неважно, – вполне разумно ответила Изольда, – я просто не могу сегодня быть одна, правда не могу… – И добавила уже совсем жалобно: – Не бросай меня, пожалуйста…
Глаза ее по-прежнему были закрыты, и она, как слепая, почти судорожно нашарила его руку и ухватилась за локоть и запястье. Ладони были горячими и влажными.
– Пошли, – скомандовал он решительно.
Привычная спокойная уверенность в себе постепенно возвращалась, и Симон по-отечески обнял вдруг начавшие вздрагивать тонкие плечи Изольды.
– Поедем ко мне, я только должен еще зайти в Обком.
Реакция была более чем неожиданной. Изольда вырвалась, отпрянула и широко раскрыла глаза. В них больше не было никакого льда, в них полыхало нечто совсем нездешнее.
– Ты что? – спросил он, уже уставший пугаться.
– Не ходи туда.
– Почему?
– Не ходи туда сегодня. Не надо, я уже была там, я тебе все расскажу потом. А сейчас не ходи. Нельзя.
– Да почему же?!
Пламя в ее глазах чуть попритухло, и она сказала явно не то, что думала:
– Я не смогу идти туда еще раз, а ты обещал не бросать меня.
Ничего такого он не обещал ей, вообще ничего не обещал, но… В который раз за сегодня он принимал решение, противоречащее всем правилам, всем законам, всем доводам разума. Но уж играть в эту игру, так до конца.
– Хорошо, – сказал он, – едем ко мне домой.
Возле машины вертелся мелкий неопрятный мужичок из породы уличных попрошаек. Симон таких терпеть не мог и, хотя регулярная борьба с ними была не его профилем, старался при малейшей возможности закатывать бродяг под арест и приставлять к ним какого-нибудь рьяного молодого сержанта для наиболее эффективного промывания мозгов. Сейчас ему было явно не до этого и, услышав омерзительно жалобное: «Господин, подайте несчастному!», Симон чуть не отпихнул бродяжку ногой. Но когда они с Изольдой сели в машину, неумытая рожа придвинулась почти вплотную и шепнула:
– Вас ищет Лэн.
Симон поглядел укоризненно: мол, чего сразу не сказал. Бродяжка улыбнулся: конспирация. Молодец, похвалил Симон, заканчивая этот разговор одними глазами.
А мужичонка уже гундосил снова:
– Подайте, господин, подайте несчастному…
Симон пошарил в кармане и протянул ему два пятиалтынных серебром.
– Не надирайся только, употреби во благо, – посоветовал он на прощание и дал по газам.
– Куда мы едем? – встрепенулась вдруг Изольда.
– Так ведь ко мне домой, – недоуменно оглянулся на нее Симон.
– Нет, я спрашиваю, где это.
– Адлервег, у самой кольцевой.
Ответ вполне устроил ее, но когда у поворота на Фритценервег он помигал, а потом, спохватившись, взял влево и двинул дальше по Замиттер-аллее, Изольда снова испуганно спросила:
– Почему мы здесь не повернули?
– Потому что на Хоффман-штрассе опять чего-то роют и надо пилить в объезд по Друмман и Швальбенвег. Ты хорошо знаешь город?
– Я вообще его не знаю. Я здесь первый раз.
Это был ответ, достойный ее белокурой шевелюры и нелепой попытки суицида.
– Да ты откуда, Изольда? Может быть, ты пришла прямо из древней легенды, и суровые скалы Корнуолла милее твоему сердцу, чем песчаные обрывы Янтарного берега? («Во завернул! – сам себя не узнал Симон. – Не иначе влюбился. Седина в бороду – бес в ребро».)
А Изольда вдруг оттаяла, улыбнулась как старому знакомому и ответила:
– Типа того. Я из Москвы.
Странно. Ведь ей было не больше двадцати. Молодежь так не говорила сегодня. Сказала бы «из Метрополии» или в крайнем случае (есть чудаки, которые не любят этого слова) – «из Большой Столицы». Точно так же никто не скажет «Санкт-Петербург» – скажут «Питер» или «Малая Столица». Чудно.
– Все это случилось так нежданно, – произнесла вдруг Изольда.
– Что именно? – поинтересовался Симон.
Но она не ответила, а продолжала говорить свое, и Симон вдруг понял, что девушка читает стихи.
Все это случилось так нежданно!
Вечерело. Около шести
Старенькая сгорбленная Ханна
Собралась зачем-то в лес пойти…
«До чего же чудное стихотворение!» – думал Симон, ощущая себя уже где-то совсем не здесь, а в далеком странном мире сумрачных лесов, согбенных старух и скрипучих калиток, в мире, где на дорожку пили не рюмку водки, а настойку девясила…
…И скакала бабушка-колдунья
По болоту прямо босиком.
Все это случилось в полнолунье.
Всюду сильно пахло васильком.
«Во Франции венки из васильков кладут на могилы погибших солдат», вспомнилось вдруг Симону, он только плохо представлял себе, какой у василька запах.








