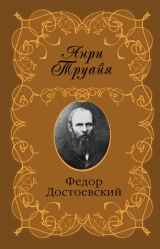
Текст книги "Федор Достоевский"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Загадочная личность Спешнева, которого Достоевский назовет своим «Мефистофелем», окажет на Федора Михайловича поистине пагубное влияние. Достоевский ненавидит Спешнева за его ледяную иронию, за его откровенный атеизм. И, однако, не может вырваться из-под его влияния. Спешнев не похож на простого смертного. В нем есть некая инфернальность, непреклонная решимость, холодное высокомерие, которые замораживают всякую симпатию к нему. Его невозможно любить. Можно или воспротивиться его властной силе, или ей подчиниться. И Достоевский – с печалью, отвращением, страхом все больше подпадает под его завораживающее обаяние. В минуту отчаяния и слабости он берет у Спешнева в долг 500 рублей серебром, и этот долг терзает и тяготит его. Он становится раздражительным, угрюмым, придирчивым. Доктору Яновскому, уверявшему его, что угнетенное состояние духа его скоро пройдет, он возражает: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги… и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек… Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».
Мефистофель!.. Невольно мысли обращаются к тем бесам, к тем двойникам, – к обезображенным отражениям героев Достоевского, – которые так и кишат на страницах его произведений. Несомненно, Достоевский разглядел в революционере Спешневе воплощение своего собственного либерализма в его завершенной – уродливой форме. Федор Михайлович хотел – самое большее – облегчить положение крестьян, пересмотреть законы цензуры, привлечь внимание царя к вопиющей нищете страны, но когда эти же идеи развивал Спешнев, они заканчивались призывом к бунту и кровопролитию.
То, что у одного едва намечено, у другого доходит до абсурда. И при этом не приводит к разрыву. Достоевский – начало Спешнева. Спешнев – завершение Достоевского. Спешнев – извращенный Достоевский. Спешнев – кара Достоевского.
«…все, что ни есть… давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, – ты мне же подносишь как какую-то новость!.. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?»
Нужно было отступить, порвать с таким опасным сотоварищем, но Достоевский уже попал в переплет, – он уже превратился в жертву.
Шестеренки затянули его, и от мысли о непоправимости происшедшего голова его идет кругом. Он теряется от жуткого сознания своей зависимости. И сам предлагает Спешневу создать узкий кружок из четырех, максимум из шести человек. Спешнев соглашается. Обсуждают вопрос о приобретении тайком ручного печатного станка для распространения в народе зажигательных прокламаций. Филиппов делает чертежи аппарата, и его заказывают по частям в разных мастерских Петербурга. Готовый станок прячут в доме одного из заговорщиков, и каким-то чудом его не обнаружат при обыске.
Достоевский не ограничивается организацией тайного общества вокруг Спешнева, – он старается завербовать в него новых членов. В марте 1849 года он наносит визит Аполлону Майкову, остается у него ночевать на диване, стоявшем напротив кровати хозяина. Когда друзья готовятся ко сну, Достоевский приступает к революционной пропаганде.
«Петрашевский, – говорит он, – дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут».
Речь идет о заговоре Спешнева, Филиппова, Достоевского и их друзей. Майков отказывается присоединиться к новому кружку. «Я доказывал, – пишет он в письме к Висковатову, – легкомыслие и беспокойность такого дела и что они идут на явную гибель. Да притом – это мой главный аргумент – мы с вами (с Федором Михайловичем) поэты, следовательно, люди непрактические, и своих дел не справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая способность.
И помню я, – продолжает Майков, – Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр.».
Утром, расставаясь с Майковым, Достоевский заклинал его никому не говорить об этом ни слова.
27 февраля 1849 года в III Отделении стало известно, что у «коммуниста» Петрашевского собираются по пятницам «гимназисты, либералы и студенты Университета».
Граф Орлов, генерал, шеф жандармов поручает чиновнику Министерства внутренних дел Липранди расследовать это дело. Почти целый год Липранди искал образцового шпиона, который, по его словам, «должен был… стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить… и… стать выше предрассудка… который… пятнает ненавистным именем доносчика». Он нашел этот редкостный перл в личности Антонелли.
Антонелли, сын художника-итальянца, академика живописи, – блондин с большим носом, со светлыми бегающими глазками и манерами, услужливыми, как у уличного разносчика. Он учился в Петербургском университете, а теперь чиновник Министерства иностранных дел. Он согласился выполнить возложенную на него миссию при условии, что его имя не будет упомянуто ни в одном досье.
11 марта 1849 года Антонелли впервые появляется на «пятнице» Петрашевского. Он держится несколько скованно, несколько смущенно. Его жилет красного цвета привлекает все взгляды. Он угощает всех дорогими сигарами. Вступает в общую беседу, высказывает либеральные идеи, пытаясь спровоцировать резкие выпады против правительства и против Церкви.
«Для чего он здесь бывает? – спрашивает Кузьмин у Баласогло, и тот отвечает: „Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице“».
С этого дня Антонелли постоянно посещает «пятницы» Петрашевского. Он бывает также на собраниях, устраиваемых другими членами кружка. Вернувшись к себе, он подробно записывает все, что видел и слышал в течение вечера и передает донесения в Министерство внутренних дел, где Липранди их изучает и сводит воедино.
Однако улики, собранные против «петрашевцев», жидковаты: какие-то общие разглагольствования, невразумительная критика… Антонелли разочарован: не доверяют ли ему заговорщики или же они всего-навсего безобидные школяры?
Как-то Достоевский приходит к Дурову, и тот передает ему копию знаменитого письма Белинского к Гоголю. Эту копию прислал из Москвы Плещеев. Федор Михайлович показывает письмо Пальму, Момбелли, Иванову и обещает Петрашевскому прочесть письмо на одной из «пятниц».
Идет март 1849 года. 15 апреля Достоевский исполняет свое обещание. Позже Достоевский будет отрицать, что одобрял содержание этого брызжущего ненавистью послания: «Да, я прочел эту статью, – пишет он в объяснениях Следственной комиссии, – но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее?.. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), выставляя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать?.. я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием».
Антонелли слушал, как падают на это собрание обреченных, подобно словам приговора, одна за другой фразы:
«Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми… Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством…
Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия».
Молодые люди прерывают чтение бранью, смехом, аплодисментами. Их песенка спета, – Антонелли мысленно уже составляет подробный донос.
Следующие собрания были не менее урожайными для агента Министерства внутренних дел. Так, на обеде у Спешнева Достоевский присутствует на чтении Григорьевым «Солдатской беседы», сочинения, осужденного следствием как «статья преступного содержания, направленная против армии и правительства».
Несколькими днями раньше на квартире заговорщика Европеуса был устроен обед в честь Шарля Фурье. Достоевский на нем не присутствовал. Праздник удался. Петрашевский, бывший в тот день в ударе, закончил свою речь словами: «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо же приговор наш исполнить». Что же до маленького Ахшарумова, то он потребовал в резких выражениях отменить семью, собственность, государство, уничтожить законы и армию, разрушить города и храмы. После чего сел с удовлетворением человека, исполнившего свой долг.
Донос Антонелли, содержащий все эти опасные для общественного порядка сведения, генерал граф Орлов вместе с запиской о всем деле передает Николаю I. Читая эти страницы, император, должно быть, вспоминал о декабристах, в которых ему пришлось стрелять в день восшествия на престол. Главарей восстания он приказал повесить или сослать в Сибирь. И вот перед его судом предстали их наследники. Неужто нет конца борьбе с западной заразой? В страхе перед повторением мятежа 1825 года он преувеличивает опасность и замышляет примерно наказать заговорщиков:
«Я все прочел, – пишет он на полях записки, – дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь… С Богом! Да будет воля Его».
Орлов рассылает предписания. 22 апреля 1849 года майор жандармского дивизиона Чудинов получает приказ: «Арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского».
22 апреля – пятница. Федор Михайлович, как обычно, отправился к Петрашевскому, обсуждалось издание журнала. Под моросящим холодным дождем он возвращается к себе в 4 часа утра, уставший, промокший. Он раздевается, ложится спать и тотчас засыпает. Примерно через час он сквозь сон слышит какие-то голоса и бряцанье сабли. Он открывает глаза и видит: лампа зажжена, а перед ним стоят частный пристав и офицер с подполковничьими эполетами, у двери – солдат.
– Вставайте… По повелению…
– Позвольте ж мне, – начинает ошеломленный Достоевский.
– Ничего, ничего! одевайтесь… Мы подождем-с, – говорит офицер. У него приятные манеры и мягкий голос. Достоевский успокаивается. Речь может идти только о каком-то недоразумении. Его уведут, допросят и сразу отпустят. Какое он совершил преступление, чтобы его брать под стражу?
Пока он одевается, незваные гости просматривают книги, рукописи, потом складывают бумаги и письма и аккуратно связывают их веревочкой. Пристав заглядывает в печку и шарит в золе чубуком трубки Достоевского. Унтер-офицер встает на стул и лезет на печь, но срывается и падает на стул, а потом вместе со стулом на пол. Пристав замечает на столе старый погнутый пятак и внимательно его разглядывает.
– Уж не фальшивый ли? – спрашивает Достоевский.
– Гм… Это, однако, надо исследовать, – бормочет тот и присоединяет монету к другим вещественным доказательствам. Достоевский торопливо оделся. Все выходят из комнаты. У подъезда стоит карета. Хозяйка и ее слуга качают головами, наблюдая, как жандармы вталкивают их жильца в карету. Карета трогается и двигается сквозь предрассветный туман. На улицах холодно и пусто.
Глава II
Тюрьма
Во двор III Отделения въезжают кареты, разворачиваются, останавливаются.
Из карет высаживают обвиняемых, свезенных со всех концов Петербурга. Устанавливают их личность и проводят в большой зал. У входа в каждое помещение стоят солдаты, с ружьем к ноге. Лица угрюмы, бледны, заспанны. Достоевский узнает нескольких друзей, тут же и его брат Андрей:
– Брат, ты зачем здесь? – едва успевает он спросить, как их разлучают.
Обвиняемые окружают одного из чиновников. В руках у него список. Достоевский замечает перед именем Антонелли написанные карандашом слова: «А. – агент по наряженному делу».
В тот же день Михаил Достоевский в полуобморочном состоянии приходит к Милюкову. Милюков вспоминает:
«– Что с вами? – спросил я.
– Да разве вы не знаете! – сказал он.
– Что такое?
– Брат Федор арестован.
– Что вы говорите! Когда?
– Нынче ночью… обыск был… его увезли… квартира опечатана.
– А другие что?
– Петрашевский, Спешнев взяты… кто еще – не знаю… меня тоже не сегодня, так завтра увезут.
– Отчего вы это думаете?
– Брата Андрея арестовали… он ничего не знает, никогда не бывал с нами… его взяли по ошибке вместо меня».
Они договариваются обойти друзей и разузнать, кто еще арестован. Всех взяли дома, квартиры опечатали.
Тем временем генерал граф Орлов докладывает Николаю I: «Честь имею донести Вашему Величеству, что арестование совершено, в III Отделение привезено 34 человека, со всеми их бумагами».
23 апреля в 11 часов вечера все арестованные перевезены в Петропавловскую крепость.
Крепость построена Петром Великим; в 1718 году в ее казематах держали участников заговора царевича Алексея. Царевич Алексей, не разделявший образ мыслей отца, был брошен в застенок, подвергнут допросу и до смерти замучен. В царствование Анны Иоанновны в крепости построили специальную тюрьму, по какой-то странной причуде названную Алексеевским равелином в честь царя Алексея Михайловича. Первой узницей равелина была княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшая на русский престол. Декабристы также были «гостями» Алексеевского равелина. И вот двадцать пять лет спустя под мрачные своды тюрьмы вступили «петрашевцы».
Заговорщиков 1849 года разделили на две группы. Тех, кто вошел в первую, разместили в одиночных камерах в бастионах крепости. «Наиболее опасных преступников», вошедших во вторую группу, заключили в казематы Алексеевского равелина. Среди них был и Достоевский.
Равелин, построенный на вдававшемся в Неву мысе, представлял собой треугольное здание, наружные стены которого омывали грязные воды Невы. Посреди «треугольника» был небольшой садик для прогулок заключенных. Через все здание шел длинный темный коридор, куда выходили двери девятнадцати камер. Шаги надзирателей громким эхом отдавались под каменными сводами. У «петрашевцев» отобрали одежду и взамен выдали тюремную: рубаху и штаны из грубого холста и арестантский халат из толстого солдатского сукна. Облаченный в этот нелепый наряд, Достоевский переступил порог своей камеры.
Помещение было довольно просторным: шесть метров в длину и три с половиной метра в ширину. В камере стояли койка с тюфяком и набитой соломой подушкой, стол, табуретка, деревянная кружка с водой; к подоконнику прикреплена плошка с сальной свечой.
Прочная железная решетка закрывает квадратное, замазанное белой краской маленькое окошко в середине двери, снаружи занавешенное тряпкой, – заключенные называют его «глазок». Дверь открывается пять раз в день: в семь часов утра приносят чай, в десять тюремное начальство совершает обход, в полдень приносят обед – миску с супом и куском говядины, вечером – ужин. В конце дня приходит надзиратель, зажигает свечу и уходит.
И воцаряется тишина, глубокое безмолвие камней наполняет пространство. Сюда не проникает городской шум, лишь из гулкой пустоты коридора доносятся мерные шаги часового, словно поступь существа из иного мира, из другого столетия. Воздух сырой, стены покрыты плесенью. Пламя свечи слабеет, колеблется и гаснет. И кромешная тьма, точно обломок стены, точно внезапная смерть, обрушивается на узника.
Достоевский вскакивает, прижимает к вискам ладони. Кончено. Нужно спать. Нужно заснуть любой ценой. А между тем его мозг работает с поразительной ясностью. Несчастен ли он? Да нет. Потерпев полное крушение, он испытывает облегчение, в котором никому не осмелился бы признаться. Давно уже он сознавал необходимость какого-нибудь внешнего толчка, какого-то потрясения, которые переломили бы его пустую, бесполезную, незадавшуюся жизнь. Арест, тюрьма вырвали его из монотонного существования, которое он вел, которое засасывало его. Сама глубина его несчастья возвышает его над остальным человечеством. Наконец-то он стал «исключительным». Наконец он стал «безответственным». Можно отдохнуть, перевести дыхание. Судьба играет им. И отныне не от него зависит, станет ли он великим человеком или останется щепкой. Все теперь в руках божьих.
«Какое, однако, несправедливое дело было, – скажут ему тридцать лет спустя, – эта ваша ссылка». «Нет, – возразит он резко, – нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ… И почем вы знаете – может быть, там, на Верху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня провести на каторгу, чтоб я там…узнал самое главное, без чего нельзя жить».
Два с половиной месяца заключенным запрещалось писать близким и получать какую-либо корреспонденцию.
Некоторые из «петрашевцев» тяжело переносят предварительное заключение.
Григорьев страдает неврастенией.
Катенев сходит с ума, и его перевозят в госпиталь, где он вскоре умирает.
Ястржембский подумывает о самоубийстве: «В равелине я просидел с 23 апреля по 23 декабря 1849 года, – признается он в мемуарах, – и если бы мне пришлось посидеть еще неделю, я, вероятно, не вышел бы из него живым».
Петрашевский, очень страдавший в заключении, обращается в Комиссию с жалобой: постоянный стук за стеной лишает его сна, а из всех углов камеры слышатся разные нашептывания, что привело его «в состояние тупоумия и беспамятства».
Что же до Ахшарумова, то он выдернул торчавший из кровати гвоздь и, чтобы как-то заполнить время, обтачивал его о железную решетку.
«…то становился я на окно, то ходил взад и вперед в моей клетке без всяких занятий… Нередко садился я и на пол и, сидя на коленях, закрывая лицо обеими руками, я громко сетовал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на окно».
Андрей Достоевский, арестованный по ошибке в тот же день, что и его брат, освобожден 6 мая 1849 года; Михаила Достоевского, арестованного вместо Андрея, выпустят только 24 июня.
«Отставной подпоручик Михаил Достоевский не только не имел никаких преступлений против правительства, но даже им противодействовал», – говорилось в рапорте.
В июле в существовании заключенных происходит переворот: им разрешают читать книги, писать и получать письма.
«Я несказанно обрадовался, любезный брат письму твоему, – пишет Федор Михайлович 18 июля 1849 года. – Получил я его 11 июля. Наконец-то ты на свободе, и воображаю, какое счастье было для тебя увидеться с семьею… Ты мне пишешь, любезный друг, чтоб я не унывал. Я и не унываю; конечно, скучно и тошно, да что ж делать?.. Вообще мое время идет чрезвычайно неровно, – то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно… Теперь ясные дни, большей частию по крайней мере, и немножко веселее стало. Но ненастные дни невыносимы, каземат смотрит суровее. У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял, выдумал три повести и два романа… В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнал по опыту».
Это чудесное спокойствие духа не перестает удивлять: ведь Достоевский ничего не знал о своей дальнейшей судьбе и не мог общаться ни с кем из товарищей по заключению. Одиночество отвечает его душевному состоянию. Он чувствует себя как никогда хорошо. Он перебирает события своей прошлой жизни. Вспоминая детство, надеясь на скорое освобождение, он забывает, что лежит на жесткой койке при свете свечного огарка, а в темном коридоре расхаживает взад и вперед караульный.
Во время заключения он пишет «Маленький герой», поэтичную, полную робкой чувственности новеллу. В тюремной камере автор – ожидающий приговора арестант – рассказывает, как пробуждается в душе мальчика первое любовное чувство. Новелла будет опубликована только в 1857 году.
Проходят недели, и письмо, которое Достоевский адресует брату 27 августа, уже не такое бодрое, как первое.
«Насчет себя ничего не могу сказать определенного. Все та же неизвестность касательно окончания нашего дела. Частная жизнь моя по-прежнему однообразна. Но мне опять позволили гулять в саду, в котором почти семнадцать деревьев. И это для меня целое счастье. Кроме того, я теперь могу иметь свечу по вечерам, и вот другое счастье… Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно. Но всего лучше, если б ты мне прислал Библию (оба Завета)… О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего. Вот уже целый месяц, как я просто ем касторовое масло и тем только и пробиваюсь на свете. Геморрой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде никогда не бывало. Да к тому же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени, мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в пароходной каюте».
И 14 сентября 1849-го: «Я же все по-прежнему. То же расстройство желудка и геморрой. Не знаю уж, когда это пройдет. Вот подходят теперь трудные осенние месяцы, а с ними моя ипохондрия. Теперь небо уж хмурится, а светлый клочок неба, видный из моего каземата, – гарантия для здоровья моего и для доброго расположения духа».
Действительно, его стойкость на исходе. Полная изоляция, в которой он изнывает, медленно подтачивает его силы. Чтобы рассеяться, он перестукивается с Филипповым, сидящим в соседней камере. Так утомительно никого и ничего не видеть, а только все время думать. Как будто он помещен под пневматический колокол и в его безвоздушной пустоте ему нечем дышать, он задыхается. Выходит, он такой же человек как и другие? Он теряет ясное представление о времени и пространстве.
Он больше не различает, где явь, где сон. Когда он был ребенком, он каждый вечер оставлял на ночном столике записку: «Сегодня я впаду в летаргический сон. Похороните меня не раньше, чем через пять дней». И вот он впал в летаргический сон. Он погребен в буквальном смысле слова. Он больше не существует.
Следствие продвигается медленно. Допросы учащаются. Заключенных водят на допрос по одному. Время от времени в каземате появляется офицер в сопровождении жандарма, велит арестанту переодеться в гражданскую одежду и ведет его по бесконечным слабо освещенным коридорам к выходу. Пересекают двор. Входят в «Белый дом», где заседает Следственная комиссия.
Комиссия состоит из пяти членов: князя Гагарина, шефа жандармов генерала Дубельта, князя Долгорукова, генерала Ростовцева и коменданта крепости генерал-адъютанта Набокова – председателя Комиссии.
Достоевскому вменяется в вину участие в собраниях, на которых критиковались действия правительства, осуждались институты цензуры и крепостной зависимости, и распространение письма Белинского к Гоголю, «наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти», а также в присутствии при чтении «возмутительного сочинения» Григорьева «Солдатская беседа».
Члены Комиссии пытаются, проявляя мягкость, заманить Федора Михайловича в ловушку (будущий поединок Раскольникова со следователем Порфирием): «…я уполномочен от имени Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело», – говорит Ростовцев. Федор Михайлович молчит. Тогда генерал вскакивает со стула и, патетически выкрикнув: «Я не могу больше видеть Достоевского!», выбегает из кабинета.
Допрос продолжается. Достоевский не отрицает фактов: «Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесно приятельском?»
Чтение «Солдатской беседы» «началось… нечаянно… Впечатление было ничтожное».
Что же до письма Белинского, Достоевский признавал, что сделал ошибку и что ему не следовало читать этой статьи вслух. «…весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству», – утверждает он.
«…я никогда и не был социалистом, – добавляет он, – хотя и любил читать и изучать социальные вопросы».
У него не вырвут ни одного обвинения в адрес его товарищей по несчастью. Более того, чтобы ускорить освобождение Михаила, он возвел обвинение на себя: «Я говорю это к тому, что брат познакомился с Петрашевским через меня, что в этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его… этот арест должен быть для него буквально казнию, тогда как виновен он менее всех».
Члены Следственной комиссии очень затруднялись юридически определить преступление, которое не было совершено. Достаточно ли одних только разговоров о революционных намерениях для осуждения деятельности небольшого кружка? Да и были ли точно революционные намерения у этих болтливых и бестолковых либералов? И вообще: где кончается эволюция, где начинается революция?
Следствие длилось пять месяцев; 232 человека, обвиняемые и свидетели, допрошены устно и письменно. Несмотря на упорные настояния Липранди, Комиссия кончила тем, что признала невиновность обвиняемых:
«Все сии собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству… не обнаруживают ни единства действий, ни взаимного согласия и к разряду тайных организованных обществ они тоже не принадлежат».
Тем не менее министр внутренних дел требует нового расследования, и на этот раз Комиссия находит, «что и открытого уже совершенно достаточно, дабы обратить на себя самое бдительное внимание правительства».
30 сентября 1849 года «дело Петрашевского» передается в военный трибунал. Специальная комиссия в составе из шести штатских и шести генералов определяет меру вины каждого из двадцати восьми молодых людей, обвиняемых в государственных преступлениях.
16 ноября военно-судебная Комиссия приговаривает семерых арестованных к каторге и ссылке и пятнадцать к отдаче в солдаты. Шестеро освобождены.
Но следствие на этом не заканчивается. В нарушение всех юридических процедур император передает дело в Генерал-аудиториат при Военном министерстве, который выносит приговоры в соответствии с суровыми военными законами. Генерал-аудиториат начинает с того, что всех приговаривает к смертной казни. Вынеся смертный приговора, Аудиториат ходатайствует перед императором о смягчении наказания – замене смертной казни каторжными работами.
Окончательный приговор гласит: «Достоевского… за… участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского… сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет». Николай I наложил резолюцию: «На 4 года, а потом рядовым». Император приказал, чтобы эта милосердная мера держалась в строжайшей тайне.








