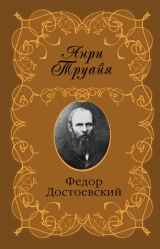
Текст книги "Федор Достоевский"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
– Мне-то! Ну, да уж что! Лет семь еще я промаюсь, – отзывается тот и рассеянно, точно заглядывая в будущее, поднимает взгляд к небу.
Накануне самого последнего дня в сумерках Федор Михайлович, как обычно, обошел весь острог. Мысленно, серьезный и печальный, он прощается с почернелыми бревенчатыми срубами казарм, за четыре года еще более обветшавшими. Здесь, за этой оградой погребена его юность, здесь погребены его надежды. Он выходит из каторги уставшим, постаревшим, разочарованным, и снова ему предстоит бороться, страдать, жить… Ради чего? Ради кого?
На другое утро еще до выхода на работу Достоевский обошел все казармы и попрощался с арестантами.
«Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они… Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью».
Все отправились на работу, а Достоевский идет в кузницу. Кузнецы-арестанты снимают с него кандалы.
Удар молотка. Кандалы падают. Достоевский поднимает их, держит в руках, долго смотрит на них в последний раз.
«Ну, с Богом! С Богом!» – повторяют каторжники.
Но Федор Михайлович не двигается. Горло перехватывает желание рыдать, кричать.
Свободен! Свободен!.. Пошатываясь, он выходит из кузницы, останавливается, обращает взгляд в небо.
Достоевский вышел из каторги около 15 февраля 1854 года и только в марте был переведен в Семипалатинск.
Две недели он жил в Омске у своих друзей Ивановых.
Мадам Иванова была дочерью декабриста Анненкова. Она встречала Достоевского на его пути в Тобольск. Во все время его заточения она и ее муж проявляли чудеса изобретательности, чтобы облегчить участь писателя, передавали ему то немного денег, то какую-нибудь домашнюю еду.
«К.И. И<вано>в был мне как брат родной. Он сделал для меня все, что мог… Я должен ему рублей 25 серебром», – писал Достоевский брату.
Федор Михайлович был отправлен по этапу в Семипалатинск, где стоял 7-й линейный Сибирский батальон, куда он был зачислен рядовым.
Шли пешком, шагая по изрытым, разбитым дорогам. По пути бывших каторжников догнала повозка, груженная канатами. Достоевский и его спутники взбираются в повозку и устраиваются на связках канатов. Повозка неторопливо двигается вперед. Воздух свеж. Высоко в небесном безмолвии плывут облака. Душу Федора Михайловича переполняет счастье, волнение и неизъяснимое чувство благодарности.
Глава V
Три откровения
В поэме «Несчастные» Некрасов, по его собственному признанию, описал жизнь Достоевского в остроге. В этой поэме политический преступник, «молчальник» и «белоручка», поначалу чувствует враждебность каторжников. Но однажды ночью у изголовья умирающего он потребует от «буйно веселящихся» острожников молчанием почтить последние мгновения жизни товарища. Он завоевывает их уважение, доказывает свое нравственное превосходство и становится их учителем.
Когда Федор Михайлович вернется в Петербург, Некрасов покажет ему поэму «Несчастные» со словами: «Это я об вас написал».
И Достоевский ответит ему:
«Напротив, это я ученик каторжников».
Да, он многому научился у каторжников, и обучение каторгой повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Четыре года каторги – резервуар, питавший его гений. Эти четыре года – центр его жизни. Они делят его на две равные половины: есть Достоевский до «Записок из Мертвого дома» и Достоевский после «Записок из Мертвого дома». Разумеется, это не две разные личности, но вторая богаче первой, вторая осуществляет то, что первая только обещала.
Федор Михайлович поочередно то проклинает, то благословляет «сибирский период». В письмах, написанных после освобождения, стенания причудливо чередуются со словами благодарности и выражением христианского смирения.
«Никогда один, и это четыре года без перемены, – право, можно простить, если скажешь, что было худо.
Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал.
Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно.
Я в каком-то ожидании чего-то… и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто бы созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное.
Вообще каторга многое вывела из меня и много привила ко мне.
…это мой крест, и я его заслужил.
А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное это было время, не в силах я рассказать тебе, друг мой… Во все 4 года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге».
В «Записках из Мертвого дома» Достоевский рассказал об испытании, которым стала для него сибирская каторга. Правда, предосторожности ради он вывел себя в образе некоего Александра Петровича Горянчикова, «сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей». В действительности же все, что он описывает, произошло с ним самим, он сам все это видел и все это пережил и рассказал об этом с ужасающей трезвостью.
Когда Федор Михайлович опубликовал свою книгу, тюремные порядки были уже иными. Реформы Александра II смягчили варварский режим, установленный Николаем I. Телесные наказания запретили, ввели контроль строгий за острожным начальством. Так что произведение Достоевского обличало порядки, уже осужденные самим царем.
Цензура разрешила издание «Записок» при условии исключения мест, «противных по неблагопристойности выражений своих правилам цензуры».
Впрочем, Достоевский позаботился дополнить текст авторскими примечаниями вроде таких:
«Все, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, все это изменилось и изменяется».
Или:
«Буквальное выражение[33]33
Примечание к словам майора «…я – Божьей милостью майор».
[Закрыть], впрочем в мое время употреблявшееся не одним нашим майором, а и многими мелкими командирами, преимущественно вышедшими из низших чинов».
Неверно было бы думать, что, написав «Записки из Мертвого дома», Достоевский окончательно сбросил с себя бремя каторги. Это произведение, замечательное по содержавшейся в нем правде о человеке, честное до жестокости, – только первый взнос, почерпнутый из сокровищ, накопленных за четыре года страданий и размышлений.
Достоевский увидел целый мир. Он мастерски его описал. Но он израсходовал лишь мелкую монету из своей кладовой. Он освободился от нее, так же как освобождаются от балласта, выбрасывая его за борт.
Избавившись от балласта, он может набрать высоту. Он может отказаться от сибирской живописности, забыть об обритых наголо головах, о перекошенных ртах, о непристойной брани – и осмысливать невыразимые уроки каторги. Он рассказал о том, что он наблюдал. Ему остается рассказать о том, чему он научился. И всей его жизни не хватит на то, чтобы благополучно довести до конца эту работу.
Встреча с народом, встреча с Россией, встреча с Евангелием. Это тройное чудо свершилось в смрадной арестантской казарме, в глухом краю, когда близкие писателя считали, что он навсегда заживо погребен в недрах Сибири.
С начала XIX века европейская культура быстро распространялась среди русской элиты – огромная империя еще не готова к ее восприятию. Эта культура – искусственная продукция: у нее нет традиций, в ней нет ничего магического. Интеллигенция находится между двумя равной силы притяжения полюсами. Над ней – царь, власть которого освящена церковью. Царь – воплощение единства нации, личное выражение верховного начала, царь – высшее олицетворение национальной жизни. Под ним народ. Народ неотесанный, непостижимый, неподатливый. Интеллигенции невозможно слиться с народом, как невозможно и узурпировать императорскую власть. Царь и народ – две составляющие, навечно слитые воедино, над ними не властно время, и сила этого веками создававшегося единства в самой его неизменности. Чудо единения царя с народом – непостижимо. У каждого из них своя тайна. В них нужно просто верить, ибо они в буквальном смысле слова отличны от вас.
Этот головокружительный зов народа – феномен, неизвестный Западу. Он возможен только в стране, где социальные классы четко противопоставлены: интеллигенция – народ. На одной стороне утонченная европейская культура, на другой – варварское невежество. Оба эти мира резко разграничены. Элита малочисленна – народ бесчислен. И эта горсточка по-европейски образованных людей загипнотизирована народной массой. Она боится быть ею поглощенной, но хотела бы ее понять, узнать ее и – господствовать над ней. И чем меньше она понимает народ, чем меньше она его знает, тем больше она им восхищается.
Федор Михайлович еще ребенком тянулся к мужикам Дарового и пациентам Мариинской больницы. Он и позже в Петербурге интересовался народом, но это был интерес, так сказать, «материалистический»: предполагавший уничтожение крепостного права, отмену телесных наказаний, введение школ в деревнях. На каторге он взглянул на народ под совершенно иным углом зрения.
Вот он наконец лицом к лицу с народом, живет бок о бок с ним, соприкоснулся с ним вплотную. Он горит желанием сродниться с народом, но народ отвергает его: он барин, он не может стать мужиком. Родившись барином, он не может внезапно превратиться в мужика.
Отказ принять его, признать его своим он переносит без обид, стоически, но с грустью. Все четыре года каторги он живет одиноко среди этого чуждого ему племени. Все четыре года его неотступно преследует мысль о слиянии с этим запретным миром. Все четыре года он наклоняется над этой пропастью, не желающей его поглотить. Он живет среди зверей в человеческом облике. Он страдает от их скотства, глупости, злобности.
«Все каторжные говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, „живой человек“».
Но мало-помалу он убеждается, что у них есть душа. «И в каторге, – пишет он брату, – между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото».
Это открытие завораживает, преследует его. Народ не развит, не образован. Народ – все те, кто работает руками, те, кто не рассуждает, а чувствует. Народ – носитель исконной русской жизни. Мужик прежде всего дитя. Он сохранил в себе детское простодушие. Он уберегся от культуры, социальных условностей, разного рода ученой лжи. Он близок к Богу. Народ владеет, сам того не сознавая, тайной жизни по божеским законам. Обратиться к народу, сблизиться с народом, значит, приблизиться к Богу.
Впоследствии Достоевский будет неоднократно возвращаться к этой мысли в романах и в «Дневнике писателя».
Вспомним мужика Марея. Маленький Федор, испуганный криком «Волк! Волк!», бежит к Марею, хватает его за рукав, а тот с робкой нежностью прикасается к его губам своим толстым, запачканным в земле пальцем и кротко успокаивает его:
«Христос с тобой».
«Что за чудный народ, – пишет Достоевский в письме от 22 февраля 1854 года. – Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».
Вскоре Достоевский отведет русскому народу поистине мессианскую роль. Пока же он довольствуется тем, что просто любит его, – любит смиренной любовью.
Несколько лет спустя, рассказывает В. Перетц, когда Достоевский был у Сусловых, один молодой врач упрекнул Достоевского за его мистические идеи о будущем России и в упор задал вопрос:
– Да кто вам дал право так говорить от имени русского народа и за весь народ?!
Достоевский быстрым неожиданным движением открыл часть ноги – и кратко ответил изумленной публике, указывая на следы каторжных оков:
– Вот мое право!
Эта идеализация народа, это презрение к культуре тем более живучи у Достоевского, что он долго был отрезан от образованного мира. Он не получает писем, не читает книг. Единственный источник духовной пищи – Евангелие, а в Евангелии сердце торжествует над разумом. Размышления над Библией имели первостепенное значение для того духовного переворота, который совершался в Достоевском. Отныне все его произведения, вся его жизнь будут отражением заветов Евангелия.
И разве его романы зрелой поры не деяния современных апостолов, осененных благодатью, ввергнутых в сомнения, эти сомнения преодолевающих, отвергающих Бога и вновь его обретающих, толкаемых на путь к неизреченному знанию?
Изучение священных текстов смещает линию горизонта в мире Достоевского. Не земные радости и не земные горести будут терзать его героев. Его романы станут как бы двухэтажными. На нижнем этаже будет протекать повседневная жизнь с ее обычной суетой: завистью, борьбой за существование, погоней за деньгами, стремлением превзойти ближнего.
На верхнем этаже развернется подлинная человеческая драма: искания Бога, поиски духовного обновления человека.
Пусть студент убил старуху процентщицу, пусть сын ненавидит отца, до того, что желает ему смерти, пусть злой муж кается перед запертой дверью жены, – все это лишь аксессуары, обрамление настоящего действия: подлинная трагедия разыгрывается не там, она разыгрывается в области морали – в области возвышенного. Она происходит на взлете души. Единственное счастье, как и единственное несчастье, которые принимаются в расчет, свершаются не в мире земном. Герои Достоевского презирают все материальное, они не ищут комфорта, богатства, места в обществе или семейного счастья – их мучат не мирские желания. Их души жаждут слиться с бесконечным – они жаждут душой слиться с Богом.
«Меня Бог всю жизнь мучил», – восклицает Кириллов в «Бесах». И это мучение Богом – мучение самого Достоевского.
Душа его неутомимо взыскует веры и любви, но Федор Михайлович никогда не испытывал веры теоретически обоснованной, любви застывшей. Он страстно жаждет уверовать, но дьявольская проницательность удерживает его у самой границы благодати, за которой начинается истинная вера. Он сам себя изводит вопросами. Ищет ответы в Писании. Он спорит, вместо того, чтобы поверить без рассуждений.
«Я скажу Вам про себя, – пишет он госпоже Фонвизиной, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же. Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе Символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Такую позицию – позицию недоверия к официальной церкви Достоевский занимает, ничего не зная о Кьеркегоре[34]34
Кьеркегор (Киркегор) Серен (1813–1855) – датский теолог, философ, писатель, предшественник экзистенциализма.
[Закрыть]. Для него вера не есть что-то раз навсегда данное. Веру нужно постоянно защищать от врагов: неверующих, колеблющихся, ее надо защищать от самого себя.
Религиозный экстаз подогревается сомнениями. Мистическое отчаяние разжигается фанатизмом. Угроза придает особую цену угрожаемому объекту. Вера – это риск. Церковь с ее отработанными ритуалами – исповедями, отпущениями грехов – уменьшает этот риск. Церковь делает веру доступной каждому. Церковь обеспечивает веру с комфортом. А Достоевскому ненавистен любой комфорт – философский ли, нравственный ли. Он предпочитает сражаться за веру в одиночку. Он хочет самостоятельно найти свой путь.
«…через большое горнило сомнений моя осанна[35]35
Осанна (греч.) – молитвенный возглас, славословие. Петь осанну (восклицать) – выражать кому-нибудь полную преданность, покорность, превозносить кого-нибудь.
[Закрыть] прошла».
И в самом деле, все его творчество станет пением осанны. Или, точнее, с первыми звуками этого пения начнется его настоящее творчество.
Глава VI
Семипалатинск
Семипалатинск – типичный азиатский городок, куда сходились караваны верблюдов. Он застроен одноэтажными бревенчатыми домиками, их окна выходят во внутренний двор, чтобы у прохожих не было искушения подглядывать за мусульманскими женщинами, занимавшимися в комнатах домашними делами. Двери у домов низкие, дабы хозяину было сподручнее снести голову чужаку, осмелившемуся проникнуть в его жилище. Вдоль улиц, на которых не было ни одного фонаря, тянулись бесконечные заборы. Улицы были немощеные, нигде ни деревца, ни кустика – кругом сыпучий, сухой, горячий песок, в котором по щиколотку увязали ноги. При порывах ветра песок поднимался, закручиваясь в вихри, хлеставшие прохожих в лицо. Под струями дождя песок превращался в сероватую густую, быстро затвердевавшую грязь.
В центре города в окружении семи мечетей стояли каменная церковь и казарма пехотного полка, неподалеку находились аптека, уездная школа и галантерейная лавка, где можно было купить все – от простых гвоздей до парижских духов и даже кое-что из еды. Но это и все. Книг не было, почта приходила нерегулярно, газета была редкостью и переходила из рук в руки, пока не зачитывалась до дыр. Молчание, затерянность, одиночество пустыни…
Пять-шесть тысяч жителей – купцы-татары, солдаты, чиновники – составляли все население городка.
За казацкой слободкой разбили свои юрты пастухи-киргизы.
Город существовал уже более ста лет. Крепость, построенная в 1718 году, с тех пор мало изменилась.
Нередко отряды кара-киргизов устраивали набеги на город. Тогда поднимали гарнизон и кое-как отбивали наскоки восставших ханов.
По прибытии в Семипалатинск Достоевский был записан рядовым в 1-ю роту 7-го Сибирского линейного полка.
В сибирской армии солдатская доля была тяжкой. Весь день солдаты проводили в строевых учениях: маршировка, несение караула, наряды, смотры, парады. По ночам стояли на часах на каком-нибудь затерянном участке на краю степи. Эти учения и ночные бодрствования изматывали Федора Михайловича.
«Приехал я сюда в марте месяце, – сообщает он брату. – Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других… Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил».
Батальон состоял из сосланных помещиками крепостных, солдат-наемщиков, отбывавших службу за других, и разного рода ссыльных. Умственный уровень гарнизона не слишком отличался от каторжного. Достоевский снова попал в общую казарму, с ее смрадом, ссорами, побудками на рассвете…
Соседом Достоевского по нарам был кантонист 17-летний Кац. Федор Михайлович участливо относился к нему, завоевал его доверие, предложил держать общую кассу. Они по очереди ходили в город за покупками, потом варили на кухне кашу или капусту. По очереди чистили амуницию, по очереди начищали до блеска ремни. На сэкономленные деньги Кац завел самовар. И нередко несколько чашек чая заменяли Федору Михайловичу несъедобный обед в солдатской столовой. Батальонная пища была хуже некуда. Официально на содержание одного солдата отпускалось 4 копейки, но из этих 4 копеек ротный командир, кашевар и фельдфебель удерживали в свою пользу полторы копейки. Это как будто бы крошечное хищение приносило расхитителям 744 рубля в год. Весь Семипалатинск знал об этом, но никому и в голову не приходило протестовать.
С бесконечным терпением Достоевский старался завоевать расположение товарищей по полку. Подменял их на дежурствах. Делил с ними еду, которую добывал на стороне. Даже одалживал им деньги. Начальство было им довольно. Друзья в Омске хлопотали за него, и наконец ему было разрешено поселиться в городе.
Он снял комнату недалеко от казармы у солдатской вдовы. Изба была бревенчатая, обветшавшая, вросшая в землю. Во дворе находился колодец с журавлем. Достоевский занимал комнату, где из-за низкого потолка всегда царил полумрак. Бревенчатые стены были обмазаны глиной и увешаны лубочными картинками. Всю обстановку составляли широкая скамья, кровать, стол, стул и дощатый ящик, служивший комодом. Угол возле двери занимала большая русская печь. Постель отделялась от комнаты ситцевой перегородкой. Федор Михайлович платил хозяйке за комнату, стирку и стол пять рублей в месяц. Еще немного денег вдова прирабатывала на двух своих дочерях, которым служила сводней. «Эх, барин, – говорила она о младшей, – все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель и честь».
20 ноября 1854 года молодой барон Врангель прибыл в Семипалатинск и вступил в должность прокурора Западной Сибири. Ему двадцать два года. У него красивое, окаймленное черными бакенбардами лицо. На нем элегантный, сшитый в Петербурге мундир. Этот отпрыск знатной семьи совершенно растерялся, оказавшись в забытой богом глуши, за несколько тысяч верст от столицы. Что он будет делать здесь целых два года среди невежественных людей, в затерянном среди песков городке, где единственные развлечения охота и рыбная ловля?
Перед отъездом из Петербурга он побывал у Михаила Достоевского, и тот передал для брата письмо и книги. Барон Врангель знал Достоевского только по его произведениям. Однако по одному из тех необъяснимых совпадений, которые случаются в жизни, он, будучи еще лицеистом, присутствовал «на казни» «петрашевцев».
«Я видел, – вспоминает Врангель, – как на эшафот всходили какия-то фигуры, как внизу около него к вкопанным в землю столбам привязывали в белых саванах людей, как их отвязывали, потом подъехали тройки почтовых с кибитками и те же повозки, что я видел на Литейной, – и вскоре площадь опустела; народ разбрелся, крестясь и благословляя милость царя».
Врангель, нанеся обязательный визит военному губернатору области, послал слугу разыскать Достоевского.
Федор Михайлович встретил посланца с подозрением. Кто этот барон Врангель? Что ему нужно? Звание прокурора не внушало доверия. Все же он принял приглашение на чашку чая.
В назначенный час в комнату барона Врангеля вошел солдат в серой солдатской шинели с красным стоячим воротником и красными погонами. Он немного сутулился, руки были свободно опущены. Болезненно бледное лицо и приплюснутый нос усыпаны веснушками. Серо-стальные глаза смотрели угрюмо и печально. Светло-русые волосы коротко острижены. Незнакомец казался раздраженным и обеспокоенным. Он ждал объяснений. Когда барон Врангель рассказал ему о встрече с его братом в Петербурге, передал посылки и письма от Михаила, лицо Достоевского осветила детская радость. Он сразу переменился, повеселел и попросил разрешения тут же прочесть письма. Слезы выступили у него на глазах, когда он читал письмо от брата.
Врангель, тоже получивший целую груду писем, вскрыл несколько конвертов, стал читать весточки из Петербурга от родных и друзей. От этого напоминания о далекой счастливой жизни у него сжалось сердце. Он вдруг почувствовал себя одиноким, оторванным от всего, что было ему дорого. Молодой прокурор и государственный преступник стояли друг перед другом в сибирской глуши, вдали от тех, кого любили, от тех, кто мог их понять, оба забытые судьбой, одинокие, потерянные…
Позабыв о достоинстве прокурора Его Величества, барон Врангель разразился рыданиями и бросился на шею стоявшему перед ним солдату Достоевскому. В это мгновение родилась их дружба.
«Судьба сблизила меня с редким человеком, – пишет Врангель родителям, – как по сердечным, так и умственным качествам; это наш юный несчастный писатель Достоевский. Ему я многим обязан, и его слова, советы и идеи на всю жизнь укрепят меня… Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будет ли амнистии».
И еще: «…неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах. Это было бы ужасно. Горько и больно за него – я полюбил его, как брата, и уважаю, как отца».
Он больше, чем любил его, больше, чем уважал, – он всеми доступными ему средствами пытался облегчить ему жизнь.
Общество высших чиновников Семипалатинска приняло с распростертыми объятиями молодого аристократа, с изящными манерами, одетого с безупречным вкусом, с точеными, точно рисунок на медали, чертами лица. Тотчас стало известно, что его сопровождает личный слуга, что барон снял просторную квартиру, нанял экипаж и что его жалованье прокурора позволяет ему жить на широкую ногу. Мужчины важно говорили о его аристократическом происхождении и блестящем будущем. Дамы им восторгались. Девицы на выданье видели его во сне.
Объехав с визитами всю эту провинциальную колонию, барон Врангель задался целью ввести Достоевского в общество. Деликатное это было дело. Все знали, что Достоевский бывший каторжник. Кроме того, его грубый серый мундир с красным воротником внес бы диссонанс в любой даже самый скромный праздник. Барону намекали на нежелательность визитов бывшего колодника, напоминали, что прокурор должен быть разборчивым в знакомствах больше, чем кто-либо другой. Врангель никого не слушал. Он так успешно добивался своего, что генерал Спиридонов, военный губернатор Семипалатинской области, согласился пригласить Достоевского к себе домой: «Ну, ну, приходи с ним, да запросто, в шинели, скажи ему».
Генерал Спиридонов был добрейший человек, гуманный, хлебосольный. Он быстро распознал высокие достоинства Достоевского и пригласил его приходить так часто, как он сам захочет.
Пример, поданный высшим эшелоном местной власти, распахнул перед бывшим кандальником двери светских гостиных. Командир батальона полковник Белихов, еще раньше вызывавший к себе солдата Достоевского читать ему вслух газеты и журналы, не упускал случая пригласить его к обеду. Жена лейтенанта Степанова читала Достоевскому свои стихи и просила их поправлять. Полковник Мессарош, заядлый игрок, организовавший в Семипалатинске военный оркестр, не мог больше обходиться без Федора Михайловича. Серая шинель писателя и блестящий мундир прокурора мелькали рядом на всех светских собраниях.
Однако Достоевский неохотно откликался на приглашения военных и гражданских хозяев Семипалатинска. Он смертельно скучал в этих провинциальных гостиных и предпочитал проводить вечера в беседах со своим новым другом.
Вернувшись со службы, Федор Михайлович сразу же отправлялся к барону Врангелю, устраивался удобно в кресле, расстегивал воротник мундира и раскуривал трубку. В это время он обдумывал новые произведения: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и «Записки из Мертвого дома». Он был в веселом расположении духа, распевал арии из опер, рассказывал своему юному другу эпизоды из будущей книги и радостными возгласами встречал Адама, – слугу, портного и повара в одном лице, когда тот вносил в комнату кастрюлю со стерляжьей ухой.
Этот Адам был хмурый, неряшливый пьянчужка с испитым лицом, кривыми ногами и вздернутым носом. Часто он садился под окнами и затягивал сиплым унылым голосом протяжную песню, такую жалобную и так надрывавшую душу, что друзья после долгих уговоров, потеряв терпение, выливали ему на голову кувшин воды, дабы привести его в чувство.
Когда со стола было убрано, Федор Михайлович не торопился затевать с Врангелем литературный спор. Он читал ему наизусть «Египетские ночи» Пушкина или целые страницы из «Мертвых душ». Он уговаривал его бросить «профессорские книги» и заняться поэзией. Нередко Федор Михайлович рассказывал ему о себе. Вспоминал детство, дружбу с братом Михаилом, свой литературный дебют… Но избегал всякого намека на процесс «петрашевцев».
Поздно ночью Федор Михайлович возвращался в свою закопченную избу, зажигал сальную свечку и брался за перо.
«Записки из Мертвого дома» частично написаны в этой дощатой лачуге при слабом свете сального огарка. Медленно смеркалось. Слышался лай собак. За перегородкой вдова ворочалась на своем тюфяке и охала во сне.
Через некоторое время Федор Михайлович отодвигал исписанные страницы, откладывал перо: ему не работалось.
«Я не мог писать, – признается он Майкову. – Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать».
Что же это было за «обстоятельство»? Что же это был за «случай»?








