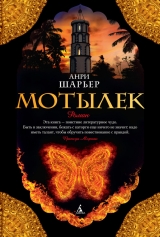
Текст книги "Мотылёк"
Автор книги: Анри Шарьер
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Соррильо никогда не видел и не имел отравленных стрел. Он будет их хранить у себя до моего отъезда. Я не знал, каким образом выразить Хусто свою благодарность за такую щедрость. Через Соррильо он сказал мне, что знает о моей жизни совсем немного, но, судя по тому, что я настоящий мужчина, мое прошлое, должно быть, богато событиями. Он впервые познакомился с белым человеком, он всегда их считал врагами, но теперь они ему нравятся, и он постарается найти другого, похожего на меня.
– Подумай, – сказал вождь, – прежде чем отправиться в земли, где у тебя много врагов, подумай, что здесь, на нашей земле, у тебя только друзья.
Он сказал, что вместе с Сато присмотрит за Лали и Сораймой. Если у Сораймы родится мальчик, он займет достойное и почетное место в племени.
– Я не хочу, чтобы ты уходил. Оставайся, и я отдам тебе ту красивую девушку, которую ты видел на празднике. Она девственница, и ты ей нравишься. Ты мог бы остаться здесь, со мной. У тебя будет большая хижина и столько скота, сколько пожелаешь.
Я простился с этим щедрым и удивительным человеком и отправился в свою деревню. За всю дорогу Лали не проронила ни слова. Она сидела сзади меня на рыжей лошади. Седло, должно быть, ей мешало и делало больно, но она помалкивала и никак не проявляла своего недовольства. Сорайма ехала с одним индейцем. Соррильо отправился к себе в деревню своим путем. Ночью было довольно холодно. Я протянул Лали куртку из овечьей шкуры, которую мне дал Хусто. Она не стала сама надевать, но мне позволила это сделать, отнесясь ко всему тихо и безучастно. Ни одного жеста. Разрешила надеть куртку – и все. Хотя лошадь трясла, а временами сильно, она не держалась за меня, чтобы избежать падения. Когда мы приехали в деревню, я сразу отправился к Сато. Лошадь осталась на попечении Лали. Она привязала ее к стене хижины, подвесила спереди охапку травы, не расседлав и не сняв уздечки. У Сато я пробыл целый час и вернулся домой.
Печаль индейцы – мужчины и особенно женщины – переживают исключительно своеобразно. Они замыкаются в себе, их лица как бы каменеют. Ни один мускул не дрогнет. Глаза могут быть переполнены печалью, но ни одна слезинка не выкатится из них. Они могут стонать, но никогда не рыдают. Лежа в гамаке, я неловко повернулся и задел живот Сораймы. Она вскрикнула от боли. Я встал и перешел в другой гамак, подвешенный очень низко, опасаясь, что подобное может повториться. Лежу и чувствую, что гамак кто-то трогает. Притворился спящим. Лали сидела неподвижно на деревянном чурбане и смотрела на меня. Через минуту я почувствовал, что Сорайма тоже рядом. Она имеет привычку натирать кожу соцветьями апельсинового дерева – это ее духи. Она получает их в мешочках от индианки-торговки, которая время от времени появляется в нашей деревне. Когда я проснулся, то увидел, что они продолжают сидеть неподвижно. Солнце встало, было почти восемь часов утра. Я увел их на пляж и лег на сухой песок. Лали сидела рядом, так же поступила и Сорайма. Я погладил грудь и живот Сораймы, она продолжала сидеть, словно мраморное изваяние. Я положил Лали и поцеловал – она плотно сжала губы. Пришел рыбак, чтобы пойти с Лали в море. Едва взглянув на нее, он все понял и удалился. Я терзался. Я не мог больше ничего придумать, кроме ласк и поцелуев, чтобы дать им понять, как я их люблю. Ни слова с их стороны. Я был глубоко встревожен сознанием причиняемой им боли. Простая мысль, что я могу уйти, принесла им столько страданий. Лали насиловала себя любовью со мной, она отдавалась с отчаянным безумием. Что двигало ею? Только одно – желание понести от меня.
В это утро я впервые увидел, что она ревнует меня к Сорайме. Мы лежали на пляже на мелком песке в укромной нише. Я гладил грудь и живот Сораймы, а она покусывала мне мочку уха. Появилась Лали. Она взяла сестру за руку и ее же ладонью провела по округлому животу. А потом этой же ладонью провела по собственному – плоский и гладкий. Сорайма встала и, как бы говоря: «Ты права», уступила место рядом со мной.
Женщины каждый день готовили мне пищу, но сами ничего не ели. Уже три дня они голодают. Я сел на лошадь и чуть не совершил серьезную ошибку – первую за более чем пять месяцев: я отправился к знахарю без разрешения. Только в пути я сообразил, что делаю, и, не доехав до палатки метров двести, стал разъезжать взад и вперед. Он увидел меня и сделал знак приблизиться. С грехом пополам я растолковал ему, что Лали и Сорайма совсем не едят. Он дал мне какой-то орех и показал, что его надо положить в питьевую воду. Приехав домой, я опустил его в большой кувшин. Они пили воду несколько раз, но есть так и не стали. Лали больше не ходила в море за жемчугом. Сегодня после четырехдневного поста она пошла на отчаянный шаг: заплыла в море без лодки метров на двести от берега и вернулась с тридцатью устрицами. Она хотела, чтобы я их съел. Их немое отчаяние довело меня до такого состояния, что я сам перестал есть. Так продолжалось шесть дней. Лали лежала, ее била лихорадка. За шесть дней она высосала несколько лимонов – и больше ничего. Сорайма ела только один раз в день, в полдень. Я не знал, что делать. Я сидел рядом с Лали. Она лежала без движения на гамаке, который я сложил на земле в виде матраца, отрешенно уставившись в потолок хижины. Я смотрел на нее, смотрел на Сорайму, на ее вздутый живот и, не зная почему, разрыдался. То ли из-за себя, то ли из-за них, бог знает. Я плакал, и крупные слезы катились по щекам. Сорайма заметила их и принялась стонать, Лали повернула голову и тоже увидела, что я плачу. Одним прыжком она вскочила и оказалась у меня между ног. Она целовала меня, гладила и нежно постанывала. Сорайма обняла меня за плечи, а Лали стала говорить, говорить и говорить, в то же время не прекращая стенаний. Сорайма ей отвечала. Мне показалось, что она обвиняет Лали. Лали взяла кусок сахара величиной с кулак, показала мне, что растворяет его в воде, и в два глотка покончила с приготовленным питьем. Затем Лали и Сорайма удалились из хижины. Я слышал, как они выводили лошадь, а когда вышел из дома, она стояла уже под седлом, взнузданная, с наброшенными на переднюю луку седла поводьями. Я прихватил для Сораймы куртку, а Лали положила спереди сложенный гамак, чтобы Сорайма могла сидеть. Сорайма села на лошадь первой и оказалась почти у нее на шее. Затем сел я посередине, и Лали сзади. Я был настолько расстроен, что никому ничего не сказал, даже вождю, куда и зачем мы поехали.
Я думал, что мы едем к знахарю, туда и направился. Но нет, Лали потянула повод и сказала: «Соррильо». Значит, мы ехали навестить Соррильо. В пути она крепко держалась за мой пояс и часто целовала меня в затылок. Я держал поводья в левой руке, а правой гладил Сорайму. Мы приехали в деревню Соррильо как раз в тот момент, когда он возвращался из Колумбии. При нем были три осла и лошадь, все с тяжелой поклажей. Мы вошли в дом. Лали заговорила первой, затем Сорайма.
Вот что рассказал мне Соррильо. Пока я не заплакал, Лали думала, что для меня, белого человека, она ничего не значит. Лали знала, что я собираюсь уезжать, но, по ее словам, я продолжал вести себя коварно, как змея, никогда не говоря ей ни о чем и не пытаясь сделать так, чтобы она сумела меня понять. Она сказала, что очень и очень глубоко разочарована, потому что вообразила себе, что индейская девушка, как она, сможет мужчину сделать счастливым – ведь удовлетворенный мужчина никогда не уходит. После такого горького разочарования Лали считала, что продолжать жить на свете просто незачем. Сорайма согласилась с ней, усугубив свое решение уйти из жизни опасением, что ее сын будет похож на отца – коварного человека, на слово которого нельзя положиться, человека, который требует от своих преданных жен выполнять то, чего они не понимают. Почему я убегаю от нее, неужели она похожа на ту собаку, что укусила меня в первый же день, когда я пришел к ним?
Я ответил так:
– Скажи, Лали, что бы ты сделала, если бы твой отец был болен?
– Я бы пошла к нему по колючкам, чтобы ухаживать за ним.
– Что бы ты сделала тому, кто преследовал бы тебя, как дикого зверя, пытаясь убить тебя? Что бы ты сделала, если бы сумела за себя постоять?
– Я бы разыскивала врага повсюду и закопала бы его так глубоко, чтобы он не смог даже повернуться в могиле.
– А исполнив все это, что бы ты сделала, если бы у тебя были две чудесные жены, которые тебя ждали?
– Я бы возвратилась на лошади.
– Именно так я и сделаю, и это решено.
– А если я постарею и стану безобразной, что тогда?
– Я вернусь задолго до того, как ты постареешь.
– Да, ты позволил воде течь из глаз. Ты бы не смог притворяться. Поэтому ты можешь уезжать, когда захочешь, но сделаешь это днем, у всех на глазах, а не как вор. Ты уедешь так же, как и пришел, – в тот же час пополудни и в одежде белого человека. Ты должен оставить кого-нибудь за себя, кто день и ночь мог бы беречь нашу честь. Сато – вождь, о нас должен заботиться другой мужчина. Ты скажешь, что дом остается твоим женам, чтобы ни один мужчина не смел в него входить, кроме твоего сына, если у Сораймы родится сын. В день твоего отъезда к нам должен приехать Соррильо и повторить нам все, что ты скажешь.
Мы ночевали у Соррильо. Ночь была удивительно мягкой и теплой. В шепоте и бормотании этих двух дочерей природы голос любви и человеческих переживаний звучал настолько сильно, что я готов был сойти с ума от волнения. Домой мы возвращались тоже втроем верхом на лошади. Из-за Сораймы мы двигались медленно. Я должен уехать через неделю после нарождения новой луны. Лали хотелось, чтобы я знал доподлинно, беременна она или нет. Прошлой луной у нее не было крови. Она боялась ошибиться, но если и на этот раз ее не будет, значит она с ребенком. Соррильо привезет мне одежду. Я должен буду одеться в деревне. Приходится повторяться, поскольку я, как и все индейцы гуахира, был совершенно голым. За день до отъезда мы втроем побываем у знахаря. Он нам скажет, оставлять мою дверь в доме закрытой или открытой. Ничего печального в нашем возвращении не было, даже если учесть положение Сораймы. Мои женщины предпочитали, чтобы все происходило в открытую и чтобы никто в деревне не подтрунивал над ними, думая, что я их оставил. Когда у Сораймы родится сын, она возьмет себе напарника и будет охотиться за жемчугом, чтобы скопить как можно больше к моему возвращению. Лали тоже будет ловить каждый день дольше обычного, чтобы как-то занять себя. Я очень сожалел, что не выучил больше дюжины слов на гуахира. Так много хотелось мне сказать им такого, чего не передашь через переводчика. Мы приехали в деревню. Первым делом следовало навестить Сато и извиниться за отъезд без предупреждения. Сато был благороден, как и его отец. Прежде чем я заговорил, он положил мне руку на горло и сказал: «Уйлу (молчи)». Новая луна народится через двенадцать дней. Еще восемь пройдет после новолуния. Итак, я уеду через двадцать дней.
Я снова принялся изучать карту, рассматривая варианты обхода деревень. За этим занятием на память мне пришли слова Хусто. Где я обрету большее счастье, чем здесь, где меня все любят? Не навлекаю ли я на себя несчастье, возвращаясь к цивилизации? Будущее покажет. Три недели пролетели, как одна. Лали убедилась, что забеременела. Теперь меня будут ждать двое или трое ребятишек. Почему трое? Ее мать дважды родила двойню. Мы поехали к знахарю. Нет, мою дверь не надо закрывать. Следует только воткнуть поперек двери ветку. Гамак, в котором мы спали втроем, теперь должен свисать с самой высокой части потолка. В этом гамаке они будут спать всегда вдвоем, поскольку Лали и Сорайма теперь одно целое. Затем он усадил нас поближе к очагу, бросил туда зеленых листьев и минут десять окуривал дымом. Мы отправились домой и стали ждать Соррильо. Он приехал в тот же вечер. Всю ночь мы провели за разговорами у костра рядом с моим домом. Через Соррильо я сказал пару теплых слов каждому жителю деревни. На рассвете я вошел с Лали и Сораймой в дом. Целый день мы занимались любовью. Сорайма предпочитала позу сверху. Так она лучше чувствовала мое тело в своем. Лали обвивала меня, словно цепкий плющ, крепко удерживая меня в своем теле, которое билось и трепетало, как и ее сердце. Отъезд выпал на послеполуденное время. Я говорил через Соррильо:
– Сато, великий вождь племени, принявшего меня и подарившего мне все, я должен сказать тебе: я ухожу от вас на много лун, и ты должен отпустить меня.
– Почему ты хочешь оставить друзей?
– Я должен идти и наказать тех, кто преследовал меня, как зверя. Благодаря тебе, вождь, я нашел пристанище здесь, в твоей деревне. Я жил счастливо, ел хорошо, обрел благородных друзей и двух жен, которые зажгли солнце в моей груди. Но все это не должно изменить меня как мужчину и превратить в животное, которое, найдя однажды теплое и сухое убежище, остается там навсегда из страха перед борьбой и страданием. Я иду навстречу врагам; я иду к своему отцу, который нуждается во мне. Здесь я оставляю свое сердце в моих женах – Лали и Сорайме и в моих детях – плодах нашей любви. Мой дом принадлежит им и еще не родившимся детям. Если кто-то из мужчин забудет об этом, я надеюсь, ты, Сато, напомнишь ему. Назначь человека по имени Усли, который под твоим неусыпным оком день и ночь будет наблюдать за моей семьей. Я глубоко всех вас люблю и буду любить вечно. Я все сделаю для того, чтобы скоро возвратиться к вам. Если я погибну, выполняя свой долг, мои мысли устремятся к вам – к Лали, Сорайме, и моим детям, и еще ко всем индейцам гуахира, ставшим для меня родным народом.
Я долго стоял и крутил головой во все стороны, стараясь запечатлеть в памяти мельчайшие подробности идиллической деревни, приютившей меня на целых полгода. Это племя индейцев гуахира, наводившее страх вокруг как на другие племена индейцев, так и на белых, обогрело меня, дало возможность перевести дух, предоставило мне ни с чем не сравнимое прибежище от людской злобы и несправедливости. Там я нашел любовь, мир, успокоение для ума и величие души. Прощайте, гуахира, дикие индейцы с полуострова на стыке Колумбии и Венесуэлы! Ваша огромная страна, к счастью, не познала влияния соперничающих из-за нее соседних цивилизованных стран! Ваш необузданный, первобытный образ жизни и умение защищаться научили меня многому, что может пригодиться в будущем: лучше быть диким индейцем, чем магистром права.
Прощайте, Лали и Сорайма, мои несравненные женщины, порывистые и непредсказуемые от природы, непринужденные в своих поступках. Перед самым расставанием они собрали весь жемчуг в небольшой холщовый мешочек и передали мне. Я вернусь. Это решено. Когда? Как? Я не знаю, но обещаю, что вернусь.
На закате дня Соррильо сел на свою лошадь, и мы отправились в Колумбию. У меня на голове соломенная шляпа. Я шел пешком, ведя лошадь под уздцы. Индейцы, все как один, стояли, закрыв лицо левой рукой, а правую простирали мне вослед. Это означало, что они испытывают боль и не хотят видеть мой отъезд, а протянутая рука призывала меня возвратиться. Лали и Сорайма прошли со мной не более ста метров. Мне казалось, что вот сейчас они поцелуют меня на прощанье, как вдруг они резко повернулись и с громким криком побежали к дому, так ни разу и не оглянувшись.
Тетрадь пятая
Назад к цивилизации
Тюрьма в Санта-Марте
Покинуть земли индейцев гуахира не представило никакого труда. Мы проехали пограничные посты Ла-Вела без всяких неприятностей. Тот путь, который для нас с Антонио оказался столь долгим и тяжелым, с Соррильо мы преодолели на лошадях за какие-то два дня. Не только сами пограничные посты представляли собой чрезвычайную опасность, но и вся обширная стодвадцатикилометровая зона, вплоть до Риоачи, откуда я бежал полгода назад.
В повстречавшейся нам таверне, где можно было поесть и попить, я провел свой первый эксперимент в разговоре с одним штатским колумбийцем. Соррильо при этом находился рядом. По его словам, вышло совсем неплохо: сильное заикание хорошо скрывало мой акцент и манеру речи.
И вот мы снова на пути к Санта-Марте. Соррильо должен меня оставить на полпути и вернуться домой.
Мы расстались с Соррильо. Решили, что будет лучше, если он возьмет лошадь с собой, поскольку владелец лошади должен проживать по конкретному адресу, принадлежать той или другой деревне, иначе он рискует попасть в неловкое положение из-за каверзных вопросов наподобие: «А вы знаете такого-то и такого-то? Как зовут мэра? Чем сейчас занимается мадам X? А кто у вас содержит погребок?»
Нет, лучше идти пешком; где-то подбросят на грузовике, а где-то подъедешь на автобусе. А после Санта-Марты можно будет сесть на поезд. Здесь для всех надо выглядеть forastero (чужаком), подрабатывающим чем придется и живущим где придется. Соррильо разменял для меня три золотые монеты по сто песо. Он дал мне тысячу песо. Хороший работник зарабатывал от восьми до десяти песо в день, поэтому этих денег мне вполне хватит на какое-то время. Я остановил грузовик, который следовал почти до Санта-Марты, крупного порта на побережье в ста двадцати километрах от того места, где мы расстались с Соррильо. Грузовик ехал за козами или козлятами – толком я так и не понял.
Через каждые шесть-десять километров – таверна. Шофер вылезает из кабины и приглашает меня выпить. Он приглашает – я плачу. И каждый раз он пропускает по пять или шесть стаканов крепкого. Я едва выпил один. К пятидесятому километру он был в стельку пьян. А может, больше, чем в стельку, потому что свернул не на ту дорогу, влетел в грязь, посадив в нее машину по самый задний мост. Колумбийца это нисколько не расстроило. Он полез спать в кузов, а мне предложил поспать в кабине. Я не знал, что мне делать. До Санта-Марты оставалось еще километров сорок. Когда ты с шофером, разные встречные-поперечные не задают тебе вопросов. И, несмотря на остановки, продвигаешься все-таки быстрее, чем пешком. Под самое утро я решил поспать. Забрезжил рассвет, значит времени было около семи. Появилась повозка, запряженная двумя лошадьми. Грузовик мешал проезду. И объехать невозможно. Поскольку я спал в кабине, меня, естественно, приняли за шофера и разбудили. Заикаясь, я разыгрываю из себя человека, обалдевшего спросонья, не соображающего, где он и что с ним.
Проснулся настоящий шофер и тут же вступил в словесную перепалку с возницей. Несколько раз принимались вытаскивать грузовик, но безуспешно – машина увязла крепко, зарывшись в грязь по самые оси. В повозке сидели две монахини в черных платьях и белых чепцах. С ними были еще три девочки. После долгого препирательства шофер и возница пришли к соглашению, что надо расчистить место в кустах, чтобы повозка могла объехать машину, направляясь одним колесом по обочине дороги, а другим – по расчищенному месту. Только таким образом можно было преодолеть грязный участок длиной в двадцать метров.
Шофер и возница взялись за свои мачете – специальные тесаки для рубки сахарного тростника; это орудие есть у каждого мужчины, которому приходится много ездить по дорогам. Они рубили подряд все, что стояло на пути, в то время как я собирал срубленные ветки и раскладывал их на глубоких и топких участках, чтобы колеса повозки не проваливались или не соскользнули в яму. Часа через два объезд был готов. Тогда-то ко мне и обратилась с вопросом одна из монахинь, сначала поблагодарив, а затем поинтересовавшись, куда я направляюсь.
– В Санта-Марту.
– Но вы же не туда едете. Надо возвращаться назад. Поедемте с нами, мы вас довезем почти до Санта-Марты. Останется каких-то восемь километров.
Отказываться было нельзя, это могло бы вызвать подозрение и выдать меня с головой. Мне очень хотелось сказать, что я останусь, чтобы помочь шоферу, но, натолкнувшись на языковый барьер, я предпочел самое простое: «Gracias. Gracias. (Спасибо)».
И вот я в повозке, сижу сзади с тремя девочками, а обе монахини устроились на переднем сиденье, рядом с возницей.
Мы тронулись и довольно-таки быстро проехали те злополучные пять или шесть километров, по которым пьяный шофер по ошибке зазря прогнал свой грузовик. Добрались до хорошей дороги и пустили лошадей легкой трусцой. В полдень остановились у гостиницы, чтобы перекусить. Девочки сели за один стол с возницей, я с монахинями – за другой. Обеим монахиням было лет по двадцать пять – тридцать. Обе белолицые. Одна испанка, другая ирландка. Ирландка осторожно и вкрадчиво задавала вопросы:
– Вы нездешний, правда?
– О да, я из Барранкильи.
– Нет, вы не колумбиец: у вас слишком светлые волосы, а что касается цвета кожи, то вы очень загорели. Откуда вы?
– Риоача.
– Что вы там делали?
– Электрик.
– О?! У меня там приятель из электрической компании. Его зовут Перес, он испанец. Вы его знаете?
– Да.
– Очень рада.
В конце обеда обе монахини встали из-за стола и пошли помыть руки. Вернулась одна ирландка. Она посмотрела на меня и сказала по-французски:
– Я не собираюсь вас выдавать, но моя спутница утверждает, что видела ваш снимок в газете. Вы француз, убежавший из тюрьмы в Риоаче, правда?
Отрицать было бессмысленно, если не хуже.
– Да, сестра. Я прошу не выдавать меня. Я вовсе не злой человек, как меня расписывают. Я люблю Бога и уважаю Его.
Появилась испанка. Разговаривая с ней, ирландка сказала: «Да».
Последовал быстрый ответ, которого я не понял. Они о чем-то размышляли. Затем обе встали из-за стола и снова прошли в туалет. Пока они отсутствовали минут пять, я лихорадочно обдумывал ситуацию. Не убраться ли мне отсюда, пока их нет? А может, остаться? Если они собираются выдать меня, то, уйду я отсюда или останусь, результат будет тот же. Если уйду, меня быстро найдут. Места здесь не очень лесистые. Полиции нетрудно выставить дозоры и установить наблюдение за дорогами, ведущими в города. Я решил довериться судьбе, которая до сих пор была ко мне благосклонна.
Монахини вернулись с сияющими улыбками на лице. Ирландка спросила мое имя.
– Энрике.
– Вот что, Энрике, поедемте с нами до монастыря, что в восьми километрах от Санта-Марты. Ничего не бойтесь – вы едете с нами. Не разговаривайте, тогда все подумают, что вы наш монастырский работник.
Сестры расплатились за свой обед и за меня тоже. Я купил зажигалку и двенадцать пачек сигарет. Мы поехали дальше. За всю дорогу монахини ни о чем меня не спросили, за что я им был искренне благодарен. А возница так и не догадался, что я говорю плохо. Во второй половине дня мы подъехали к большой гостинице. Около нас стоял автобус, на котором было написано: «Риоача – Санта-Марта». Я решил дальше ехать на нем. Подошел к ирландке и сказал ей о своем намерении.
– Это будет очень опасно, – ответила монахиня. – Прежде чем доберетесь до Санта-Марты, вам придется пройти через два полицейских поста, где от вас потребуют cédula (удостоверение личности), а в нашей повозке этого не случится.
Я сердечно ее поблагодарил, и все мои сомнения и страхи исчезли после этого как дым. Наоборот, какая удача, что я встретил этих монахинь. Как они и сказали, к вечеру мы достигли alcabale (полицейского поста). Проверяли автобус, следующий из Санта-Марты в Риоачу. Лежа в повозке на спине, я притворился спящим; соломенная шляпа надвинута на лицо. Девочка лет восьми, склонив головку мне на плечо, действительно спала. Когда повозка подъехала к черте проверки, возница остановил лошадей между автобусом и полицейским постом.
– Cómo están por aquí? (Как вы тут поживаете?) – спросила монахиня-испанка.
– Muy bien, hermana. (Прекрасно, сестра.)
– Me alegro, vámanos muchachos. (Рада слышать, поедемте дальше, дети.)
И мы спокойно отъехали.
В десять вечера другой пост, ярко освещенный электричеством. Две колонны автомобилей всевозможных марок. Машины подъезжают и справа, и слева, пристраиваясь в хвост очереди на проверку. Открываются багажники, и полиция проводит досмотр. Вижу, как одну женщину пригласили выйти из автомобиля. Она лихорадочно роется в сумочке. Ее уводят в здание контрольно-пропускного пункта. Вероятно, у нее нет cédula. В таком случае ничего не поделаешь. Пропускают по одной машине. Поскольку они выстроились в две колонны, нет никакой возможности проскочить без очереди под благовидным предлогом. Нет пространства для маневра. Приходится смириться и ждать. Я понял, что дела мои плохи. Перед нами небольшой автобус, забитый пассажирами до отказа. На крыше кузова чемоданы и коробки. Сзади в огромной сетке всевозможные пакеты, узлы с барахлом и прочая мелочь. Четверо полицейских подбадривают пассажиров, чтобы они поживей выходили из автобуса. В автобусе только одна, передняя дверь. Пассажиры выходят. У некоторых женщин на руках грудные дети. По одному их снова запускают в автобус. «Cédula. Cédula». Все протягивают полицейским свои пропуска с наклеенными фотографиями.
Соррильо не предупредил меня об этом. Если бы я знал, то заранее обзавелся бы такой карточкой. Дал себе слово, что если в этот раз пронесет, то не пожалею никаких денег на cédula и без удостоверения из Санта-Марты в Барранкилью не поеду. Барранкилья – большой город на побережье Атлантики. По справочнику в нем проживает двести пятьдесят тысяч человек.
Боже, как они затянули с проверкой этого автобуса. Ирландка повернулась ко мне:
– Лежите спокойно, Энрике.
Я даже разозлился на нее за это неосторожное слово – возница наверняка все слышал.
Подошла наша очередь. Повозка въехала на освещенный участок поста. Я решил сесть. Мне показалось, что лежать будет хуже: могут подумать, что я прячусь. Я сел, прислонясь к задней спинке повозки и уставившись в спины монахинь. Меня было видно сбоку. Соломенная шляпа надвинута на глаза, но не чересчур, не слишком вызывающе.
– Cóme están todos por aquí? (Как вы тут поживаете?)
– Muy bien, hermanas. Y cómo viajan tan tarde? (Хорошо, сестры. Почему так поздно едете?)
– Por una urgencia, por eso no me detengo. Estamos muy apuradas. (По срочному делу, поэтому не хочу задерживаться. Мы спешим.)
– Váyanse con Dios, hermanas. (Поезжайте с Богом, сестры.)
– Gracias, hijos. Qué Dios les proteja. (Спасибо, дети. Храни вас Бог.)
– Аминь, – сказал полицейский.
Нас спокойно пропустили, ни о чем не спрашивая. Через сотню метров повозка остановилась, и монахини на некоторое время скрылись в придорожных кустах. Когда ирландка снова оказалась в повозке, я растроганно сказал ей:
– Спасибо, сестра.
– Пустяки. Мы сами так перепугались, что у нас расстроились желудки.
В полночь мы прибыли в монастырь. Высокие стены, огромные двери. Возница поехал ставить лошадей и повозку на место. Трех девочек увели в монастырь. На ступенях монастырского двора разгорелся жаркий спор между двумя монахинями и сестрой-привратницей. Ирландка пояснила, что та не хочет будить настоятельницу, чтобы мне разрешили переночевать в монастыре. Здесь я совершил большую глупость, а следовало бы пошевелить мозгами. Надо было воспользоваться заминкой и уходить в Санта-Марту. До города оставалось всего восемь километров.
Эта ошибка стоила мне семи лет каторжных работ.
Наконец матушку настоятельницу разбудили, и мне предоставили комнату на втором этаже. Из окна виднелись огни города, маяк и огни бакенов на канале. Большое судно медленно выходило из гавани.
Лег спать. С восходом солнца в комнату постучались. Ночью мне приснился кошмарный сон. Лали раздирала себе живот прямо у меня на глазах, и оттуда кусками выпадал наш ребенок.
Я быстро побрился и умылся. Спустился вниз. У нижней ступеньки меня поприветствовала ирландка-монахиня с вымученной улыбкой на лице.
– Доброе утро, Анри. Хорошо ли спали?
– Да, сестра.
– Пройдите, пожалуйста, в приемную матушки настоятельницы. Она желает вас видеть.
Мы вошли. За столом сидела женщина лет пятидесяти или даже старше. Выражение лица злое, если не сказать свирепое. Черные глаза буравили меня насквозь без всякого снисхождения.
– Señor, sabe usted hablar español? (Вы говорите по-испански?)
– Muy poco. (Немного.)
– Bueno, la hermana va a servir de intérprete. (Хорошо, сестра нам переведет.) Говорят, вы француз?
– Да, матушка.
– Вы убежали из тюрьмы Риоачи?
– Да, матушка.
– Давно?
– Около семи месяцев.
– Где вы были все это время?
– У индейцев.
– Что? У индейцев гуахира? Не верю. Эти дикари никого не пускают в свои земли. Даже ни один миссионер не смог туда попасть, представьте себе. Это не ответ. Где вы были? Говорите правду.
– Я был у индейцев, матушка, и могу это доказать.
– Каким образом?
– Вот этим жемчугом, который они ловят.
Мешочек был пришпилен булавкой к куртке изнутри. Я отстегнул его и передал ей. Она открыла его, и горсть жемчужин высыпалась на стол.
– Сколько здесь жемчужин?
– Не знаю, может, пять, а может, шесть сотен. Что-то около того.
– Это не доказательство. Вы могли его и украсть где-нибудь.
– Чтобы вы успокоились, матушка, я останусь здесь, если вам будет угодно, до тех пор, пока вы не выясните, пропадал ли у кого-нибудь жемчуг за последнее время. У меня есть деньги, и я могу оплатить свое содержание. Обещаю, что никуда не двинусь из своей комнаты без вашего позволения.
Она жестко посмотрела на меня. Ее глаза как бы говорили: «А что, если ты убежишь? Ты убежал из тюрьмы, а отсюда и подавно удерешь».
– Я оставлю у вас мешочек с жемчугом – все мое состояние. Я знаю, оно в надежных и добрых руках.
– Ну хорошо. Зачем же вас запирать в комнате? Вы можете гулять в саду утром и в полдень, пока мои дочери молятся в часовне. Вы будете питаться на кухне вместе с прислугой.
Я вышел от нее более или менее успокоенным. Хотел пойти в комнату, но ирландка повела меня на кухню. Большая чашка кофе с молоком, свежий черный хлеб, масло. Монахиня стояла рядом и смотрела, как я завтракаю. Она испытывала какое-то беспокойство. Я сказал:
– Спасибо, сестра, за все, что вы сделали для меня.
– Я бы хотела сделать больше, но это не в моих силах, друг Анри.
И с этими словами она вышла из кухни.
Я сидел у окна и смотрел на город, порт и море. Земля вокруг была хорошо обработана и ухожена. Но чувство опасности не покидало меня. Я стал даже подумывать о побеге предстоящей ночью. Да шут с ним, с этим жемчугом: пусть матушка настоятельница употребит его на монастырь или заберет себе – это ее дело. Я ей не доверял, и на это были причины. Удивительно, как это она, каталонка, настоятельница монастыря, а следовательно, образованная женщина, не знает французского? Невероятно. Вывод: ночью надо бежать. Да, в полдень я выйду во двор и выясню, где можно перелезть через стенку. Около часа в дверь постучали.
– Пожалуйста, спускайтесь вниз на обед.
– Да, иду. Спасибо.
Я сидел за кухонным столом и едва успел притронуться к мясу с отварным картофелем, как дверь открылась и вошли четверо полицейских в белой униформе. У троих – винтовки, у офицера – револьвер.








