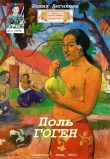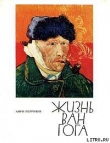Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анри Перрюшо
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Возвратившись к тексту своей рукописи "Католическая церковь и современность", Гоген переписал ее, отредактировал и назвал этот новый текст "Дух современности и католицизм"[207]207
Эта рукопись в настоящее время находится в Музее искусств Сент-Луиса.
[Закрыть]. По-прежнему одержимый тремя вопросами, в которых воплощено недоумение человека перед космическими силами, Гоген вновь нападал здесь на церковь, которая, с его точки зрения, лишила Евангелие его «подлинного, естественного и разумного смысла», превратив его «в свою противоположность», и «высокомерно» насаждает свой собственный «религиозный дух». По-видимому, Гоген не мог забыть дискуссий, которые велись в Ле Пульдю перед огромной Библией Мейера де Хаана. Во всяком случае, в картине, которую он назвал «Варварские сказания»[208]208
Находится в Музее Фолькванг в Эссене.
[Закрыть], он поместил де Хаана позади двух сидящих туземцев – юноши и девушки, по словам Мориса, прекрасной, как женщины Боттичелли.
В эти первые месяцы 1902 года Гоген был счастлив. Здоровье его заметно окрепло, денежные дела упорядочились, чем он был очень горд: "А Шуффенекер уверял, что я непредусмотрителен. Хотел бы я видеть его на моем месте". Несмотря на кризис в виноторговле, Фейе, который, по словам Монфреда, "любит считать и даже слишком", заплатил полторы тысячи франков за деревянную скульптуру, выполненную для него Гогеном. Со своей стороны, Воллар за такую же сумму купил композицию "Откуда мы?" и перепродал ее любителю из Бордо[209]209
Габриэлю Фризо, другу Жида, Клоделя, Франсиса Жамма.
[Закрыть]. Хотя торговец по-прежнему высылал деньги не очень аккуратно, Гоген не знал теперь материальных забот[210]210
С мая 1900 года, когда он получил первую ежемесячную плату от Воллара, по май 1903 года, Гоген получил 15220 франков (в 1900 году – 4270 франков, в 1901 – 4350, в 1902 – 6100, в 1903 – 500 (то есть в среднем за три года по 422 франка в месяц, немногим более тысячи новых франков).
[Закрыть]. В своем доме, стоявшем среди хлебных, кокосовых и банановых деревьев, он вкушал безмятежный покой. Он ни в чем не нуждался. Туземцы оборудовали ему ванну на открытом воздухе, возле самого дома. В тени деревьев он подвесил гамак, где мог отдыхать днем в самые жаркие часы. Колодец, вырытый под окнами мастерской, обеспечивал его холодной водой. Кувшин и бутылка абсента, постоянно погруженные в колодец, были привязаны к приспособлению, напоминавшему удочку, и когда Гогену хотелось пить, он в любую минуту мог достать их оттуда, не выходя из мастерской. «Это отдых, а в нем я и нуждался». При этом Гоген много работал и вскоре мог послать Воллару около двадцати полотен. Каждый день он радовался тому, что расстался с Таити и его чиновниками.
Однако администрация простирала свою докучную опеку и на Маркизские острова. Гоген убедился в этом, когда в марте от него потребовали уплаты шестидесяти франков – подушной подати и налога на содержание дорог. Налог на содержание дорог в стране, где никто никогда не проложил ни одной дороги! Интересно, куда идут эти деньги? На пополнение кассы Таити! Так они не дождутся от него ни гроша! Гоген тотчас уведомил управителя Маркизскими островами, господина Сен-Бриссона, резиденция которого находилась в Таихоаэ, на острове Нука-Ива, что он категорически отказывается платить упомянутый налог и его повар Кахуи тоже не будет платить двенадцать франков подушной подати. Перед тем как отправить письмо, Гоген дал его прочитать сержанту Шарпийе – тот пришел в ужас. "Не станете же вы подстрекать канаков не платить налоги! " – воскликнул жандарм. Гоген иронически ответил, что у него "есть дела поважнее", но "знай туземцы, как обстоят дела, они поступили бы, как я. Бояться им нечего – у большинства из них ничего нет".
3 апреля де Сен-Бриссон ответил художнику, что передал его протест губернатору французских поселений в Океании, но пока последний не сообщит свое решение, он, де Сен-Бриссон, обязан "неукоснительно выполнять закон, не вдаваясь в его обсуждение".
Эта переписка доставила большое удовольствие тем из поселенцев и коммерсантов на острове, которые относились к властям не лучше, чем Нгуен Ван Кам, и они поддерживали Гогена в его упорстве. Почти еженедельно в Дом наслаждений приходил баск по имени Гийету. Этот бывший сержант морской пехоты двадцать лет назад был освобожден от службы как раз на острове Хива-Оа. Сначала он стал торговцем в Хакеани, а теперь разводил быков в районе Ханаиапа. Какое-то темное дело в свое время привело его за решетку. С тех пор он пользовался каждым случаем, чтобы с уголовным кодексом в руке разоблачать злоупотребления властей или полиции. Сидя с Гогеном за стаканом абсента или рома, он был неистощим в рассказах о лихоимстве и других преступлениях, свидетелем которых он был на Хива-Оа. Да и вообще управляется колония из рук вон плохо. Те немногие товары, которые разрешается вывозить – скот, копру, ваниль или кофе, – облагают слишком большой пошлиной, и ее к тому же надо платить заранее. Вдобавок большая часть земель сосредоточена в руках кучки привилегированных лиц, которые разными неправдами выманили ее у туземцев. Пусть художник не удивляется, что владения католической миссии так обширны. Каждый год она отбирает землю у туземцев, большинство которых не умеют ни читать, ни писать и к тому же не разбираются во французском законодательстве – их ничего не стоит обмануть. Миссия иногда вместо всякой платы сулит им за отобранный участок земли "куда лучший – на том свете". Предшественник Шарпийе, сержант Франсуа Гийо, решительно возражал против действий священников и в минувшие годы подал несколько рапортов о "кражах земель, совершенных миссией в ущерб туземцам". Он даже заставил монсеньера Мартена вернуть некоторые из этих участков их прежним владельцам, и во Франции, кажется, даже вырабатывают указ в защиту туземцев от присвоителей их добра[211]211
Этот указ и в самом деле был опубликован 9 сентября 1902 года.
[Закрыть].
Гоген возмущался. С весны у него возобновились боли в ногах, и он снова стал нетерпеливым и вспыльчивым, как во время "Ос". Экзема зудела, раны гноились. Чтобы облегчить свои страдания, он стал прибегать к уколам морфия, но ему было настолько трудно передвигаться, что в мае он купил у Варни лошадь и двуколку и отныне совершал в ней свои прогулки. Он не скрывал, что стал "крайне впечатлительным". Монфред не писал ему несколько месяцев – Гоген извелся из-за этого молчания. Наконец он получил письмо от друга. "С каким восторгом я узнал Ваш почерк, с какой жадностью прочел письмо, – писал художник... – Ведь я уже не прежний Гоген", – пояснял он. И это была правда. Хотя физически он все еще был очень крепок, в пятьдесят четыре года он выглядел стариком. Кожа его сморщилась, волосы поседели, зрение все ухудшалось, и взгляд за стеклами очков в железной оправе потух. Но в особенности он изменился морально. Возмущаясь тем, как ничтожны те немногие европейцы, которые жили с ним по соседству и с которыми было невозможно говорить ни о чем серьезном – все их разговоры вертелись вокруг местных сплетен и сальных анекдотов, – Гоген тяжело переносил интеллектуальное и душевное одиночество. "Нет никого, кто бы поддержал меня и утешил", – жаловался он. Красота Атуоны быстро поблекла в его глазах.
Любая мелочь выводила Гогена из себя. С конца мая он впал в мрачное отчаяние: из-за того, что потерпел кораблекрушение "Южный крест", корабль Коммерческого общества, осуществлявший связь Маркизских островов с Таити, перестала приходить почта и не доставляли продуктов. Недопустимо, негодовал Гоген, что власти, если уж они не могут снарядить военный корабль, не посылают шхуну, чтобы доставить на архипелаг рис, муку, соль и картофель. "Можно утверждать с уверенностью, не боясь ошибиться, что будь здешняя колония местом ссылки, нас не посмели бы оставить без пропитания".
Тем временем сержанту Шарпийе пришла в голову трогательная мысль предложить Гогену стать председателем Комитета по празднованию 14 июля. В этом качестве художник должен был распределять певческие награды ученикам религиозных школ. Миссия предполагала, что бывший памфлетист "Ос", хоть он и не появляется в церкви, сохранил "добрые христианские" чувства и, поскольку он не любит протестантов, поддержит католические школы. В самом деле, миссия жестоко боролась с конкуренцией маленькой протестантской школы, которую открыл в Атуоне приехавший сюда в 1898 году молодой пастор Поль-Луи Вернье. Гоген то ли в насмешку, то ли из чувства справедливости, а может быть, по безразличию поделил первую премию между маленькими туземцами школы братьев, исполнившими "Гимн Жанне д'Арк", и учениками пастора, исполнившими "Марсельезу". Раздосадованные католики заявили, что это несправедливо, что это сектантство. Вскоре монсеньер Мартен запретил своей пастве посещать Гогена, который "выставляет напоказ опасную свободу нравов". Запрещение касалось в первую очередь женской половины населения.
Гоген хохотал. "Как! Мне хотят навязать обет целомудрия! Э, нет, шалишь!" Он отлично знал, что рассказывают об апостолическом наместнике на Маркизах. С одной стороны, епископ публично высказывал сожаление, что в нарушение закона многие женщины купаются голыми, и это, де, оскорбляет его стыдливость и стыдливость его монахов. Но это, однако, не мешало ему поддерживать любовные отношения со своей экономкой, молодой туземкой, получившей при крещении христианское имя Тереза. За два или три года до этого пасхальное богослужение в атуонской церкви было прервано самым неожиданным образом. Когда монсеньер Мартен служил мессу, другая юная туземка, по имени Анриетта, только что окончившая школу сестер, которую Мартен взял к себе в качестве второй экономки, в припадке ревности набросилась на Терезу: "Это потому, что ты спишь с епископом чаще, чем я, он подарил тебе шелковое платье, а мне из простого ситца!" Все эти сплетни забавляли художника. Раздобыв "два великолепных куска розового дерева", он вырезал из одного рогатого дьявола и назвал его "Отец Распутник"[212]212
В настоящее время находится в собрании Честер Дейл в Нью-Йорке. В Музее французских заморских территорий в Париже находится деревянная скульптура на сходную тему – «Святой Оранг».
[Закрыть], из второго девушку с венком на распущенных волосах – «Святую Терезу» и поставил их по обе стороны лестницы, куда на них приходили полюбоваться и потешиться туземцы и европейцы. «Если это легенда, то не я ее сочинил», говорил Гоген. Что до Анриетты, Гоген не придумал ничего лучшего, как сманить ее от епископа и поселить у себя. Она заменила Мари-Роз Ваэохо, которая, забеременев, отправилась в родную деревню, чтобы там родить в кругу семьи[213]213
Она родила дочь 14 сентября.
[Закрыть].
Сержант Шарпийе, которого его друзья-католики несомненно не поблагодарили за его затею, в один прекрасный вечер составил протокол, довольно смешной в условиях острова, обвиняя Гогена в том, что на его коляске нет фонаря. Воинственный пыл Гогена от этого разгорелся еще пуще. Художнику всегда было необходимо бороться. Но не те глубокие причины, которые побуждали его к борьбе в течение всей жизни, определяли его поведение теперь. Он действовал словно бы по инерции, затевая ссоры по поводам, которые в другие времена оставили бы его равнодушным. Он почти не писал – писал "мало и плохо". Его мучила экзема, а Гийету и некоторые другие соседи вроде отставного жандарма Рейнера, владельца кокосовой плантации, который непрестанно шельмовал своих прежних сослуживцев, разжигали его мстительный гнев. Гоген занимался теперь не столько живописью, сколько тем, что выслушивал жалобы и обвинения, иногда справедливые, иногда клеветнические, и брал на заметку все злоупотребления властей, которые обнаруживал сам или о которых ему сообщали. Подобно Флоре Тристан, которая когда-то защищала рабочих, он взял под защиту туземцев. Критикуя колонизацию в ее существующем виде, осуждая ее методы и результаты, он пытался мешать деятельности двух властей на архипелаге: жандарма, который исполнял множество обязанностей – был сборщиком налогов, таможенником, нотариусом, судебным исполнителем, начальником порта и пр., и миссионера. Его отношения с Шарпийе портились с каждой неделей. Гоген не только призывал туземцев не платить налоги, но и уговаривал их забрать детей из миссионерских школ, где их не учат ничему, кроме катехизиса, да внушают страх перед священниками. "Хватит с них и того, что они знают", ответил однажды директор школы мальчиков сержанту Гийо, которого это возмутило.
Шарпийе не разделял взглядов своего предшественника и составлял протоколы на родителей, виновных в том, что они послушались Гогена. Он посылал одно за другим донесения новому управителю Маркизских островов Пикено о "действиях господина Гогена". 28 августа он составил длительный перечень своих на него обид, описывая, как тот тащится на своих больных ногах к берегу, чтобы там проповедовать туземцам. Все больше учеников бросают католические школы, писал жандарм. Налоги поступают чрезвычайно медленно, ибо туземцы заявляют, что "будут платить, если заплатит Гоген". "Кроме этих неудобств господин Гоген причиняет еще и другие, второстепенные, в частности, благодаря своим нравам – нравам ученика Эпикура, каковых туземцам вовсе не следовало бы знать".
Пикено, человек порядочный, пытался поступать по справедливости – эти свары ему досаждали. К тому же он был только временным управителем острова, и он призывал сержанта соблюдать осторожность по отношению к ученикам миссии. Зная, что но закону нельзя принудить главу семьи отдать детей в школу конгрегации, если она расположена дальше, чем в четырех километрах от их дома, он конфиденциально предупреждал Шарпийе, что вынужден будет положить его рапорты под сукно. "Надо энергично убеждать родителей... не признаваясь в нашем бессилии", – наставлял его он.
Число учащихся в школах миссии сократилось вдвое. Но зато Гогена заставили уплатить налоги. Шарпийе получил приказ конфисковать кое-что из имущества художника и продать с торгов.
В день распродажи в Дом наслаждений слетелись все друзья Гогена. Со стаканами рома и шампанского в руках Гийету, Рейнер и Нгуен Ван Кам веселились вовсю, видя смущение жандарма, на которого Гоген не обращал ни малейшего внимания. Он даже не удостоил сержанта ответом, когда тот призвал его уплатить налоги, к которым прибавились еще судебные издержки, – всего шестьдесят пять франков. Тогда Шарпийе объявил, что с торгов будут проданы две туземные скульптуры и карабин. За столом никто и бровью не повел гости и хозяин продолжали пить и разглагольствовать, громко смеясь. Только через некоторое время Гоген наконец решился прекратить этот унизительный фарс. Он поручил Кахуи заплатить жандарму шестьдесят пять франков и просить его убраться подобру-поздорову.
*
20 августа, после восьмидесятидневного перерыва, связь с Таити была восстановлена и на Маркизские острова прибыла шхуна Коммерческого общества. Гоген получил радостные известия из Франции. Монфред твердо надеялся "устроить так, чтобы "Белую лошадь" купили за шестьсот франков[214]214
Монфред так никогда и не признался художнику, что это полотно купил он сам.
[Закрыть], а Фейе намеревался ближайшей весной организовать большую выставку его произведений в Безье. «Как знать, не приеду ли и я сам туда к этому времени!» – мечтал художник.
Устав от физических страданий, он начал строить планы возвращения в Европу. Перемена воздуха, более здоровый климат, без сомнения, пойдут ему на пользу. Да и разве его путешествие, долгое путешествие, которое привело его на край света, к "последним дикарям"[215]215
Выражение принадлежит Максу Радиге. Прикомандированный в качестве секретаря к генеральному штабу адмирала Дюнети-Туара, он с 1842 по 1845 год провел на Маркизских островах и запечатлел свои наблюдения в очень живой книге воспоминаний.
[Закрыть], не подошло к концу?
Как и его собрат Ван Гог, который, осуществив свое страстное желание вырваться на юг и проведя много месяцев в Арле и Сен-Реми, в Провансе, мечтал об одном – вернуться на север, поближе к родным краям, Гоген тоже почувствовал смутную тоску по родным местам. Но он мечтал вернуться не в Париж или вообще во Францию, он мечтал о другой стране – стране, которую никогда не видел, об Испании, где более века назад драгунский полковник, кавалер ордена св. Иакова, дон Мариане де Тристан Москосо, сошелся с молодой француженкой-эмигранткой. Гоген решил сначала обосноваться на юге Франции, по соседству с Монфредом, а потом отправиться на иберийский полуостров искать "новые элементы": "Быки и испанки с волосами, смазанными свиным салом, писаны тысячу раз, но удивительно, как по-иному я все это себе представляю!"
"Семья наша – самые чистокровные испанцы", – утверждала Флора Тристан, которая в своих химерических мечтах никогда не вспоминала о легендарных предках – инках, голоса которых Гоген слышал в своей душе.
Некоторые привилегированные посетители Дома наслаждений не без удивления обнаруживали в атуонском "строптивце" Гогене потомка инков, прислушивающегося к таинственным голосам. Одним из таких посетителей был поселенец из Фату-Хива, по национальности швейцарец, Греле, человек по-настоящему интеллигентный, чья семья в свое время была связана дружбой с Курбе. Хотя Гоген и ставил его порой в тупик, он быстро оценил неповторимое дарование автора "Варварских сказаний", в котором большинство европейских жителей острова видели просто "тронутого". Сложная личность художника увлекла Греле. Этот одинокий человек признавался ему, как он ненавидит одиночество, этот истовый служитель чувственности комментировал ему, как художник, серию непристойных эстампов Утамаро[132]
[Закрыть] («Японцы – вот у кого мы все должны учиться») и исполнял на фисгармонии произведения Баха, этот циник трепещущим голосом говорил о своей семье, от которой годами не имел известий. «Наверное, с отцом, который был бы на каторге, не посмели бы так обойтись», – писал Гоген Монфреду. А Варни он как-то вечером сказал: «Может быть, я слишком любил живопись...»
Но, пожалуй, больше всего Греле поражала в художнике его тяга к необычайному, к фантасмагорическому, к невидимому миру, с которым он, казалось, запросто вступал в связь. Силы этого мира были не столько благотворными, сколько пагубными; их колдовское влияние, несомненно, объясняло и очарование творчества художника и неудачи его личной жизни – и то и другое, нерасторжимо связанное между собой. Не было ли в этом творце, в котором слишком громко говорил человечек, рокового стремления портить свою жизнь, какого-то призвания к несчастью? Победа великих мастеров часто оплачивается их личными поражениями. "У меня дурной глаз", – вздыхал иногда художник с серовато-зелеными глазами.
III
ГЛУПАЯ ПТИЦА ЗАВЕРШАЕТ ПОЭМУ
В эти недели 1902 года Гоген часто возвращался мыслью в прошлое, оценивая и переоценивая самого себя. Он размышлял о том, как велико значение произведений, которые он после себя оставит, и заметным ли будет его влияние.
Казалось, одна мысль особенно неотвязно преследовала его – время от времени он повторял, точно оправдываясь перед собой: "Я исполнил свой долг". Более чем когда-либо, он был убежден, что избрал в искусстве единственно правильную дорогу. Конечно, в силу обстоятельств, препятствий, которые ему пришлось преодолеть, созданное им лишь "относительно удачно". Но зато он не сомневался, что его более чем двадцатилетняя борьба была не только полезна, но и необходима. "Пусть от моих произведений ничего не останется, но останется воспоминание о художнике, который освободил живопись от былых академических изъянов и от изъянов символистских...".
В сентябре Гоген написал большую статью – "Россказни мазилы", в которой излил свой "подспудный гнев", но которая заканчивается торжествующей нотой. Эту статью он отправил Фонтена, чтобы тот передал ее в "Меркюр де Франс". Не называя себя, Гоген показывает в ней значение того, что он совершил. Как он написал в октябре Монфреду, он хотел "утвердить право на любую смелость". Отныне искусство не должно быть ничем стеснено. Огромные, безграничные возможности открыты перед художниками в будущем. Перечисляя в конце статьи художников, которые вместе с ним способствовали живописному возрождению только что истекшего столетия, от Мане до Ван Гога, от Писсарро ("Это был один из моих учителей, я этого не отрицаю") до Сезанна и Тулуз-Лотрека, Гоген восклицал: "Мне кажется, это должно вполне утешить нас в потере двух провинций[216]216
Речь несомненно идет об Эльзасе и Лотарингии, которые Франция после поражения 1870 года вынуждена была отдать Германии.
[Закрыть], потому что тут мы покорили всю Европу и, главное, в последнее время утвердили свободу пластических искусств".
Теперь Гоген вообще чаще брал в руки перо, чем кисть. В декабре, измученный своей экземой, он вообще почти перестал подходить к мольберту. Страдая бессонницей, он по ночам писал. Он работал над книгой, сборником разнородных заметок – "Прежде и потом". Передав "не прямо, а через третьи лица" рукопись "Дух современности и католицизм" епископу Мартену, он получил от него в ответ толстый том истории церкви и теперь пытался опровергнуть этот труд по многим пунктам. И одновременно, само собой разумеется, он продолжал бороться за права туземцев.
15 октября на Маркизский архипелаг на борту канонерки "Усердная" в инспекционных целях прибыл губернатор французских поселений в Океании Эдуард Пети. Гоген от имени туземцев направил ему письмо, содержавшее требования и протесты. Он требовал, например, предоставить жителям Маркизских островов "право пить, какое предоставлено неграм и китайцам", возражал против злоупотребления протоколами, в несметном количестве составляемыми жандармерией.
Но губернатор Пети, которого сопровождал прокурор Шарлье – одна из жертв "Ос" и "Улыбки", отнесся к этому ходатайству с полным пренебрежением. Проходя с сержантом Шарпийе мимо дома Гогена, он заявил: "Вы ведь знаете, что это отъявленный негодяй!"
Губернатор приложил все старания, чтобы избежать общения с населением. Он ограничился только официальными визитами в жандармерию и епископство. Так, во всяком случае, считал Гоген, и это совершенно вывело его из себя. После отъезда Пети, в ноябре он отправил ему резкое письмо, в котором ядовито критиковал его равнодушие ("Мы не конюхи с вашей конюшни"), и подробно перечислял то, что губернатору довелось бы узнать, если бы он соизволил сбросить с себя свою "спесь". Гоген предупреждал его, что взбудоражит общественное мнение в метрополии. И в самом деле, художник отправил копию своего письма редактору "Меркюр де Франс", специализировавшемуся по колониальным вопросам, чтобы тот привлек внимание общественности к "жестоким фантазиям глупой администрации"[217]217
В ту пору редактор «Меркюр» не придал значения этому сообщению. Но два года спустя, после смерти Гогена, опубликовал это письмо на страницах журнала в отделе «Разное».
[Закрыть].
Гнев Гогена не остывал. Он то и дело ввязывался в туземные дела. Стоило сообщить ему о каком-нибудь нарушении закона, он немедля писал Пикено, взывая к его "чувству справедливости". Управитель должен был признать, что его неугомонный корреспондент часто бывает прав. 4 декабря в Атуону прибыл новый жандарм, сержант Жан-Пьер Клавери, который 16 декабря заменил в должности Шарпийе. Хотя Клавери был не слишком склонен поддерживать миссию, и это должно было примирить с ним Гогена, художник почти сразу же затеял с ним борьбу. Было совершено преступление, а Клавери занимался расследованием менее усердно, чем хотелось бы Гогену, – из трусости, боязни ответственности, как утверждал художник. "Но что же тогда будет с нашей безопасностью?" – негодовал Гоген.
В ожидании пока ему удастся высказать все, что он думает о таких, как Шарпийе и Клавери, судье, который должен был в ближайшее время явиться в Атуону, Гоген увлеченно работал над рукописью "Прежде и потом", включая в нее, по прихоти своих настроений, вперемежку воспоминания и размышления. К первой половине января 1903 года он написал уже довольно много страниц, когда на Маркизы обрушился циклон.
Циклону предшествовала двухдневная буря. А на второй день около восьми часов вечера вдруг поднялся шквал. Гоген был один у себя в мастерской. Ему никак не удавалось справиться с лампой– он ее зажигал, но очередной порыв ветра, яростно сотрясавшего крышу дома, тотчас ее гасил. И вдруг художник услышал "необычный глухой, непрерывный шум". Он вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, но оказался по колено в воде. В темноте, в бледном свете затуманенной луны, он увидел, как бурные потоки воды окружают его дом и, вихрясь водоворотами вокруг свайных столбов, крутят камни и вырванные с корнем деревья. Это разлилась река Атуоны, затопившая узкую прибрежную полосу. Всю ночь напролет Гоген со страхом ждал, что течение вот-вот снесет его дом, а с ним и; лари из камфарного дерева[218]218
Камфарное дерево благодаря своему запаху отгоняет москитов.
[Закрыть], где были сложены рисунки, начиная с самых ранних его работ. Но его на совесть сколоченное, надежно укрепленное на сваях жилье устояло. Когда рассвело, взгляду Гогена предстала страшная картина. Медленно отступившая вода затопила все вокруг, перерезала дороги, разрушила мосты, снесла хижины многих туземцев. Повсюду виднелись поваленные деревья[219]219
От этого циклона, в результате которого погибли пятьсот пятнадцать туземцев, особенно пострадали острова Туамоту. Остров Хива-Оа остался в стороне от наиболее опасной зоны циклона.
[Закрыть].
На другой день маркизцы горько жаловались на разрушения. Многим из них вода причинила большой ущерб. Циклон, погубивший побеги хлебного дерева, должен был отразиться на будущем урожае. Другу художника, Тиоке, участок которого был совершенно опустошен, пришлось заново отстраивать хижину. Желая ему помочь, Гоген подарил ему без всякого нотариального оформления часть своей земли. В то же время он написал ходатайство о том, чтобы двадцати двум туземцам с острова Тахуата выплата налога была отсрочена, пока они не соберут урожай, на что не соглашалась жандармерия, – несмотря на убытки, причиненные циклоном, от туземцев требовали немедленной уплаты налога, угрожая им штрафами.
Клавери, человек не менее раздражительный, чем Гоген, к тому же весьма ревниво относившийся к своим прерогативам и скорый на угрозы, все с большим трудом переносил постоянное вмешательство художника в вопросы, входившие в его, Клавери, компетенцию. Но ему нелегко было заткнуть рот Гогену. В начале февраля Рейнер рассказал художнику, что два американских китобойных судна во время циклона бросили якорь у острова Тахуата и, не заплатив пошлины, при пособничестве местного жандарма Этьена Гишене продали туземцам разные товары – мыло, ножи, часы, ткани... Гоген не мог пропустить подобное дело. За несколько недель до этого он считал (и писал об этом в "Прежде и потом"), что китобои поступают правильно, продавая контрабанду туземцам. "А что тут плохого? Чем тут возмущаться? Когда, наконец, люди поймут, что такое Человечество?". Но поскольку в дело оказался замешан жандарм, картина менялась. Гоген тотчас подал жалобу Пикено, побуждая его начать следствие.
Управитель, следуя "специальным инструкциям, против которых он неустанно протестует" (как утверждал он сам), сообщил о жалобе обвиненному жандарму. И вскоре проездом через Атуону дал знать художнику, что за это время таможенные декларации были оформлены. "Эти прохвосты умеют замести следы", – добавил Пикено, говоря о жандармах[220]220
Так, по крайней мере, утверждал Гоген.
[Закрыть]. Гоген уведомил управителя, что в таком случае его жалоба теряет смысл и он берет ее обратно.
С февральской почтой Гоген получил много писем, которые пришли с запозданием из-за циклона. Как он и предполагал, "Меркюр де Франс" отверг "Россказни мазилы". Но Гоген не придал этому значения. Он только что закончил "Прежде и потом", и ему теперь больше всего хотелось как можно скорее издать эту книгу "ненависти" и "мести" (он не боялся употреблять эти слова), где он написал "ужасающие вещи", в частности, о своей жене и о датчанах. Он поручил Фонтена, которому переслал рукопись, позаботиться об ее издании. "Читая ее, Вы между строк поймете мою личную злую заинтересованность в том, чтобы книга была издана. Я хочу ее издать". Одновременно он просил Монфреда любой ценой найти средства, необходимые для ее издания. "Можно продать все мои картины, написанные во время первой поездки на Таити, – валите все подряд, по любой цене". Рукопись "Россказней мазилы" он отдал Монфреду, рукопись "Прежде и потом" – Фонтена.
"Я буду вам очень признателен, – писал он Фонтена, – если Вы, что бы ни случилось, сохраните на память обо мне, в каком-нибудь укромном уголке, где придется, как дикарскую безделушку, а не на витрине с диковинками, эту рукопись с ее набросками. Это не плата, не "я тебе – ты мне". Мы, маркизские туземцы, такого не признаем. Мы только иногда дружески протягиваем руку. И на нашей руке не бывает перчаток".
Гогену вручили два письма от Монфреда. Существенным в них было только одно: Монфред, в согласии с Фейе, решительно отговаривал Гогена возвращаться на Запад. "Натужное" европейское существование погубит "и без того уже разрушенное здоровье" Гогена.
"А главное, – писал далекий друг Гогена, – как бы Ваше возвращение не помешало тому процессу, который совершается в общественном мнении, тому инкубационному периоду, который оно переживает по отношению к Вам: в настоящее время на Вас смотрят как на удивительного, легендарного художника, который из далекой Океании посылает странные, неподражаемые произведения – итоговые произведения великого человека, так сказать, исчезнувшего из мира. Ваши враги (а их у Вас много, как у всех, кто мешает посредственности) молчат, не смея выступить против Вас, и даже не помышляют об этом – Вы ведь так далеко!.. Вы не должны возвращаться... Вы пользуетесь неприкосновенностью великих покойников, Вы вошли в историю искусства. А тем временем публика воспитывается; кто сознательно, кто невольно распространяет Вашу известность. Этому способствует мало-помалу даже сам Воллар. Может, он уже учуял Вашу бесспорную всемирную славу. Так вот, дайте этому процессу завершиться: он еще только начался. Нужен еще год, может быть, два, чтобы он принес свои плоды. Наберитесь терпения и ждите – другие трудятся для Вас".
Как ни лестно было для него это мнение Монфреда, Гоген не соглашался с другом. Он считал, что для его здоровья полезнее жить в Европе. Зудящая экзема почти не давала ему передышки. К тому же он боялся ослепнуть. "И вот я спрашиваю себя, что со мной будет, если Воллар, даст тягу?" На Маркизах он чувствовал себя под угрозой, считал, что его подстерегают опасности. При любой оплошности, при малейшем проявлении слабости его "раздавят", считал Гоген. "А во Франции можно скрыть свою беду, да и тебя могут пожалеть", писал он.
Странно слышать это слово "пожалеть" в устах художника-бунтаря, который непрестанно донимал местную власть. Судья, уже несколько дней заседавший в Атуоне, все время видел Гогена в зале суда. Заседания протекали бурно, между сторонами то и дело вспыхивали перебранки. Несколько раз судья отдавал приказ жандармам вывести художника. "Горе жандармам, если они посмеют до меня дотронуться!" – гремел Гоген, потрясая своей палкой.
Он выходил, но возвращался снова и возобновлял свои нападки. В особенности доставалось от него жандарму из Ханаиапа. Этот жандарм, преданный миссии, попытался запретить туземцам-протестантам петь песни по их собственному выбору. Дело кончилось тем, что он составил против них протоколы. "По какому праву этот жандарм вздумал дискредитировать чью-то веру и почтенного, всеми уважаемого пастора?" – вопрошал Гоген. Судья был вынужден оправдать туземцев.
Этот же самый жандарм с помощью местного вождя подстроил ловушку туземцам Ханаиапа. Через его посредство он подбил их устроить оргию, напиться кокосового сока, а потом составил протокол.
Судья разрешил Гогену выступить в суде по этому делу, но за недостатком улик Гогену не удалось добиться решения в пользу своих подзащитных. Однако при выходе из зала суда Гоген в присутствии Рейнера и Варни уличил вождя в даче ложных показаний. Гоген отправился в жандармерию, и там у него произошла такая жестокая стычка с сержантом Клавери, что по возвращении домой у него началось кровохарканье – пришлось лечь в постель. Это не помешало ему написать судье подробное письмо, в котором, сообщив о признании местного вождя, он с иронией описывал свой разговор с сержантом: