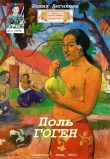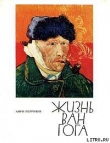Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анри Перрюшо
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Гоген был растерян, убит. В эти тяжелые дни его постигла еще одна беда, заставившая еще сильнее возненавидеть холодную, враждебную, пагубную Европу, к которой он испытывал все более глубокое отвращение. Как-то вечером в январе он отправился с Сегеном на танцы на авеню Мен. Там к нему привязалась какая-то проститутка. Полицейский предупредил Гогена, что с этой девицей иметь дело опасно, но Гоген пожал плечами: "В моем возрасте уже ничего не подцепишь". Теперь он жестоко расплачивался за свою неуместную браваду – у него обнаружился сифилис. В начале марта Гоген поехал на несколько дней в Бретань, как видно, чтобы уладить неотложные дела. Сеген, который оказался там одновременно с ним, 7 марта писал О'Коннору: "Бедняга очень болен. Все его тело покрыто сифилитическими язвами, особенно раны на ноге".
И в самом деле, лодыжка Гогена заживала очень медленно. Раны не зарубцовывались.
*
Как только Метте прослышала об аукционе в Отеле Друо, она написала мужу, чтобы "напомнить, что у него пятеро детей".
"Я уже давно ждал твоего письма",– язвительно ответил ей Гоген. И поспешил сообщить жене о "подлинных" итогах распродажи. Что до прибыли, то он потерял около пятисот франков. Трудно сказать, сознательно ли Гоген сообщал ей эти неверные данные или ошибался – потому что бывшему маклеру нередко случалось путать цифры[165]165
И даты. В декабре 1893 года он писал дочери: «Дорогая моя Алина, ты уже совсем большая, тебе шестнадцать лет... Мне даже казалось, что семнадцать, ведь ты родилась 25 декабря 1876 года?» Эта дата неверна вдвойне, потому что Алина родилась 24 декабря 1877 года. Гоген существовал в весьма зыбком мире. К тому же у него была на редкость плохая память. Например, он не мог сказать, сколько времени прожил в Арле с Ван Гогом. Площадь Ламартина в Арле превратилась в его воспоминаниях в площадь Виктора Гюго и т. п.
[Закрыть]. Но так или иначе цифры, которые Гоген раздраженно бросил в лицо Метте, были нужны ему не столько для того, чтобы оправдаться, сколько как повод излить свои обиды. «Любой человек, окажись он на моем месте после моего возвращения, пришел бы к печальным выводам о жизни, семье и обо всем прочем». Пусть Метте не заблуждается. Она больше ничего от него не получит. «В сорок семь лет я не хочу впасть в нищету, а я почти нищий. Рухни я, никто не протянет мне руки. Твои слова „выпутывайся, как знаешь“ – полны глубокой мудрости. Я ее и придерживаюсь».
Это письмо, которым фактически заканчивается переписка супругов, очень характерно для настроения Гогена весной 1895 года. Истерзанный, настороженный, раздраженный, он больше ни во что не верил – верил только, что сможет насладиться покоем, когда ему удастся наконец уехать в Океанию, подальше от Европы и европейцев, среди которых его преследуют несчастья. В печи у Шапле Гоген обжег статуэтку, изображающую Овири – туземную Диану. Он представил статуэтку в Салон Национального общества изящных искусств. Ее не приняли. Тогда Шапле выставил статуэтку в своей собственной витрине. От керамиста требовали, чтобы он ее убрал. Шапле проявил стойкость, и статуэтка осталась в витрине, но Гогену эта история нанесла еще одну обиду. Он реагировал на эти удары с яростью раненого животного. В двух своих статьях, которые газета "Суар" опубликовала 23 апреля и 1 мая, он обрушился на ассоциации художников, которые заправляют Салонами, на чиновников, на дирекцию Департамента изящных искусств – "ярчайшее воплощение общественной бесполезности", – как он выражался. В это же самое время ему нанес удар еще и Эмиль Бернар.
В марте 1893 года Бернар уехал из Франции в Италию, а потом на Восток. Теперь он обосновался в Каире. Пережитый им кризис разрешился неожиданным образом. Отказавшись от поисков своей молодости, Бернар пошел по пути, противоположному тому, куда они вели, и стал последователем византийской школы и старых итальянских мастеров. Свою новую позицию он мотивировал эстетическими, философскими и даже религиозными доводами.
"То, что нравится душе, идет от бога", – утверждал Бернар. Позже он писал: "Я часто исповедовался и причащался и вел жизнь, настолько благочестивую, что никогда не принимался за работу, не выстояв мессы и не помолившись со скрещенными руками у алтаря святого Франциска Ассизского. Я стал терциарием ордена францисканцев, мечтал писать одни только церкви и жить, предав забвению все остальное".
Тем не менее Гогена Бернар не забывал, он преследовал его своей ненавистью и не упускал случая письменно на него обрушиться. В февральском номере "Меркюр де Франс" среди художников, "которые не постеснялись копировать" Сезанна, Бернар назвал Гогена и – как это ни странно и ни нелепо – Писсарро, который был учителем художника из Экса. А в конце апреля Бернар написал Шуффу письмо, которое глубоко взволновало последнего.
"Бернар, – сообщал Шуфф Гогену, – выдвинул против Вас чудовищное обвинение, основанное на признании, которое Вы якобы сами ему сделали, и утверждает это с такой уверенностью, что я в полном замешательстве. Подобного рода слухи доходили до меня после нашей ссоры, но так как они исходили от моего брата, я не придавал им значения, считая их досужими и глупыми сплетнями. На этот раз дело обстоит по-другому... К тому же поведение моей жены с Вами в ту пору тоже не прошло для меня незамеченным".
Словом, как писал Шуффенекер, "все вместе взятое не могло меня не смутить".
Гоген, которого он просил объясниться[166]166
Эти письма опубликованы Урсулой-Франс Маркс-Ванденброук в ее диссертации о Гогене.
[Закрыть], ответил, еле сдерживая гнев. «Еще до моего отъезда, – писал он Шуффу, – Вы, как дурак, подпали под влияние этого змееныша. Сегодня дело обстоит куда серьезнее. Что я могу ответить Вам на эту клевету? Ничего. Если бы меня просил об этом другой человек, я высмеял бы его и послал к черту, но, поскольку речь идет о Вас, я страдаю, потому что страдаете Вы». Однако эти слова не могли полностью успокоить Шуффа. «Одно обстоятельство в этом деле остается для меня неясным. Как бы ни свихнулся Бернар, как бы ни обезумел от ненависти к Вам, откуда ему могло прийти в голову такое чудовищное обвинение? Если Вы не против, мы с Вами поговорим об этом при встрече»[167]167
Он сам вспоминал об этом инциденте несколько лет спустя в «Прежде и потом».
[Закрыть].
Гогена глубоко задело обвинение Бернара[168]168
«Со стороны человека, обладающего Вашим характером, Вашей жестокостью, никакой безжалостный поступок меня не удивит, но я никогда бы не поверил, что человек Вашего таланта способен совершить низость», – писал Шуфф в неопубликованном черновике письма к Гогену.
[Закрыть]. Он был в ярости на «очаровательного юнца». «Я встречал в своей жизни многих сволочей, но худший из всех маленький Бернар. Шагу нельзя сделать, чтобы не наступить в оставленное им дерьмо. Он... на всех углах». А в июне Бернар опубликовал в «Меркюр» новую статью, в которой неистовствовал против Гогена: «Факты неоспоримо подтвердили мне, что Гоген воспользовался частью, притом наибольшей, моих усилий, так что я не могу это отрицать».
Тут Гоген не выдержал и разразился язвительной статьей, в которой начертал творческий путь своего бывшего бретонского друга.
"В чем состоят его пресловутые поиски в искусстве, – спрашивал он. – В чем они выразились?.. Эх, господин Бернар, чем писать статьи, пытаясь создать себе индивидуальность, какой у Вас никогда не будет, пишите-ка лучше картины с последовательностью во взглядах и не давайте повода целому поколению художников, следящих за Вами с Ваших первых шагов в Понт-Авене, считать Вас шарлатаном. И в особенности не нападайте на Вашего наставника. А что Вы его таковым считали, свидетельствует посвящение: "Полю Гогену, мужественному и безупречному наставнику и пр. Бернар". Тем более, что тот не дает себе труда Вам отвечать, разве что своими произведениями, всегда имеющими между собой нечто общее, несмотря на незначительные вариации, которые художник, стремящийся к совершенствованию, всегда вносит в каждое произведение".
Эти мстительные заметки по неизвестным причинам остались неизданными"[169]169
Впоследствии они были опубликованы Анри Дорра в «Газет де боз-ар» в апреле 1955 года.
[Закрыть].
В разгар всех этих огорчений Гоген упорно искал возможности осуществить свой план и уехать на острова. Он хлопотал о должности резидента в Океании, но безуспешно. Рассчитывать приходилось только на свою живопись.
Гоген продал несколько картин владельцу кафе "Варьете" Огюсту Боши, большому другу художников и страстному коллекционеру. 20 июля Боши должен был заплатить ему две тысячи шестьсот франков. Кроме того, небогатый торговец картинами Тальбум, с которым Гогена познакомил Морис, должен был через год, в мае, выплатить ему восемьсот франков за картину, которую он выбрал. Со своей стороны Мофра уверял, что сможет продать одну картину знакомому врачу. Это должно было дать еще триста франков. Наконец окантовщик Добур обещал, как только получит деньги, выплатить художнику шестьсот франков, которые он ему был должен за старую покупку. Гоген делал подсчеты. Пункт первый: денег, которыми он располагал, должно было хватить на дорогу и обзаведение. Пункт второй: в Океании ему хватит двухсот франков в месяц, чтобы существовать безбедно. С четырьмя тысячами тремястами франков, которые ему должны выплатить, он сможет продержаться почти два года. Остается проблема будущего. Гоген хотел иметь некоторые гарантии.
В конце концов он получил их от двух торговцев картинами – Леви с улицы Сен-Лазар и Шоде с улицы Родье. Хотя они признавали, что живопись Гогена не так-то легко "заставить проглотить", оба считали, что в довольно короткий срок смогут продать его картины. Это был "вопрос времени". "Можете спокойно уезжать, – объявили они ему, – мы не бросим вас в затруднительном положении".
Гоген только этого и ждал. Он разместил у торговцев свои картины и скульптуры, потом занялся последними приготовлениями к отъезду, теперь уже близкому и более чем когда-либо одинокому, потому что ни Сеген, ни О'Коннор с ним ехать не собирались. Он роздал друзьям сувениры и сложил чемоданы.
28 июня Морис объявил в "Суар", что назавтра Гоген навсегда покидает Францию. Гоген уезжал без шума, почти украдкой. Он не хотел "прощаний на вокзале, которые волнуют и утомляют" и поэтому просил друзей не провожать его. В последний момент супруги Молар и Пако Дуррио все-таки настояли, что они его проводят. На перроне они единственные и пожали ему руку на прощание...
3 июля на борту "Австралийца", уходившего из Марселя, Гоген покинул Европу. "Там в тишине среди цветов мне остается вырезать себе гробницу", сказал он Морису.
III
АЛИНА
На борту парохода, вперив безжизненный взгляд в морские просторы, Гоген продолжал бесконечный спор с самим собой. Правильно ли он поступил, бросив все, примирившись со своей участью, отказавшись надеяться наперекор всему? В его памяти вставало нежное и печальное лицо Алины, ее задумчивые глаза, и сердце его сжималось. Никогда!.. Никогда!..
Гоген даже не сообщил Метте о своем отъезде. Он был уверен – его бегство расценят как "преступление". "Совершенно верно, я великий преступник. Ну и что? Микеланджело[122]
[Закрыть] тоже был преступником, да только я не Микеланджело". Но знают ли те, кто его обвиняет, «какая мука – неудачный брак? Развестись – легко сказать, но как? И почему нельзя разойтись попросту, без всяких судейских?» На борту «Австралийца», а потом на борту парохода, который доставил его из Новой Зеландии на Таити, Гоген думал одну и ту же думу и приходил все к тем же выводам. Он умрет здесь. Он построит себе хижину, будет разводить птиц, выращивать овощи, а также ваниль и кофе и будет их продавать. «А мое семейство – уж если без меня им помочь некому – пусть выкручивается как знает!»
Никогда! Никогда!..
В Порт-Саиде Гоген накупил порнографических открыток. А приехав на Таити, где уже не мог вернуть Техуру, которая вышла замуж, пустился в разгул с местными женщинами. "Все ночи напролет отчаянные девчонки не вылезают из моей постели. Вчера у меня их было сразу три".
Сначала он подумывал, не перебраться ли ему на Маркизские острова. Но в конце концов арендовал клочок земли в Пунаауиа, сравнительно недалеко от Папеэте, по дороге, идущей вдоль моря к Матаиеа.
Пожалуй, это был самый красивый район Таити. Широкая долина спускалась с холмистого берега в глубь острова и тянулась до горы Орофена – самой высокой вершины острова, достигавшей двух тысяч двухсот метров. Хижины туземцев прятались среди кокосовых и банановых деревьев, гуав, красного жасмина и брахихитонов. Вдоль лагуны, переливавшейся всеми мыслимыми оттенками, на много километров тянулся белый пляж. Напротив вздымался остров Моореа, фантастически выделявшийся на фоне волн в ореоле заката.
В этом волшебном уголке художник выстроил просторную хижину из двух комнат, крытую листьями кокосовой пальмы. В спальне всегда царил полумрак и было прохладно, мастерская была залита светом. На полу Гоген расстелил циновки, старый персидский ковер, стены увешал рисунками, тканями, расставив повсюду безделушки. Рядом с хижиной находился сарай-конюшня, где Гоген держал купленные им лошадь и двуколку.
"Как видите, особенно жалеть меня не приходится", – писал Гоген Монфреду в ноябре и, шутливо упомянув о своей разгульной жизни в первые недели пребывания на Таити, добавлял: "Но теперь я хочу покончить с распутством, взять в дом серьезную женщину и работать не покладая рук, тем более что я чувствую себя в ударе и думаю, что буду писать лучше, чем прежде".
И, однако, его не покидала тревога. Кроме письма Монфреда и еще одного от Мориса из Парижа не было ни строчки. Его должники, и в частности Боши, который еще в июле должен был выслать ему две тысячи шестьсот франков, не торопились с ним расплатиться. А деньги таяли. Постройка хижины обошлась дорого. И к тому же он признавался сам: "Как всегда, когда у меня заводятся деньги и появляются надежды, я трачу, не считая". Но если ему теперь не пришлют денег, он вскоре окажется на мели.
Отныне, как только приходила почта, Гоген бросался к почтовому окошку, с каждым разом все больше торопясь и волнуясь. Но тщетно. Ни писем, ни переводов не было. Как и четыре года назад, во время его первой поездки, началось бесконечное ожидание, и снова его охватывало чувство неуверенности – мучительной, тягостной неуверенности, "а это самое худшее в моем положении". Хоть бы ему написали, чтобы он знал, как обстоят дела! Даже дурные новости он предпочел бы неизвестности. Ждать, ждать в бездействии и мучительной тревоге – вот все, что ему оставалось.
Эта тревога, которую отягчало сознание собственного бессилия, лишала Гогена мужества и сил в борьбе с физическими недугами. В размягчающем климате Таити снова открылись раны на его ноге. Лодыжка болела, он не спал ночами. Печальной была для него зима 1895/96 года, когда красота Пунаауиа, пылавшей под солнцем яркими красками своих бесчисленных цветов, только еще усугубляла его страдания. Когда боли в ноге немного отпускали, он писал. Он продолжал петь свою песню. На его полотне возлежала маорийская Олимпия варварская Венера, которой он поклонялся. Его новая вахина Пахура, девушка тринадцати с половиной лет, несомненно позировала для этой картины "Женщина под деревом манго" ("Те арии вахине")[171]171
В настоящее время находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
[Закрыть]. Холст пронизан безмятежной чувственностью. «Мне кажется, что мне еще никогда не удавалось добиться такой величавой и глубокой звучности в цвете». Гоген достиг вершин мастерства. Но как велик был контраст между художником, для , которого настал момент создания шедевров, и человеком, который в ту же пору горестно жаловался, что «исчерпал не только все свои деньги, но и все свои силы».
Месяцы шли, а из Франции по-прежнему ничего не было. Должники точно воды в рот набрали. Гогену пришлось занять пятьсот франков, чтобы прокормиться. "С пятьюстами франков, что я должен за дом, это составляет тысячу франков долга, – писал он в апреле 1896 года Монфреду. – А меня не назовешь неблагоразумным – я живу на сто франков в месяц со своей вахиной... сами видите, это не много, а тут еще табак для меня и мыло, и платье для малышки – итого десять франков уходят на туалетные нужды". В довершение беды из письма Монфреда Гоген узнал, что Леви отказался заниматься продажей его картин. Это был жестокий удар. Теперь будущее Гогена зависело от одного Шоде. "Все рушится... Чем дальше я иду, тем глубже увязаю".
Он узнал также, что Метте потребовала, чтобы Шуфф передал ей картины мужа, и Шуфф послал ей несколько картин. "Бедняга Шуфф считал, что поступает правильно, я не могу на него за это сердиться. Он всегда питал к ней слабость и считал ее несчастной. ...Моя жена продаст картины и на эти деньги купит хлеба с маслом. Так-то!"[172]172
Метте писала Шуффу 31 января: «Чудовищный эгоизм Поля превосходит всякое человеческое воображение, и больше всего меня раздражает, что он считает себя „мучеником искусства“. А в общем, пусть носится, где хочет, я счастлива, что Вы сохранили обо мне такую теплую память, что готовы позаботиться обо мне. Поэтому, если Вы можете получить картины, пожалуйста, пришлите их мне, я попытаюсь их продать и, само собой, Полю денег не пошлю».
[Закрыть].
Художник приходил в отчаяние. Он взывал о помощи, просил Шуффа обратиться к графу де Ларошфуко, который выплачивал Филижеру и Бернару годовую ренту в тысячу двести франков, чтобы получить от него вспомоществование в обмен на картины. Гогену были тягостны эти просьбы. Но что еще ему оставалось? "Домье, который был никак не хуже меня, без стеснения принял ренту от Коро". И у него вырвалась жалоба: "Мне никогда никто не помогал, потому что меня считают сильным, и я был слишком горд. Но теперь я повержен, я слаб, я почти обессилен беспощадной борьбой, которую я вел, я стою на коленях, отбросив всякую гордость. Я самый настоящий неудачник".
Самоубийство он считал "нелепым поступком", но, как знать, не вынудят ли его в конце концов покончить с собой. Хотя это было бы слишком глупо. Лежа на своей постели с перевязанной ногой, Гоген ломал себе голову, изыскивая способ выбраться из затруднений и строя "уйму комбинаций". Одна из них, о которой он в июне сообщил Монфреду и Мофра, казалась ему великолепной. Речь шла о том, чтобы пятнадцать любителей, сложившись, выплачивали ему две тысячи четыреста франков ежегодной ренты, то есть по сто шестьдесят франков каждый. А он взамен будет посылать им пятнадцать картин, которые будут разыгрываться по жребию.
"Совершенно очевидно, что такая цена за мои картины не слишком велика[173]173
160 франков, которые любители платили бы за каждую картину, составляют около 400 новых франков.
[Закрыть] и что через некоторое – и довольно короткое – время покупатели увидят, что не остались в проигрыше... Руки у меня не загребущие, черт побери! Зарабатывать двести франков в месяц (меньше, чем рабочий) на пороге пятидесяти лет, при довольно известном имени! Излишне говорить, что хламом я не торговал никогда и сейчас не собираюсь... И если я готов жить в бедности, то потому, что не хочу заниматься ничем, кроме искусства".
Письмо Мофра, в котором тот сообщал, что в июле вышлет триста франков, как видно, немного успокоило Гогена, и он решился наконец лечь в больницу в Папеэте, чтобы подлечить ногу, которая мучила его все сильнее. Но, к сожалению, в июле деньги не пришли ни от Мофра, ни от кого другого. Как же он сможет расплатиться с врачами по выходе из больницы?
Гоген поддерживал довольно регулярные отношения с офицерами сторожевого судна "Дюранс". Иногда он обедал в их кают-компании. Офицеры в свою очередь приходили к Гогену в Пунаауиа, причем приносили с собой кое-что из съестного. Младший офицер Ревель должен был в этом месяце вернуться во Францию. Художник вручил ему для передачи Монфреду девять картин. Гоген так плохо себя чувствовал, что ошибся в адресе – перепутал номер дома на бульваре Араго, где теперь жил его друг. За месяц до этого, снова вспоминая о полотнах, которые Шуфф послал Метте, Гоген подчеркнул в письме к Монфреду, что отныне его жене не следует посылать ни одной картины, не получив с нее предварительно денег. "Я хочу иметь треть от продажи моих картин, а так как я ей больше не доверяю, я хочу получать деньги вперед. Коротко и ясно!"
Когда в августе Гоген вышел из больницы, его дела оставались в прежнем положении. Мофра долга не вернул. Не посылали денег ни Боши, ни Добур, ни Тальбум. "Представляете, какой у меня был вид, когда мне пришлось признаться, что я смогу заплатить сто сорок франков только позднее!"
Раны на ноге не зарубцевались, но по крайней мере не причиняли ему страданий. Однако разве он мог поправиться? "Как мне восстановить силы, когда мне нечего пить кроме воды, а вся моя еда – немного отваренного на воде риса". Но в конце концов и с этим можно было бы смириться, если бы его поддерживала хоть какая-нибудь надежда. Увы!.. Было совершенно очевидно, что во Франции никто не представлял себе толком, в каком он очутился положении. Это объяснялось, конечно, эгоизмом. Когда речь идет о другом, все быстро успокаиваются. Гоген преувеличивает, он не так бедствует, как уверяет[174]174
«На мой взгляд все это сильно преувеличено, – писал Сеген О'Коннору 18 июня. – Не забудьте, что ответа придется ждать не меньше полугода, и Гоген, наверное, принял какие-то меры предосторожности».
[Закрыть]. Но была в этом и неспособность людей выйти за пределы собственных представлений, мысленно пережить судьбу другого. Каждый человек замкнут в своем обособленном мире, отделенном Великой китайской стеной некоммуникабельности от других людей. Люди говорят друг с другом, но друг друга не понимают. Шуффенекер, который в феврале – марте выставил свои живописные работы и пастели в книжном магазине «Независимое искусство», жаловался в письме к Гогену, что выставка потерпела «полный провал». Он считал себя куда более обиженным судьбой, чем Гоген, у которого, по мнению Шуффа, было все: «слава, сила, здоровье!» «Будь Вы более осторожны и предусмотрительны, Вы теперь жили бы в достатке, а если бы при этой предусмотрительности, у Вас было бы еще немного больше доброжелательности и терпимости по отношению к Вашим современникам, Вы были бы счастливым человеком». Несмотря на горечь, которая проскальзывает в этих словах, Шуфф, конечно, не имел в виду ничего дурного. Он просто поддался своему мрачному настроению[175]175
Несколько месяцев спустя, в январе 1897 года, Шуфф писал в своем дневнике: "Мне сорок пять лет, но я старее любого патриарха, я устал, я пуст и мрачен, как могила. Годы накапливали над моей головой разочарования и горести. Жизнь постоянно унижала и оскорбляла меня. Если бы кто-нибудь захотел дать мне прозвище со значением, он должен был бы назвать меня «раненое сердце».
[Закрыть]. Ни на одно мгновение он не задумался о том, какое впечатление так некстати вырвавшиеся у него завистливые слова и неуместные рассуждения произведут на отчаявшегося человека, который прочтет их на берегу Тихого океана. Жестокая бестактность, вызванная непониманием. По совету критика Роже Маркса Шуфф – с самыми добрыми намерениями – стал собирать подписи под прошением, чтобы государство оказало помощь Гогену. Художник пришел в ярость. «Я никогда не собирался просить подаяния у государства. Вся моя борьба вне рамок официальщины, достоинство, которое я старался соблюсти всю жизнь, отныне теряют свой смысл... Эх, вот еще одно горе, которого я не ждал»[176]176
Это прошение было подписано Пюви де Шаванном, Дега, Малларме, Мирбо, Каррьером, Арсеном Александром, Роже Марксом... К удовольствию Гогена, торговец Шоде убедил Шуффа отказаться от этой затеи.
[Закрыть].
Шуфф исполнил просьбу Гогена и пошел к графу де Ларошфуко. Но о чем он говорил с графом? Уж не просил ли милостыни для Гогена? Так или иначе, граф вручил ему двести франков. Продолжая сбор пожертвований, Шуфф получил еще двести франков от одного из своих коллег. Эти четыре сотни франков дошли до Гогена в сентябре. "Было бы более пристойно купить у меня что-нибудь, чем подавать мне милостыню", – отозвался на это художник. Бедняга Шуфф и в самом деле не чувствовал оттенков.
Морис со своей стороны тоже хлопотал о Гогене. Он не побоялся испросить аудиенции у директора Департамента изящных искусств Ружона, чтобы рассказать ему, в каком положении находится художник, и убедить его переменить прежнее решение и не отказываться от обязательства, которое Ларруме дал Гогену. "Купите у Гогена картину или закажите ему роспись". Ружон – аудиенция состоялась 10 июля – резко забарабанил по подлокотникам своего кресла. "Никогда, сударь! – закричал он. – Пока я сижу на этом месте, господин Гоген не получит государственного заказа! Ни одного квадратного сантиметра!" И, видя, что Морис встал, он, несколько смягчившись, добавил: "Но кое-что я для него сделаю, это я вам обещаю". И Гоген одновременно с четырьмя сотнями франков от Шуффа получил двести франков от дирекции Департамента изящных искусств "в качестве поощрения". В ярости он тут же отослал их обратно.
"Не знаю, чем все это кончится, – писал Гоген Шуффу. – Я молю бога поскорее меня доконать".
К счастью, вдруг объявился Шоде. Он послал Гогену двести франков. Расплатившись с самыми неотложными долгами, Гоген даже оставил себе небольшую сумму. С грехом пополам ему удавалось перебиваться. В декабре ему пришлось снова занять сто франков. Несмотря на эту беспорядочную, полную тревоги о завтрашнем дне жизнь, Гоген снова почувствовал прилив энергии. К тому же он немного окреп. С шести часов утра он принимался за работу, писал картины, лепил.
"Я повсюду на траве расставляю скульптуры. Это глина, покрытая воском. Во-первых, обнаженная женская фигура, потом великолепный фантастический лев, играющий со своим львенком. Туземцы, которые никогда не видели хищников, совершенно ошеломлены. Кюре приложил все старания, чтобы заставить меня убрать женскую фигуру... Полицейские подняли его на смех, а я попросту послал его... Ах, если бы только я получил то, что мне должны, я жил бы совершенно спокойно и счастливо".
"Наве наве махана" ("Счастливые дни") озаглавил Гоген одну из картин, написанных в эту пору[177]177
В настоящее время в Музее изящных искусств в Лионе.
[Закрыть]. Никогда еще он не выражал так полно, как в этой картине, где несколько маорийцев неподвижно стоят под деревьями, гармонию, сладость таитянского мира. Безмятежное видение. Но этому образу его грез противостоит другой образ – суровый и горький образ действительности. Гоген написал поясной автопортрет. Он изображен на нем в белой таитянской рубашке с открытым воротом. Можно подумать – осужденный который приготовился идти на казнь. «У Голгофы» – значится в левом углу этого автопортрета"[178]178
В настоящее время в Музее Сан-Паулу.
[Закрыть]. «Если бы здоровье мое не стало намного лучше, поверьте, я размозжил бы себе голову, – признавался Гоген Монфреду. – Но теперь, после того как я так долго ждал и каждый месяц надеюсь, что все разрешится, это было бы бессмысленно!»
Но вскоре у Гогена опять разболелась нога и, несмотря на всю свою стойкость, он вынужден был прервать работу. Правда, на этот раз ненадолго. В январе 1897 года он получил тысячу двести франков от Шоде, и это настолько утешило и обрадовало его, что подействовало лучше всех лекарств. Кроме того, Боши обязался ежемесячно выплачивать Шоде сто пятьдесят франков для Гогена. Горизонт прояснялся. Гоген решил вернуться в больницу, но так как он не мог оплачивать пребывание в ней по полной стоимости (деньги, присланные Шоде, ушли на покрытие девятисот франков долга), его после долгих препирательств согласились поместить, да и то все-таки за пять франков в день, только в одну из палат для туземцев. Задетый, Гоген отказался. Удивительный все-таки народ эти колониальные чиновники!
Отношения Гогена с обитателями Папеэте все больше обострялись. Когда Гоген являлся в город, многие белые смотрели на него с жалостью и презрением. Отощавший от голода, плохо одетый, этот несчастный мазила не принадлежал к их кругу. "В этой стране, дети мои, – заявил один из губернаторов Таити, – деньги валяются на земле, их надо только подбирать"[179]179
Приведено Гогеном в «Прежде и потом».
[Закрыть]. А Гоген денег не подбирал. Он якшался с туземцами. Жалкая личность! Физические и моральные страдания последних месяцев отнюдь не смягчили характер Гогена, и он болезненно ощущал это презрение. Остро на него реагируя, он, не переставая, высмеивал необразованность и бездарность колониальной среды и разоблачал злоупотребления администрации. Губернатора он называл «чучелом», членов департаментского совета «мошенниками». Ах, с каким удовольствием он высказал бы в лицо этим ничтожествам всю правду о них! По соседству с Таити взбунтовались Подветренные острова. Французское правительство 1 января начало проводить там военные операции. Художник писал Морису:
"Ты мог бы написать недурную информационную статейку, которая содержала бы (эта мысль кажется мне оригинальной) интервью П. Гогена с туземцем перед боевыми действиями. Если тебе удастся поместить статью в какой-нибудь газете, пришли мне несколько экземпляров – я был бы рад показать кое-кому из здешних хамов, что я кусаюсь".
В связи с этой кампанией, окончившейся 17 февраля, в водах архипелага[180]180
Остров Таити входит в состав Наветренных островов, которые вместе с Подветренными островами составляют Острова общества.
[Закрыть] появился крейсер «Дюге-Труэн». Гоген, как всегда друживший с морскими офицерами, продал за сто франков маленькую картину судовому врачу Гузе. «Дюге-Труэн» зашел в порт Папеэте в середине февраля и должен был через некоторое время снова вернуться сюда. Художник решил, что передаст Гузе, который собирался вскоре выйти в отставку и получить назначение в какой-нибудь военный госпиталь во Франции или в Алжире, несколько своих картин. Шоде прислал Гогену еще тысячу тридцать пять франков. «Я на пути к выздоровлению», – удовлетворенно писал Гоген. Он работал с увлечением, хотя и «рывками», и хотел во чтобы то ни стало добавить к картинам, которые посылал с Гузе, еще одну – изображение обнаженной женщины. В этой картине он хотел бы дать представление о «своеобразной варварской роскоши былых времен».
Эта обнаженная – еще одна маорийская Олимпия. На богатом ложе возлежит туземка, тело которой мощно моделировано и написано "умышленно темными и печальными", но роскошными красками. Женщина отдыхает, глаза ее открыты. Позади нее птица, которая наблюдает за ней. "Называется картина "Nevermore"[181]181
«Никогда» (англ.).
[Закрыть]; это не ворон Эдгара По – это сатанинская птица, которая всегда настороже" – «глупая» птица судьбы, символ остающихся без ответа вопросов и непостижимости человеческой участи. Обнаженная на картине «Nevermore» и в самом деле вызывает ощущение не столько сладострастия, сколько тайны и тревоги. Искусство Гогена с каждым годом набирало силу. У художника уже не было нужды прибегать к полинезийскому пантеону, к каменным идолам, чтобы прикоснуться ко всеобщему. Ему достаточно изобразить женское тело в его плотском расцвете, распростертое среди варварского великолепия декора, над которым царит птица – «Никогда», чтобы выразить ту изначальную муку, то смятение, которое вызывает у человека загадка его существования. Выразить, а вернее, дать почувствовать, потому что, как говорил Гоген, «главное в произведении это именно то, что не высказано». Живопись – это музыка, часто твердил он. «Еще прежде, чем понять, что изображено на картине... вы захвачены магическим аккордом».
Оказалось, что крейсер "Дюге-Труэн" возвратится на Таити не раньше 25 февраля. Гоген воспользовался этим, чтобы написать еще одну картину – "Те рериоа" ("Грезы") и отдать ее доктору Гузе. В хижине, украшенной фризами и резными панно, маорийская женщина склонилась над колыбелью, в которой спит ребенок. Другая женщина, сидящая рядом с ней, заслонила часть двери, в которую видна таитянская деревня, деревья, горы, поросшая травой тропинка и всадник. Несомненно, здесь изображена хижина художника.
Как и "Наве наве махана", это полотно – образ счастья, которое, может быть, Гоген и вкушал теперь в своей новой семье: в конце года Пахура родила ему ребенка. Может быть... "В этой картине все греза, – писал Гоген о "Те рериоа". – Что это – ребенок, мать, всадник на тропинке или это тоже греза художника?..". С тех пор как Шоде прислал ему денег, дни его текли в покое. Здоровье его окрепло. Расплатившись с долгами, он чувствовал, что на несколько месяцев избавлен от материальных забот. Тем более что Шоде обещал вскоре прислать еще денег. Гоген пользовался этим обретенным покоем, он писал с радостным подъемом, писал образы счастья, которые, может быть, и не отвечали полностью действительности, но были как бы грезой, которая, накладываясь на действительность, преображала ее. Греза!.. Она стала теперь почти недостижимой, что бы ни говорил и ни делал Гоген. Разве болезнь и нищета, которые он пережил в последние месяцы, подействовали бы на него так, если бы вся его жизнь не оказалась крахом, если бы его отъезд на Таити не был бегством побежденного? Никогда! Прошлой весной он писал Шуффу о своих детях: "Я уже давно стал для них ничем, отныне они для меня ничто. Этим все сказано..." Да. этим все сказано. Но Гоген тщетно изображал равнодушие, безразличие, разыгрывал из себя циника, которого ничто не трогает, насмешничал и богохульствовал, он сам сознавал, что в душе у него рана куда более тяжкая, чем раны на ноге, и она неизлечима. Греза!.. Пять лет тому назад Гоген искал рай на Таити. Но по ту сторону великого таитянского сумрака, великого таитянского "по" он обнаружил не рай, а сумрак вопросов без ответа, бездонную пропасть, у края которой измученный, изумленный, он тщетно задавал себе вопросы о судьбе человека и о своей собственной судьбе, "вопрошал себя, что все это означает". Глупая птица "Nevermore".