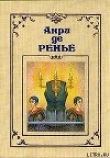Текст книги "Встречи господина де Брео"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Достаточно было мне увидеть особняк де Гриньи, как исчезал весь стыд и упреки совести. Он представлялся мне местом необычайным. Я испытывал зависть к людям, туда входившим и выходившим оттуда. Они казались мне отмеченными чем-то, что отличало их от остальных смертных. Количество этих избранников было значительно, так как у герцога и герцогини де Гриньи была многочисленная челядь и бывало порядочно посетителей. Выходили из экипажей роскошно одетые господа и дамы, но не занятность этого зрелища заставляла меня простаивать у ворот особняка де Гриньи, а надежда на какое-то другое событие, одна мысль о котором приводила меня в крайнее волнение.
Герцогиня де Гриньи выезжала иногда из дому отдать визиты, то одна, то в сопровождении мужа. Она всю карету озаряла светом и блеском своей красоты. Ах, сударь, это прямо чудо, что меня двадцать раз не переехала ее карета… Увернуться в сторону я бы никак не мог, в таком восхищенном столбняке я находился. Я стоял неподвижно, уставившись на это чудесное лицо, и долгое время спустя, когда оно уже исчезло, я оставался вне себя, ничего не видя. Таким образом я изучил его во всех подробностях. Я знал точный цвет рта, строение кожи, и с каждым разом это прелестное зрелище восхищало меня все более и более.
Так что жизнь я вел одновременно полную волнений и крайне однообразную. Один день отличался от другого лишь тем, видел ли я герцогиню де Гриньи, или был лишен этого счастья. Все остальное представляло смутную неопределенность, где я действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках. Подобное состояние могло бы долго продолжаться. Всю зиму я так дежурил, и ничто меня не могло удержать от этого странного безумия – ни грязь, ни лед, ни снег. Нужно было иметь такое крепкое здоровье, как у меня, чтобы не слечь от этих ожиданий, во время которых ничто не в состоянии было меня отвлечь.
Я стал замечать, что вот уже несколько недель, как герцогиня выезжает по большей части одна. Красота ее осталась прежней, но выражение как-то изменилось. У нее был уже не тот застенчивый и скромный вид, придававший ей столько очарования. Теперь она бросала вокруг взгляды довольно высокомерные и смелые. Я не старался объяснить себе этой перемены, я только восхищался новой прелестью, как вдруг случайно мне сделалась известной причина этого изменения, и об этом стоит рассказать.
В один прекрасный день господин Пюселар, мой учитель, был приглашен к господину де Бертоньеру, позвавшему к себе гостей и пожелавшему повеселить их во время трапезы музыкой. Мэтр Пюселар предупредил меня, что я понадоблюсь, и увещевал меня не поддавться рассеянности, о которой он очень скорбел. Я обещал ему быть внимательным и исполнять свою партию более уверенно, чем обычно. Все шло превосходно, и мы так старались, что, по-видимому, нами остались очень довольны. Во время минутного отдыха, чтобы не впасть в мечтательность, я стал прислушиваться к разговорам вокруг. Кто-то из гостей упомянул про герцогиню де Гриньи – и она стала предметом общей беседы. Я весь обратился в слух и не проронил ни слова, тем более чтр господа эти говорили во весь голос. Давно прошло то время, когда герцогиня де Гриньи могла считаться примерной супругой… Это заявление было встречено смехом, доказывавшим если не справедливость его, то по меньшей мере – что оно никого не удивило настолько, чтобы его стали опровергать. Слухи эти были, очевидно, достаточно распространены, раз их можно было так открыто повторять.
Значит, грешки герцогини были так общеизвестны, что могли служить предметом застольной болтовни. Герцог де Гриньи ничего об них не знал и не выказывал никаких признаков ревности по отношению к своей жене. Наоборот, еще на днях он принял при дворе новую должность, которая часто будет держать его вдали от супруги. Доверчивость де Гриньи усиливала веселость гостей.
Да, вот что, сударь, я неожиданно услышал: госпожа де Гриньи заводила романы с кем угодно… Я задыхался; в лицо мне бросилась краска гнева и негодования, потому что все слышанное мною казалось мне клеветою, чудовищным оскорблением, за которое хотелось сейчас же наказать. Я готов был броситься и задушить этих гостей. Вот была бы картина, сударь: музыкантишка вроде меня вдруг налетает с кулаками на почтенных людей! Было бы забавное зрелище – подобный защитник репутаций и новоявленный герой! Ничего подобного не произошло, сударь. Как справедливо, что очень скоро в этом мире приучаемся мы не быть тем, чем хотели бы! Вместо того чтобы выступить в качестве мстителя за добродетель, что бурлило внутри меня, я всем показал себя лишь послушным помощником господина Пюселара; по первому знаку своего учителя я снова принялся извлекать из флейты чистые звуки, хотя дыхание мое еще прерывалось от волнения, от которого сердце мое так сильно билось, что я слышал даже сквозь одежду его стуки.
Этот вечер оставил во мне после себя странное чувство. Я вынес из него отвращение к человеческой злобе, и те, которые так оскорбляли особу, казавшуюся мне чем-то вроде божества, казались мне худшими людьми, каких только можно себе представить. Конечно, пустые их речи не были в состоянии поколебать моего представления о герцогине де Гриньи. Разве недостаточно было видеть ее проезжающей в карете, чтобы убедиться в ее добродетели? Даже сама смелость, замечаемая в ее лице, не была ли доказательством высокомерного пренебрежения к обвинениям, вся низость которых была ей, конечно, известна? Итак, все способствовало укреплению во мне почтительного восхищения по отношению к этой даме, которым я был преисполнен, и тем не менее, поверите ли, сударь, кое-что в моих мыслях подверглось изменению.
В мои думы о госпоже де Гриньи, которым я охотно предавался и которые имели характер почтительного восхищения, начали закрадываться и другие помыслы, для меня самого не совсем ясные, но беспокоившие меня. Они приходили внезапно, помимо воли, и я не мог ни предотвратить их, ни избавиться от них, тем более что облекались они в живые и соблазнительные формы. Я часто наблюдал за лицом и туалетом герцогини, зрелище это ласкало мои глаза, но я не воображал себе ничего больше того, что видел. Дело пошло совсем по-другому после наглых слов, которые при мне были произнесены. Они подействовали на мой ум помимо моей воли. Я начал понемногу, незаметно для себя приходить к заключению, что пышное убранство герцогини скрывает такое же тело, как у всех женщин. Сначала эта мысль появилась бегло и неопределенно, на один миг, и задержался я на ней ровно настолько, чтобы поспеть отогнать ее, но возвращалась она так часто, что скоро я свыкся с тем, что было в ней дерзкого и смелого. Я не избегал ее, как следовало бы. Напротив, я вызывал ее в себе, так что в конце концов малейшие подробности ее стали мне привычны. Дойдя до этой точки, я пошел и дальше. Да… у этой прекрасной дамы есть тело, как у всякой другой, и это тело служит не только для того, чтобы носить на себе материи. Оно имеет еще иные применения, о которых я знал только понаслышке, не соображая точно, в чем они состоят; тем не менее я был уверен, что герцогиня позволяет другим вольности, малейшая из которых показалась бы мне чудесной. Свои губы она предоставляла поцелуям. Поцелуями покрывались ее руки и плечи. Она не только допускала это, она сама отвечала на поцелуи. Это, по крайней мере, было мне известно. К этому приходят с женщинами, и от одной подобной мысли я был вне себя. Легко можете себе представить, что такие размышления, благодаря моей молодости, в одно и то же время и возбуждали и смущали меня, так что я то предавался им с восхищением, то с ужасом отгонял их от себя. Я ненавидел самого себя за то, что на минуту поддался клеветническим наветам. Разве все россказни о герцогине не были ложью и выдумкой? И внезапно та, которую я только что воображал себе с невероятной фамильярностью, снова отдалялась и делалась тем, чем и не должна была бы никогда переставать быть для меня, – самой добродетельной дамой в королевстве.
Тем не менее, несмотря на доводы рассудка, волнения мои не уменьшались. Я плохо спал и потерял аппетит. Все время, что мог я урвать от работы, бродил я около особняка де Гриньи. Дня мне не хватало на это похвальное занятие, и я посвящал ему часть ночи. Я следил, освещены ли окна или свет потушен, я караулил, когда она выезжает и возвращается обратно. Должен признаться, что я не заметил ничего особенного, что подтверждало бы то, что открыто повторялось уже в народе, а именно, что герцогиня пускает к себе в дом любовников, что их много и они часто меняются. Эти слухи меня мучили. Я бы хотел собственными глазами проникнуть через толстые стены особняка. Я мечтал под каким-нибудь предлогом пробраться туда. План этот был одним из излюбленных моих мечтаний. Я придумывал тысячу махинаций – все неисполнимые. Я жил все время в лихорадочном состоянии, рассеянный ко всему окружающему.
Как ни был я слеп, с течением времени пришлось мне заметить, что странное мое поведение заставило господина Пюселара изменить свое отношение ко мне, что отозвалось и на его обращении. С того вечера как мы с ним встретились при луне на пустыре, где теперь возвышается особняк де Гриньи, он выказывал ко мне живейший, неослабевавший интерес, и я многим был ему обязан. Он дал мне флейту в руки и научил ею пользоваться. Как только я был в состоянии прилично применять свои способности, он принял меня в свою труппу и дал таким образом средство к существованию. Но теперь он гораздо реже прибегал к моей помощи. Вполне естественно, что терпение его истощилось, так как постоянная моя рассеянность мешала мне выказывать и то малое искусство, что я приобрел; конечно, он не хотел рисковать и боялся, что я буду причиной нестройности в его оркестре. Действительно, слишком часто я или вступал не вовремя, или фальшивил, что самым неприятным образом нарушало унисон. Так что не раз, прощаясь со мной после концерта, он не приглашал меня участвовать в ближайшем. Наоборот, он старался тайком от меня назначать остальным музыкантам место следующей встречи. Они сговаривались потихоньку и держались от меня в стороне.
Это секретничанье меня не особенно огорчало: занятый всецело тем, о чем уже говорил вам, я не тяготился свободным временем. Я пользовался им для того, чтобы бродить около особняка де Гриньи. Лицезрение герцогини волновало меня все более и более. При виде ее кареты у меня дрожали поджилки и выступала испарина. Часто я принужден был идти домой и ложиться на свой матрац.
Однажды я так валялся, предаваясь своим думам, как вдруг в мою дверь тихонько постучали. Вошел мэтр Пюселар. Я целую неделю его не видел. Он сел со смущенным видом и сказал, что действительно все это время во мне не нуждался, но что, если я хочу, сегодня вечером я могу пойти с ним и Жаком Сегэном давать концерт в дом, куда он ходил уже несколько раз с Сегэном и Ван-Кульпом. Сегэн и Ван-Кульп были обычные сотоварищи мэтра Пюселара. Сегэн играл на скрипке, а Ван-Кульп – на лютне. Последний, будучи нездоров, не выходил несколько дней из дому. Тогда мэтр Пюселар вспомнил обо мне.
Когда я согласился на предложение, мэтр Пюселар понизил голос. Он признался, что сначала у него были колебания насчет меня; я ему казался слишком молод, но в конце концов в пятнадцать лет можно уже не разбалтывать секретов. Он взял с меня клятву не говорить, куда мы пойдем, прибавив, что в наших общих интересах будет помалкивать. Я обещал, что не буду нарушать молчания. Он сказал, что в конце концов мне хорошо заплатят, и ушел, прося не опоздать к месту встречи и одеться чистенько.
Я явился в условленный час на место, указанное мне мэтром Пюселаром, который вскоре пришел с Сегэном. Их таинственность возбудила мое любопытство. Они дали мне знак следовать за ними. Ночь уже окончательно наступила. Преданный обычным своим мечтаниям, я не обращал внимания, по какой дороге мы идем, как вдруг, после многочисленных поворотов, мэтр Пюселар остановился перед потайной калиткой, проделанной в высокой стене, за которой можно было различить деревья сада, тотчас же признанного мною за сад при особняке де Гриньи. Я сразу начал дрожать всем телом, покуда мэтр Пюселар тихонько вставлял ключ в замочную скважину и убеждал нас не шуметь и ступать осторожнее.
Мы прошли мимо нескольких групп деревьев по простой аллее между загородей из кустарников. В конце аллеи на круглой площадке журчал фонтан. Вода стекала в бассейн. Вдали дом де Гриньи представлялся темной и спящей громадой. Мы подошли к нему. Мэтр Пюселар постучался в маленькую дверцу, она открылась, и мы очутились в темном коридоре. Мы спустились вниз на несколько ступеней. Мэтр Пюселар подталкивал меня в спину.
Мы вошли в блестяще освещенный зал, где был накрыт стол. На нем находились блюда и вина, а сбоку – рядышком два стула. Мэтр Пюселар расставил нас в ряд, а сам поместился у стола. Мы ждали. Сердце мое билось. Ах, сударь, оно забилось еще сильнее, и я думал, что оно совсем разобьется, когда я увидел, что в залу вошла сама герцогиня де Гриньи в изящнейшем наряде; золотистые волосы ее были чудесно причесаны, грудь открыта. За нею шел граф де Бертоньер. Что делал он в такой поздний час у графини? Что делали мы сами? Что означал этот тайный ужин? Тем временем они сели за стол. Сегэн настраивал скрипку. Мэтр Пюселар и я попробовали свои флейты. Я думал, что не найду дыханья для звуков. Но удивлению моему тут еще не настал конец.
Вообразите себе мое состояние и положение, в котором я находился. Герцогиня, как только села за ужин, принялась громко смеяться. Она часто подносила ко рту свой бокал и сама наливала графу де Бертоньеру. Тот был молод и красив, но я не мог прийти в себя от его манер и разговора. В ответ на его двусмысленности и даже сальности герцогиня откидывалась на спинку стула с разгоревшимся от вина лицом, и, вместо того чтобы сердиться на некоторые жесты и вольности, она только пуще хохотала. Оба, по-видимому, забыли о нашем присутствии. Мэтр Пюселар как ни в чем не бывало продолжал играть на флейте, я следовал его примеру, сам не знаю как, не спуская глаз с представлявшегося моим взорам зрелища.
Господин де Бертоньер скоро окончательно напился. Он принялся буянить, бить посуду, кричал и пел во все горло. Иногда этот сумасшедший шум прорезывал хохот герцогини. Полуобнаженная, распустив волосы, она побуждала к буйству. Лицо ее, раскрасневшееся не от стыда, а от сладострастия, казалось лицом вакханки. Щеки горели, как во время оргий. Ах, сударь, как она была прекрасна в этом грубом бесстыдстве, вся пылающая развратом!
Мэтр Пюселар перестал играть. Было слышно, как вино выливается из бутылочного горлышка. У меня зуб на зуб не попадал. Я прислонился к стене, чтобы не упасть.
Мне казалось, что потолок на меня обрушится, в голове и ушах страшно шумело. Я смотрел на герцогиню; мало-помалу глаза ее расширились и приняли выражение ненависти, мести и дикой радости. Меня пронзил этот взгляд, мимо меня направленный на кого-то, чье появление, обнаруженное мною, когда я внезапно повернул голову, заставило меня отскочить в угол комнаты, в то время как господин де Бертоньер, сразу отрезвев, выпрыгнул через окно в сад.
На пороге взломанных дверей стоял герцог де Гриньи. Свет падал прямо ему в лицо. Я узнал его скорее по черному парику, голубой ленте и темному платью, чем по чертам, которые необыкновенная бледность превратила в восковую маску. В высоких сапогах со шпорами, в руке он сжимал рукоять охотничьего хлыста. Кто мог ему донести? Впоследствии я вспомнил про нездоровье Ван-Кульпа, но в данную минуту я был в полном недоумении от происходящего и в ужасе от того, что будет.
Герцог сделал шаг вперед. Жена его сделала то же самое. Она больше не смеялась. Она поправляла спустившийся чулок. Обнаженная белая грудь ее выпадала из расстегнутого корсажа. Герцог и она смотрели друг на друга. Вдруг она еще ниже наклонилась, смочила пальцы в луже вина, что краснела на полу, и брызнула в лицо мужу; тот вытер капли отворотом рукава. И я услышал, как герцогиня произнесла слова, смысл которых я понял только позднее: «Ты отомщен, Серак!»
Свист бича прервал ее. Плетеный ремень полоснул белые плечи, оставив на них красную полосу. Хлыст свистнул второй раз. Герцогиня не двигалась, будто обратилась в статую. Удары посыпались без промаха. Герцог де Гриньи наносил их изо всей силы. Плетка рвала материю и бичевала тело. Герцог ступил назад и обеими руками сжал рукоятку. У герцогини на этот раз вырвался ужасный крик, и она упала ничком.
Теперь она на полу без памяти выла от боли. Господин де Гриньи оканчивал свое ужасное занятие. Он сорвал оставшиеся лоскутки платья и наступил сапогом на истерзанное тело. Он не переставал бить… Длинный парик подскакивал за спиною. Герцогиня больше не кричала. Герцог грубо, ногой перевернул это окровавленное, недвижное и голое тело, потом нагнулся, закрутил вокруг руки золотистые кудри, и я видел, как он поволок за собою окрашенную пурпуром добычу и исчез за потайной дверью, через которую и вошел.
Я наблюдал за этой сценой, онемев от страха и ужаса, из своего угла. Ветерок, проникший в открытое окно, оживил меня и высушил пот на лбу. Мэтра Пюселара уже не было. Я был один. Прислушался – все тихо. В коридоре темно. Я взял один из горевших еще факелов и нашел дорогу, по которой мы пришли сюда. На дворе была темная ночь. Большие черные облака кучились в небе. Я снова прошел аллею из кустарников и добрался до фонтана. Он по-прежнему струил воду в бассейн. Я сел на камень и заплакал. Потом вышел из сада и вернулся домой. Я заболел горячкой. Когда я поправился, я узнал, что мэтр Пюселар покинул город, Сэгэн тоже, равно как и Ван-Кульп. Флейта сделалась мне ненавистной; я снова, как прежде, принялся бродить по городу и бездельничать. Родители приписали это болезни и думали, что у меня голова не совсем в порядке. Я стал очень молчалив и ни с кем не разговаривал.
Г-н Эрбу умолк на довольно продолжительное время. Г-н де Брео из уважения не нарушал молчания и ждал, когда г-н Эрбу найдет возможность продолжать свой рассказ.
– Герцог де Гриньи, – снова начал г-н Эрбу, – казалось, был искренне опечален смертью своей жены, последовавшей около четырех месяцев после описанных мною событий.
С того времени господин де Гриньи не перестал выезжать из дому и возвращаться, как обычно, у всех на глазах, но герцогиня не сопровождала герцога, что, впрочем, и прежде случалось, а оставалась у себя взаперти. Когда у него спрашивали, почему ее больше не видно вместе с ним, он отвечал очень просто, что доктора предписали ей не выходить по причине холодов, что от простуды у нее пропал голос, так что не слышно, что она говорит.
Родителей герцогини, поехавших ее навестить, не приняли, но на следующий день они получили от нее письмо, где она подтверждала известие о своей болезни, прибавляя, что она воспользуется этим временным уединением, чтобы подумать немного о спасении души. Добрые люди успокоились и не обратили достаточного внимания на почерк, которым было написано письмо и который мог бы им показаться не совсем похожим на почерк герцогини де Гриньи, порадовались, что дочь их имеет такие мысли, так как до них тоже дошли слухи насчет ее поведения, и, не придавая им слишком большой веры, они все-таки подумали, что недурно было бы, если бы благочестивое настроение госпожи де Гриньи положило конец этим сплетням. Господин де Гриньи с видом откровенности и добродушия рассказывал о том, что совершенно неожиданно жена его пристрастилась к домоседству. При случае он даже подшучивал над этим, но с оттенком некоторого почтения по отношению к особе, так хорошо использовавшей телесные немощи для духовного усовершенствования.
На самом деле герцогиня не только скрывалась от посторонних взглядов, но дома даже слуги ее не видали. В ее комнату был вхож только господин де Гриньи, уносивший ключ от дверей в кармане. Герцогиня не прибегала к помощи служанок во время одевания и, говорят, сама делала постель в виде эпитимии. Господину де Гриньи, по-видимому, новый образ жизни герцогини казался вполне приемлемым; можно даже было заметить некоторое влияние на него самого, так как прежде он позволял себе время от времени быть грубым и предаваться гневу, теперь же сделался самым кротким и терпеливым в мире человеком. Эту перемену заметили и люди, терпевшие раньше от его вспышек. Теперь были довольны, что от них избавились, и, подозревая, что до некоторой степени они были обязаны этим его жене, были ей за это благодарны. Так что пришли к убеждению, что слишком скоро поверили сплетням, распускаемым злыми языками про госпожу де Гриньи, и что нужно это загладить. Нет ничего непостояннее, как общественное мнение, в смысле репутации, и госпожа де Гриньи, только что всеми осуждаемая, вдруг сделалась безупречной женщиной; как раз в разгаре общего расположения внезапно распространилась новость, что герцогиню нашли в кровати мертвой и наскоро созванные врачи могли только констатировать смерть, не зная, чему приписать столь непредвиденное и горестное событие. Скорбь об этой смерти была всеобщей, и никто не сомневался, что герцог де Гриньи был неутешен.
Набальзамированное тело герцогини было в полной сохранности. Единственную странность представляло несколько не совсем заживших рубцов. Герцог, проливая слезы, объяснял, что это следы бичеваний, которым в порыве покаяния предавалась госпожа де Гриньи. Люди, которым эта подробность сделалась известной, увидели в пламенном желании герцогини карать самое себя доказательство того, что она получила, наверное, какое-нибудь предзнаменование близкой кончины, потому так неожиданно и бесповоротно удалилась от общества. Герцог разделял это мнение. Со своей стороны он добавлял, что часто уговаривал жену умерить свое суровое рвение, но она и слушать ничего не хотела, в таком религиозном порыве находилась; как пример, он приводил странное завещание, найденное после нее в бумагах. Она выражала волю, чтобы тело ее отвезли в имение родителей, где она родилась, добавляла, чтобы перевозили его без всякой торжественности и чтобы никакой процессии не было кроме семи нищих из ее прихода, в засвидетельствование того, что хоронят останки не мирской светской дамы, а смиренной грешницы перед Господом Богом.
Г-н Эрбу вздохнул.
– Всего ужаснее в этой смерти герцогини де Гриньи не то, что я вам уже сообщил, а то, что хочу еще рассказать, а именно, с какой дьявольской изобретательностью герцог де Гриньи задумал выполнить последнюю волю своей жены и обратить духовный порыв в чудовищную комедию. Ненависть должна была бы прекращаться со смертью того, кто нам ненавистен, но герцог де Гриньи и за гробом преследовал ту, которой он не прощал желания по-своему отомстить за убийство обожаемого возлюбленного. Он должен был удовлетворить свою обиду, как насытил свой гнев и ярость. К ударам хлыста, которыми он терзал тело виновной, к яду, с помощью которого он завершил тайком свое дело, он прибавил нечто, о чем мне следует рассказать вам, сударь, хотя едва ли мне удастся передать весь нелепый и издевательский ужас всего этого.
Г-н де Брео усугубил внимание, и г-н Эрбу продолжал следующим образом:
– Герцог с лицемерным сокрушением сообщал окружающим волю герцогини по поводу ее похорон и объявил, что он решил в точности согласоваться с желанием, ею высказанным. Сначала подумали, что от скорби у него помутился рассудок и что это не более как странность, свойственная первым минутам горя, но развиться которой не дадут здравые соображения. Но от таких предположений пришлось отказаться; очень скоро убедились, что герцог действительно намеревается выполнить то, что говорил. Тщетно родители госпожи де Гриньи хотели противостать тому, что замышлял их зять. Они выставляли ему на вид всю непристойность подобного обращения с дорогим прахом, чтобы везли его по дороге с такими убогими провожатыми. Они упорно старались его убедить, но он заткнул им рот, отдав приказание сейчас же найти ему в приходе семь нищих, предупредить их, что от них требуется, и держать наготове. После чего он отвернулся от господина и госпожи де Барандэн.
Добрые люди находили, что не стоило иметь дочерью герцогиню, раз она будет покоиться в глуши провинции и совершит туда путь в названной обстановке, которую она сама выбрала, но которая жестоко оскорбляла их самолюбие, – потому что оно действительно сильно было задето процессией, приготовляемой герцогом.
В Париже нет недостатка в нищих и голышах. Их толпами можно встретить на улицах; пропитание свое они снискивают где могут, и их больше чем нужно протягивает руку на папертях. Там у них постоянные места. Они стараются тронуть благочестивые души видом своих уродств. Многие, за неимением природных уродств и болезней, пускают в ход поддельные, которые они делают тем более безобразными, что они от них не страдают и что служат они для возбуждения сострадания. Таким образом, нищета обращается в ремесло. Орудиями служат им раны и рубища, а так как средства эти не дороги, то и людей, занимающихся подобным промыслом, находится не малое количество. Так что герцогским посланным нетрудно было заручиться тем, что ему было нужно, и нанять семь молодцов, которые в своих рваных лохмотьях должны были изображать свиту той, которая была прелестнейшей и богатейшей из женщин.
Между тем молва о странных похоронах довольно быстро распространилась и дошла до моих ушей. Со времени смерти госпожи де Гриньи я жил в необыкновенном состоянии духа, где были смешаны чувства горечи и ужаса. Как! Это тело, роскошную красоту которого я видел в ту короткую и роковую ночь, гниет обезображенное! Теперь его везут неведомо куда и заточат в гробницу! Почему мною не были изведаны, как господином де Бертоньерем, его ласки и прелести? Эта мысль оставляла в уме ужасающую обиду и жгучее сожаление. Так что я испытывал непреодолимый соблазн присутствовать при предстоящей церемонии; может быть, при виде, как опускают в землю то, что было герцогиней де Гриньи, я освобожусь от жестокого желания, жало которого меня преследовало, и найду забвение, приличествующее этим событиям, отравленное воспоминание о которых могло быть для меня только пагубным. С другой стороны, надругание, которое мстительный супруг хотел присоединить к своим жестокостям, налагало, казалось мне, на меня обязанность не покидать той, которой я так восхищался. В эти минуты герцогиня переставала для меня быть полуобнаженной женщиной, застигнутой врасплох во время прелюбодеяния; она снова делалась благородной дамой, какой я ее видел однажды вечером, выходящей из кареты при свете факелов перед подъездом особняка де Гриньи, и образ которой я сохранил запечатленным в своем сердце. Ее-то я и хотел сопровождать до могилы и почтить своими слезами.
Приняв такое решение, я стал думать о средствах его выполнения. У меня оставалось немного денег, заработанных на концертах мэтра Пюселара. С этими сбережениями я и направился к церкви, где герцогские слуги производили свой набор. Я с давнего времени знаком был со всеми нищими с паперти; этим самым я иногда и давал, проходя, мелочь. Между ними был некто Жан Ракуйо. На лице у него была короста, что делало его достаточно безобразным, но не приводило в дурное расположение духа, потому что по вечерам он ее соскабливал, а наутро делал новую. Наловчившись в таких проделках, он снискивал себе пропитание. Я не сомневался, что этот молодец одним из первых нанялся на должность, о которой я говорил. Я не ошибся. Сейчас же я сообщил ему свой план. Дело шло попросту о том, чтобы он в данном случае уступил мне свое место. Он был очень удивлен моей просьбой, но не видел никаких препятствий к подобному обману. Так что на предложение он согласился, хотя и не понимал, какое мне удовольствие тащиться за гробом; но деньги убедили его, и даже он стал находить, что так будет очень хорошо. Мы столковались. Он обещал мне одолжить свои лохмотья, нужные для моей новой роли, и изобразить на лице у меня коросту так же искусно, как он делал на своем. Загримировав меня таким образом, он предупредил товарищей о замене; мне оставалось только пойти к особняку де Гриньи под вечер, – и никто ничего не заметил.
Когда я явился к особняку де Гриньи, я был очень взволнован. Меня послали к месту, где уже собрались мои товарищи. В низкой и темной зале смутно копошились тени. Не успел я туда войти, как чуть не задохся от дурного запаха, хотя я и привык к зловонию, исходившему от лохмотьев, которыми меня снабдил добрейший Жан Ракуйо. Мне не дали долго раздумывать над неловкостью своего положения: два лакея меня грубо схватили, один набросил на меня что-то вроде длинного развевающегося платья, другой сшиб у меня с головы шляпу и напялил картонную корону. Взбешенный и озадаченный, я только что хотел спросить, что все это значит, как принесли свет, и я мог оглядеться.
Что за зрелище, сударь! Я готов был сбросить с себя шутовское платье и бумажный венец. Какого странного карнавала оказался я участником! Одного за другим я узнавал актеров и понял лицемерного и отвратительного зачинщика всего этого. Первыми бросились мне в глаза Жан Гильбер, горбун, и Люси Робин. Лицо ей разрисовали ярко-розовой краской, как свиное рыло, через расстегнутый лиф видны были ее груди, как тыквы, и, раскачиваясь худым и костлявым телом, она приподымала юбку над башмаками с большими бантами; на рыжих и нечесаных космах была гирлянда из цветов; вырядившись таким манером, она жеманилась вызывающим образом. Горбун же, весь в черном, таскал за собой плоский мешок. Далее – Шарль Лангрю, одетый в желтое, в каске со свивающимися змеями и с нашитыми на спине языками. Толстый Клод Лардуа, в красном, опирался на алебарду рядом с Жаком Рагуаром, сплошь обмотанным веревками, на которых были повешены сосиски и колбаса, – и, наконец, огромная Жюстина Лекра, страдающая водянкой, словно набитая пухом, кривая и лоснящаяся, со всегда полусонным лицом. У каждого на шее висела надпись, какую и мне надели; на моей золотыми буквами было написано: Гордость; на других я прочитал: Любострастие, Скупость, Зависть, Гнев, Чревоугодие, Леность. Ввиду того что герцогиня де Гриньи выразила желание быть погребенной как простая грешница, герцог и решил дать ей в качестве свиты фигуры, олицетворяющие самые грехи.
На площади собралась большая толпа, когда, наряженные таким манером, мы вышли из особняка де Гриньи, чтобы сесть на повозки, на которых нам предстояло ехать. Соседи пришли подивиться на ту, что, презрев мирскую пышность, хотела, чтобы провожали ее одни бедняки. Такое отречение нравится простонародью; оно видит в этом знак смирения и доказательство, что мы отличаемся от него только по условиям жизни, а не по существу. Они любят, когда и мы признаем равенство всех перед лицом смерти, и они одобряли герцогиню де Гриньи за то, что, умирая, она вспомнила про общий для всех нас удел. Но, когда они увидели наше появление, на минуту они были поражены. Им было бы понятно, что за телом знатной дамы идут семеро нищих, так как перед правосудием Божиим она сама не более как нищая, просящая его о милосердии. Но что они могли подумать о представившемся их глазам зрелище? Почувствовали ли они все его неприличие и издевательство? Я не ручаюсь за это, но при нашем появлении пробежал глухой ропот, заставивший поднять голову герцога, стоявшего в глубоком трауре за гробом своей жены, уже водруженным на дроги.