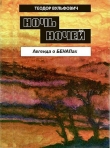Текст книги "Nacht"
Автор книги: Аноним Гробокоп
Жанры:
Магический реализм
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Шмонать? – хохочет Харви, в который раз принося ему за последние пару часов известное облегчение. Иден ухмыляется в ответ, делая жест сигаретой, и не слишком старательно поясняет:
– Ну, в смысле, ущемлять как-нибудь. Изводить, понимаешь, кляйнмахен. Все такое.
– Беформунден, угу, – подхватывает Харви, не меньше него, похоже, довольная тем, что такую странную, по ее мнению, тему, удалось наконец оставить в пользу другой, куда более общей и понятной – так же, как и он, Харви из всей школьной программы налегает в основном на немецкий, находя комфорт в его однозначной машиностроительной логике. Иден не отвечает, тем не менее, на ходу уставая от постоянной необходимости разгонять сумерки в собственных мыслях, так что какое-то время они шагают в молчании, единодушно созерцая, как вокруг светает с каждой секундой все неотвратимее, и чем яснее становится утро – тем сильнее сгущаются сумерки, так что в конце концов он не выдерживает и нарушает молчание:
– А во-вторых?
– А? – переспрашивает было Харви, но быстро спохватывается. – А-а. Да так, хотела узнать, куда это мы направляемся так решительно уже черт-те сколько времени.
– На дело, – отвечает Иден с какой-то внезапной угрюмой серьезностью, которая совершенно не вяжется со всем остальным и по этой причине привлекает внимание.
– Звучит угрожающе, – полувопросительно отзывается Харви; украдкой косится на него и в наступившей ясности разбирает, что насчет простуды он, наверное, не врал, судя по бледности и кругам под глазами, почти скрывающими свежий синяк, и что вряд ли он заявился к ней из дому, судя по состоянию его вещей. спросить об этом напрямую ей, тем не менее, мешает смутное чувство, что его что-то гложет, и неясно, как выяснить, что именно, это случается иногда, но в последнее время гораздо чаще, чем прежде.
– Вовсе нет, – говорит он уже снова беззаботно и рассеянно. – Это бравое дело, доставшееся нам по наследству от доблестных братьев-вандалов. Незаконное проникновение у них почиталось за честь.
– Незаконное проникновение? Куда это? – опрометчиво спрашивает Харви, глядя на него, и он смотрит в ответ с этой своей неизбежно нахальной ухмылкой и выдерживает паузу, так что ее невинное уточнение приобретает неожиданную двусмысленность, и она снова краснеет – и в наступившей ясности этого тоже не скроешь, сколько ни отворачивайся. Шага она не сбавляет, тем не менее, растерянно фыркает и снова жмет плечом.
– Куда угодно, – наконец отвечает он. – Есть куда.
Не то, чтоб он сознательно пытался выдать это за случайность, акт нечаянного выбора, потому что для него никакого плана не существует, просто ноги сами несут, куда следует, а он не умеет этому желанию сопротивляться – желанию все закрасить и разобрать. остаток пути они шагают в молчании, следя за облачками утренней влаги на полях в отдалении и все туманней размышляя по мере того, как выезжает из-за горизонта светило. почему тебя так сильно это занимает, бесконечно повторяет голос Харви у Идена в голове, до тех пор, пока не становится его собственным, абстрактным голосом, которому нечего возразить и никак не отвязаться, почему тебя так сильно это занимает и почему ты был так глуп, что не догадался повернуть обратно еще тогда, четыре дня назад, когда шагал по этой самой тропинке рядом с Тамарой, которая вела тебя к себе на дачу в золотистом предзакатном сиянии, и все вокруг было по этому случаю погружено в особую хрустальную, потустороннюю зыбкость, так что каждая тополиная пушинка на ветру сияла невыносимо значимо, каждый блик на рельсах врезался в восприятие с болезненной ясностью, и все вопросы, которые она задавала, нужны были только затем, чтобы увлечь и отвлечь, чтобы он перестал следить за тем, что несет, как вечно случается в ее присутствии, и сама говорила что-то о музыке и об истории, и о том, что на этих полях суслики водятся, а в посадках и вовсе лисы с зайцами, что лягушки на берегу озера неподалеку так громко квакают по ночам, что на весь район слыхать, что на дизеле, который капает с поездов, похоже, отлично растут грибы, прямо между шпал иногда – здоровенные, и что-то о том, как мечтала в детстве стать художником, а теперь мечтает перестать им быть, а ты уже решил, кем хочешь быть, а, кем ты хочешь быть, Иден, и Иден ответил, кем хочет быть, а в ответ внезапно услыхал – вот как, а я думала, девочек не берут в офицеры, или это только на острове, и так всегда, невозможно с ней не терять бдительности, потому что пока бдительность при тебе, Тамара будет занята ее усыплением, и все обстоит идиллически вплоть до того самого момента, пока она не добьется своего. и что мешало тебе, идиоту, развернуться и уйти еще тогда, или уж хотя бы вот здесь, где тропинка разветвляется и ныряет вправо в извилистый переулок между тесными рядами приземистых частных домишек, дач с садами и огородами, увитыми виноградом заборами, где она пригляделась повнимательней и произнесла – веснушки, м-м? так-то еще ничего, но в ультрафиолете выглядит просто отвратительно, знаешь, – и не давая времени опомниться, поцеловала его в переносицу, а потом в нос, а потом в рот, взасос со своим уже знакомым языком, гибким и длинным, так что все возможные варианты ответа растворились в оглушительном грохоте пульса в ушах. почему это так сильно тебя занимает? так сильно, что рассудок отказывает и здравый смысл теряется во мраке, вынуждая из раза в раз надеяться, что в конечном итоге случится чудо и все окажется именно таким, каким его в глубине души искал, проследовав вопреки всякой логике за ней на чердак, сумрачный и просторный, со скрипучим дощатым полом и пылью, искрящейся в лучах закатного солнца из маленького окна. и каким идиотом нужно быть, чтобы продолжать в упор не замечать, как сильно ее влечение отличается от его собственного, как она сексуализирует его физически, расчленяя в набор фетишей, подвернувшийся под руку ресурс для отправления потребностей, порочных по своей сути совсем не в том смысле, который наделяет слово порок в массовой культуре такой пикантностью, а в том, из-за которого родной братец предал ее анафеме за тридевять земель от родного дома. и как понять, является ли этот транс, в который Иден при ней моментально впадает, результатом его осознанного выбора, или же она делает для этого какую-то свою особенную штуку, колдовскую, ведьмовскую, или эта штука тоже является результатом его выбора, и на что он надеялся, в конце концов, кроме того, что произошло, или чуть было не произошло – даже это черт разберет, в душном полумраке чердака она велела ему молчать, сообщив, что если ты скажешь хоть слово, если ты будешь выебываться или мешать мне как-нибудь иначе – я уйду отсюда и больше никогда никуда не приду, договорились? и они договорились, конечно, на месте, и она в очередной раз раздела его, разумеется, и стала тискать и ласкать и целовать с такой жадностью, будто сама намеревалась в его тело в ближайшем времени перелезть, и влепила пощечину, словно желтую карточку, в ответ на попытки раздеть ее следом, и зарывалась лицом в его волосы, которые еще четыре дня назад были длинными, и вообще, похоже, так сильно хотела их трогать, с трудом верилось, что они ей не нравятся, а потом потеснила на кучу какого-то старого тряпья на полу и стала вылизывать с ног до головы, а потом отсасывать, это она уже делала с ним и раньше и всякий раз было немного странно, что она больше ничего толком не позволяет, но выбирать не приходилось, от ее сатанинского жара и леденящей близости, от золотистых искорок заката в ее длинных волосах, от хищной нежности ее цепких пальцев и мокрого алого рта голова кружилась и наставал бред и расплакаться очень хотелось еще задолго до того, как она стала облизывать пальцы и совать их к нему внутрь, сначала один, потом два, и наиболее ужасным казалось то, что в самом ощущении ничего неприятного не было, только слишком уж ясно сделалось, что все это нужно прекратить немедленно, и лишь в тот момент до Идена дошло, что положение, в которое она его загнала на чердаке совокупностью своих действий и условий, безвыходно, оно не имеет решений, при которых он мог бы не проиграть, разница только в масштабах проигрыша, самым безобидным вариантом которого будет просто молча сбежать, неимоверных усилий стоило прекратить, ее отстранить, встать, одеться и уйти и ничего не сделать и не сказать даже в ответ на донесшееся в спину – да что ты, я думала, девочкам нравится, когда в них вставляют, нет? и позволить себе расплакаться не меньше, чем за километр от ее чертова домишки, все это расстояние пройдя сквозь сумерки наугад, не разбирая дороги, и сдерживаясь при этом так сосредоточенно, будто несешь целлофановый пакет с рыбкой и аквариумной водой, которую нельзя расплескать, чтобы рыбка не подохла, и как бы далеко ни ушел, все равно не отделаешься от чувства, что она стоит где-то рядом прямо за спиной и созерцает и не испытывает ничего, кроме злорадства, причин которого он никак не может постичь. другой вопрос в том, что если уж ты влюбился в такого человека, – невозмутимо говорит Харви у него в голове несмотря на то, что тут же молча идет рядом, и отсутствие корреляции между этими явлениями его не смущает, потому что в свете столь угнетающей ярости имеет слишком мало значения, – то ты должен быть готов либо принять все его паршивые дефекты как собственные, раз собрался с ним себя ассоциировать, либо признать, что к любви это на самом деле не имеет никакого отношения, раз тебя так расстраивает расхождение проекции с действительностью. или ты думал, что все магическим образом само собой починится, просто если прибежать на следующий день в школу и там раздарить свое разочарование и прилагающийся к нему гнев ни в чем не повинным детишкам вокруг, наорать на соседку по парте только из-за неверно списанного с доски слова, а потом организовать коллективную травлю того бедолаги-жирдяя из параллельного класса, вокруг которого под конец дня целая толпа под твою дудку прыгала и вразнобой скандировала про сало-мясо-и-бульон. или ты считал, что все по волшебству отменится и позабудется, стоит только эти злосчастные патлы отпилить и из папаши своего выманить пару пиздюлин, неужели ты вообще веришь, что хоть что-нибудь из единожды произошедшего можно по какому-то волшебству отменить? и Иден уже не вполне уверен, принадлежит ли этот ненавязчивый повествовательный голос Харви или Тамаре, но это интересует его мало, куда меньше, чем попытки вмешаться и перебить, так что он раздраженно говорит:
– Блядь, – и Харви, которая идет рядом, вздрагивает от такой неожиданности, и поднимает голову. – Ты можешь уже хоть ненадолго заткнуться наконец. Я не хочу ничего отменять, я просто хочу понять, что за всем этим стоит, потому что неясно, откуда это берется, и оно просто висит над головой, как НЛО, до которого не допрыгнешь, и хер пойми, что с этим делать, и деваться из-под него некуда.
– Ты это мне? – с удивлением спрашивает Харви. – Я же молчу, – глядит на него растерянно и слегка озабоченно, и в следующую секунду Иден и сам делается растерян и слегка озабочен, так что даже останавливается, озирается по сторонам – только чтобы обнаружить, что нужный поворот они уже давно прошли, и теперь придется возвращаться, и какое-то время изучает ее молча с каким-то мучительным выражением на лице, а потом круто разворачивается и шагает в противоположном направлении.
– Ну, – только и говорит он, недоумевая, что ей ответить, если и сам не поймешь, к кому обращался. Харви какое-то время стоит, глядя ему вслед, и хмурится, но потом все-таки ступает следом и хрустит по гравийной дороге, ускоряя шаг, чтобы его догнать.
– Иден, ты когда спал в последний раз? – говорит она, и не дождавшись ответа, продолжает. – Ты себя нормально чувствуешь вообще?
и Иден, отчаянно стараясь не погрузиться в прежние раздумья, чтобы не заблудиться в очередных трех соснах, так как по окружающим домам понимает, что цель находится где-то совсем рядом, уже даже открывает рот, чтобы ответить – да черт знает, – однако здесь его озаряет с моментальной ясностью, словно где-то включили лампочку, что нет ничего невозможного в том, что голос, только что так мешавший думать, принадлежал Тамаре, и это, конечно, значит, что беседовать при собственном отсутствии она может с кем угодно, а не только с ним, вот, с Харви, например, тоже может, а еще это значит, что нет ничего, о чем можно было бы подумать так, чтобы Тамара не прознала, и это просто невыносимо, также как и то, что ничем подобного предположения не докажешь и не опровергнешь, ей ведь ничего не стоит, ведьме проклятой. это значит, что когда ты катался в зарослях бурьяна там, под насыпью, и рыдал, она все видела. когда ты тешился, воображая множество вариантов неигрового убийства и самоубийства, и как бы она страшно расстроилась, узнав, что ты не выжил, она все видела. когда ты выбрасывал из комнаты свою мать, увещевавшую, что ты связался с ведьмой, она и это видела. когда ты сидел, уставясь в окно на уроке математики, и представлял, как здорово было бы приехать за ней на мотоцикле и повезти ее кататься и вести себя при этом столь уверенно и остроумно, чтоб она уж точно не смогла устоять, она тоже все видела. когда ты самозабвенно дрочил в душе, представляя, как ебешь ее на бетонном полу в какой-то заброшке и в то же время в собственной кровати, и как она стонет и подмахивает и просит еще – она и тогда все видела. и весь этот бесконечный разврат, все эти разнузданные драки, все эти честолюбивые войнушки. это значит, что она видит все и всегда, вот этот вот раздрай непосредственно здесь и сейчас тоже видит, что она присутствует в тебе постоянно, как зараза, как ВИЧ, что необязательно в человека что-то вставлять, чтобы его изнасиловать, и что это осознание все меняет и лишает смысла в достаточной степени, чтобы избавить от нужды делать вообще что-либо, даже дышать, Иден кладет руку на невысокую ограду с облупившейся зеленой краской и совершенно машинально сообщает:
– Мы пришли, – лихорадочно соображая, каким способом можно потерять сознание, кроме как набухавшись, потому что бухать противно и можно впасть в буйство, так что даже не сразу слышит ответ, и Харви приходится повторить:
– Чей это дом?
– Какая разница, – отвечает он, глядя на нее с сомнением, еще пару секунд медлит, а потом решается и перемахивает через ограду с такой легкостью, будто там никакой ограды и нет, потому что отступать не умеет и никогда этой возможности вовсе не рассматривает, тем более, что таким способом проще всего отправить Харви новый вызов на слабо. чертово слабо наводит его на мысли об очередном далеком вечере прошлой зимой, когда Тамара на слабо пригласила его к себе в гости, там в приглушенном освещении своей прокуренной теплой комнаты на слабо пригласила на табурет, а свисавшая с крючка от люстры петля уже приглашала на слабо без лишних слов, и Тамара обняла его за бедра и медленно-медленно отодвинула табурет ногой и потом снимала поляроидом в этой караваджийской каморке, пока всякие источники света не померкли, погрузившись в вечную ночь, а следующий день не преминул ознаменоваться оглушительным скандалом с матерью под заголовком синяки-на-шее, вот, что такое слабо, и Харви стоит уже на чужой территории рядом, не умея отвергать вызовы, и шевелит зачем-то губами с выражением крайнего беспокойства на хорошеньком лице, так что снова приходится вынырнуть, отвернувшись от ностальгической фантомной боли в легких, и спросить:
– А?
– Да что с тобой такое? Я говорю, ты же не случайно его из всех этих домов выбрал, а специально сюда пришел. Кто тут живет? И как ты себя чувствуешь? Ты как-то неважно выглядишь, с тобой все нормально?
– Да, – говорит Иден, мрачно усмехаясь. – Неважно выгляжу. Первые тринадцать лет я пребывал в заблуждении на этот счет и полагал, что выгляжу важно, но года два назад все прояснилось и встало на свои места. Давай опустим все эти вопросы, ладно. Тут никто сейчас не живет, это просто дача, и на ней никого нет, иначе мы бы сюда не явились. И если я тебе скажу, кому она принадлежит, мне придется здесь все сжечь, как минимум, – он с трудом спохватывается в последний момент и умудряется не добавить: вместе с тобой, хотя не менее ясно понимает, что никакого вреда Харви причинять не собирается и даже не рассматривает этой возможности.
– Да нет, – нетерпеливо произносит Харви, глядя на него очень пристально. – Ты просто выглядишь больным.
это потому что мальчик больной, думает Иден с тоскливым злорадством, немедленно уверяясь, что причина тому кроется в Тамаре, какой-то мальчик неизвестный, о котором мама всю жизнь очень любит поговорить в присутствии третьих лиц, может быть, соседский мальчик или какой-нибудь еще, метонимический, ее воображаемый друг, вполне вероятно. говоришь на меня, переводишь на мальчика, работает в обе стороны.
– Что ж, зато мне не слабо, – говорит он задумчиво, испытывая крайнюю печаль, безуспешно пытаясь решить, что именно хочет сделать – хочет как будто бы сесть где-нибудь, где уютно, и все ей рассказать, но делать этого нельзя, это нечестно по отношению ко всем участникам, и Харви ничем такого не заслужила, и слишком на него похожа, чтобы помочь, и в то же время совсем не так близка, чтобы вызывать доверие, как ни странно, так что в конце концов он только отводит взгляд и отшатывается по направлению к невысокому, полузаброшенному на вид строению, для верности поманив ее рукой.
– Пойдем, я где-то здесь пару месяцев назад оставил бутылку кирша, не исключено, что он все еще жив.
– Что такое кирш? – в том, что дверь закрыта, Иден не сомневается, и за ручку дергает в основном для очистки совести – разумеется, безрезультатно. он отступает к ближайшему окну, со слабым удивлением отметив отсутствие на нем решетки, поворачивает к Харви голову, внезапно тронутый ее беззаветным повиновением, поясняет:
– Киршвассер. Водка из черешни, – и бьет в окно локтем. лишившись целостности, стекло не держится в раме, выскальзывает и летит вниз большими кусками, Иден отскакивает почти своевременно, но один из осколков все же задевает его по плечу, вспоров рукав рубашки и вцепившись на долю секунды глубоко в мышцу, так что кровь появляется не сразу, но в больших количествах, и Харви смотрит на него уже с какой-то опаской, но Идену плевать, он как ни в чем не бывало производит свое незаконное проникновение в Тамарыну кухню, где неожиданно для себя первым делом сметает со стола вазу с цветами и сахарницу – просто для того, чтобы обозначить свое присутствие – и следует в прихожую, чтобы открыть своей спутнице дверь.
– Я наврал, – провозглашает он подчеркнуто легкомысленно, когда Харви, смиренно дожидавшаяся на крыльце, переступает порог и осматривается, с подозрением приподняв бровь. напряженно вглядывается в густые тени дома, не сразу привыкая к царящему там прохладному полумраку. невзирая на тесноту и редкие окна, в доме у Тамары хорошо, уютно и странным образом просторно, хотя на первый взгляд он, подобно своей хозяйке, кажется нежилым. сколько мебели по углам ни наставь, сколько туши на стены ни изведи.
– Дай угадаю, – говорит наконец Харви, скользнув по нему снисходительным взором. – Здесь нет киршвассера?
– В яблочко, – трагически признается Иден. она захлопывает дверь и решительно проходит по коридору в направлении гостиной, так что теперь уже ему приходится за ней следовать. – Нихуя здесь нет. Этот дом принадлежит кое-какому маньяку, о котором мне рассказал один товарищ. Тот самый, который влюблен в ебанутую девушку. Вернее, это даже не он сам мне рассказал, а она. Она и ебанулась-то оттого, что слишком долго крутила шашни с этим самым маньяком. Так что, сама понимаешь, грех было бы сюда не вломиться и не устроить этой бабушке юрьев день.
– Его уже посадили? – лениво осведомляется Харви, остановившись посреди комнаты, чтобы все как следует разглядеть. он еще слишком хорошо помнит, чтобы присматриваться – все это нагромождение старой утвари, сервант впритык к столу, ковер, диван, тяжелые шторы, плотный ситец занавесок, люстра, для такого потолка слишком громоздкая. и тем не менее здесь просторно, а еще приятно пахнет, вроде бы, каким-то растением, вроде полыни, а еще, конечно, самой Тамарой, которую отличает запах дыма и акварели, горелого дерева – может быть, это тушь так пахнет, если долго принюхиваться. может быть, она на самом деле не красит глаза, а просто плачет тушью, и ленты на руках потому черные, что пропитаны тушью, и здесь она занимается тем, что собирает свои слезы в какую-нибудь емкость, а потом слезами же и рисует по стенам всякие пейзажи, каракули, силуэты животных, словно пепельные тени на стенах после ядерных взрывов.
– Нет, конечно, – говорит Иден. в гостиной ему быстро становится скучно, так что он скоро покидает Харви, вновь приглашая следовать за собой, и идет в мастерскую, рабочую область Тамары, куда они заходили с ней в прошлый раз на какое-то время, и где он смутно помнит какие-то холсты и этюдники. – У них на него ничего нет, вот и не посадили. Нет и быть не может, на самом-то деле, этот парень в жизни своей мухи не обидел.
– Надо же, – смеется Харви, в скором времени настигнув его на пороге, первая шагает в помещение и направляется к стопке небольших подрамников в углу. комната почти пуста – возможно потому, что монументалисткой Тамару не назовешь, а может быть, в результате ее привычки расправляться с прошлым путем безжалостного сжигания собственных работ, лишь посередине стоит большой этюдник, тот самый, который она попросила его донести четыре дня назад, использовав как предлог, чтобы завлечь сюда. прикрепленный к нему большой лист плотной бумаги или белого картона покрыт извечной черной мазней. – Как же вы тогда поняли, что он маньяк?
– Да у него это на роже написано. С такой рожей по улицам ходить – себе дороже, – как с недавних пор вошло в традицию, боли Иден совсем не чувствует, поэтому о ране на плече вспоминает лишь тогда, когда глядит на свои пальцы, внезапно ставшие какими-то скользкими, и обнаруживает, что кровь за это время успела полностью пропитать рукав и капает теперь на пол. злорадство, которое он от этого испытывает, слишком напоминает злорадство Тамары, беспредельное и беспочвенное, чтобы не вызывать подозрений. Иден подходит и щедрым жестом вытирает руку о лист на этюднике, цвета в полумраке не слишком различимы, так что кровь поверх туши ложится лишь чуть более светлыми пятнами. если Харви от такого поворота и пугается, то успевает вовремя это скрыть.
– Черт, Иден, – говорит она, посерьезнев. – Да ты реальный психопат.
– Да, мне мама говорила, – хвастливо отвечает Иден, в очередной раз подавляя глухое раздражение. Харви подходит и склоняется к его плечу, щурится в попытках рассмотреть получше, касается кончиками пальцев.
– Блин, глубокая, – сообщает она озабоченно, словно речь идет о ее собственном плече, а не о чужом, это трогательно, так что он не успевает с собой совладать, целует наугад в ухо, утыкаясь носом в короткие мягкие пряди, и она чуть-чуть отстраняется, демонстрируя, что ей как будто не до того. – Да погоди. Промыть и перевязать хотя бы надо. Смотри, сколько крови.
– Так и хлещет, – кровожадно подтверждает Иден, желая как-нибудь отвлечь ее от таких пустяков. – Да плюнь, в конце концов, зато из меня вся зараза сейчас вытечет и достанется этому блядскому маньяку. Тогда-то до него сразу дойдет, что мы не те люди, с которыми нужно связываться, сечешь?
– Я тебе в глаза щас плюну, – говорит Харви. – Хватит придуриваться. Где здесь кухня или ванная, не знаешь, часом? Идем, водой хотя б промоем. А не то я не играю. С кем же мне, по-твоему, в баскетбол гонять, если у тебя рука отвалится.
– Перейдем на что-нибудь другое, – отвечает Иден, но по направлению к кухне все-таки покорно отступает, когда вспоминает о том, что там сокрыто кое-что важное. – На шашки, к примеру. Дымовые или динамитные. Пойдем, щас мы тут все промоем к чертовой матери.
Пришедший ему на ум предмет – емкость с самогоном на зверобое, темным, как виски, стоит в холодильнике. отведать его ложной легкости и обжигающего тепла в прошлый раз удалось лишь пару капель, которыми она угостила его перед походом на чердак, и теперь он столь смехотворными количествами довольствоваться не намерен. Харви отвлекается на какое-то полотенечко, которое находит на ручке плиты и старательно мочит холодной водой под краном, а развернувшись, выясняет, что он уже стоит, приложившись к поллитровой банке, у раскрытого холодильника в золотистых рассветных лучах, которые проникают сквозь разбитое окно и высвечивают его торчащие волосы платиной, а жидкость в банке таинственным янтарем. купленное, небось, у местных жителей пойло – весьма крепкое, но чистое и такое мягкое, что даже почти не жжет, и для того, чтобы оторваться, ему требуется сознательное усилие, и совершает он его не столько потому, что ряд планов в результате чрезмерного опьянения может сорваться, а потому, что давно не спал и не ел и болеет, и буйство не подразумевает заботу о ближнем, а риск его в этих обстоятельствах абсурдно велик.
– На, – говорит он, переведя дух, и протягивает тару. – Только не слишком увлекайся, а то не только мозги можно промыть, но и желудок на раз, если перебрать.
– Сними рубашку, – велит Харви, в ответ на что Иден шумно ставит банку на стол и молча глядит на нее с видом насмешливым и немного раздраженным, так что ей приходится в конце концов подойти к нему, пристроить мокрое полотенце рядом с банкой и заняться его пуговицами самостоятельно. она внимательно смотрит на свои пальцы, которыми их расстегивает, не находя в себе сил встретиться с ним взглядом, и без того стремительно краснея. наконец, с пуговицами покончено, но Иден не шевелится, пристально за ней наблюдая с кривой усмешкой на устах, ему нравится четкость, с которой в ней читается внутренняя борьба, и то, как она себя заставляет, в конце концов она все же стаскивает с него рубашку без какого-либо участия с его стороны, болезненно нахмурясь оттого, что пропитанная кровью ткань в месте пореза прилипла к ране и ее требуется отклеить.
– Слушай, Харви, – произносит он ей в самое ухо, выдыхая терпкий запах зверобоя на спирту. – Тебе вообще приходилось за свою жизнь что-нибудь ломать?
– Да, – отвечает Харви, наконец, справившись с собой, храбро поднимает на него взгляд своих ясных глаз, серых, а не зеленых, как у него, хотя осознавать это странно, потому что в тот момент, в единственном месте помимо чердака, куда в этом доме за день вообще попадает солнце, Иден практически уверен, что находится здесь один и ведет в форме диалога странный сбивчивый монолог, но глаза у нее серые и такие светлые, что кажутся в проходящем свете совсем прозрачными, она берет со стола банку и делает большой глоток, не отводя взгляда, морщится, задохнувшись от непривычной крепости, но ценой стоических усилий не кашляет. – Ногу, – хрипло продолжает она и щедрым рывком плещет самогоном ему на плечо. Попадает довольно метко, и боль от этого следует внезапно резкая, как будто бы куда более, чем от самого стекла, но Иден плевать хотел, он даже не щурится и глаз не отводит, она возвращает тару на прежнее место, чтобы взять полотенце, и тут он делает какой-то неуловимый жест, словно фокусник, так что она не сразу понимает, что произошло, и в первую секунду допускает, что футболка ее просто бесследно растворилась в воздухе, но он тут же тычет вещь ей в руки, как материал для перевязи, лишая возможности отвлечься, и говорит:
– Да не, я не о том, – едва заметно хмурится, когда она затягивает узел, ненадолго переводит взгляд с порозовевшего фарфорового уха Харви на темный фон помещения за ее спиной, с которым она так контрастирует, фыркает в ответ на ее тихий и неразборчивый вопрос:
– В чем же я теперь домой пойду?
– Да хоть в моей рубашке, – отмахивается, нашаривает емкость, для верности еще разок отхлебывает сам и не глядя тычет ей, намеренно оттягивая удовольствие от представшего взору зрелища, продолжает. – Не себе ломать. Вообще ломать. Нахуй ломать, – краем глаза он видит, как она пьет, один глоток, второй, потом отбирает банку и с размаху швыряет ее в неизменно стеклянную витрину подвесного шкафчика, где Тамара хранит стаканы. – Вот так ломать, – говорит он, но слова тонут в звоне разбитых стекол, Харви вздрагивает, а потом отскакивает, когда он говорит. – Вот так, – и опрокидывает стол, который задевает железную этажерку с кастрюлями и сковородками, и впадает в свой дикий экстатический восторг от вида Харви и ее острых карамельных сосков на белоснежной маленькой груди, а она отступает на пару шагов, пьянеет на глазах, ухмыляется во весь рот, стоя перед ним лишь в шортах и кедах, уточняет:
– Вот так, то есть? – привстав на цыпочки, хватает с холодильника бутыль с вареньем и с детским хохотом роняет его на пол.
– Именно. И вот так еще, и вот так, – и вот так, и вот так, крышка от плиты, посуда в сушилке, очередной шкафчик со множеством мелких баночек для специй, стопка тарелок на столе возле мойки, холодильник вместе со всем содержимым, стойка для ножей, пара бокалов, чужая картина, пенал с дурацкой глиняной утварью, деревянные стулья, и дальше, когда в кухне исчерпываются все целые, стоящие по местам предметы – в прихожую, где есть вешалка со всяким тряпьем и лилипутский комодик со старыми статуэтками, содержимое комодика, щетки для обуви, ремешки для сумок, пакеты для мусора, в гостиной стол, шкаф с книгами, телевизор, стойка с разными сувенирами, старинная фотография в стеклянной рамке, отянутый гобеленом диван, и дальше – в мастерскую, долой холсты, долой оконное стекло, сдающееся при встрече с этюдником, спальня – антикварное зеркало на витиеватых ножках во весь рост, его посеребренная поверхность брызжет во все стороны, словно ртуть, в носу щиплет от тошно-приторной смеси запахов парфюма из разбитых пузырьков, косметика, стеклянный столик с какими-то побрякушками, комод с вещами, кружевным бельем и атласными бюстгальтерами, по которым Иден скачет, вывернув ящик на пол, совершенно бездумно, не соотнося с Тамарыным телом совсем, слишком увлекшись, есть что-то особенно приятное в том, чтобы разливать свою добела раскаленную ярость и похоть именно здесь, в ледяных тенях совсем иных ипостасей ярости и похоти, тихих, чуждых и больных. порядком запыхавшиеся, покрывшиеся пылью, тучи которой еще витают в воздухе, высвободившись из оков старого хлама, разгоряченные и уставшие от воплей и хохота, они, в конце концов, неизбежно оказываются на чердаке, где по случаю утра царит еще больший мрак, чем на закате, где в другое время бывает, вероятно, холодно и страшно, первое, что делает Иден – хватает из горки сваленных в угол инструментов молоток и метким броском отправляет его в окошко, чтобы рассеять царящую здесь духоту, и целует Харви без промедления, не позволяя ей отдышаться, и она отзывается со всей возможной страстью, тайно робея от близости кожи с кожей, кусает его в губы, словно маленький зверек, и заливисто хохочет, как забежавшее в холодную реку дите, когда он валит ее на ту самую кучу тряпья, где четыре дня назад лежал сам, стаскивает с нее шорты и гладит везде, восхищенный совершенством ее тела, на нем нет ни единого волоска, одни крепкие сочные мускулы и точеные хрупкие кости под белым бархатом кожи, он целует ее везде, кусает в бедра и в грудь и в синюю линию вены на манящей длинной шее, захлебываясь от жадности почти гастрономической, наслаждаясь собственным нетерпением, Иден обожает ебаться, всегда говорит, что секс – это самое лучшее занятие в мире, вся эта искусная биомеханика приводит его в восторг, ее эстетичная прямота и инженерная безупречность, близость и жар и вспышки бездумного счастья, словно в солнце падать, контактный рельс целовать, но едва ли не больше, чем ебаться, он любит собственное предвкушение и неутолимый голод по голоду, словно рвущийся с цепи питбуль, Харви хочет его так сильно, что истекает скользким жидким стеклом, задыхается, кусается, царапается, льнет к нему всем раскаленным телом, жмет к себе так сильно, что кости трещат, и внутри у нее так восхитительно тесно, там еще никто не бывал, там все стучит от нетерпения, так что никакой боли она уже не замечает, когда он наконец отпускает цепь, заряжает патрон в патронник, вторгается в нее, кусая в шею, и ебутся они дико и безудержно, словно звери, все эти лисы и зайцы в близлежащих лесах с полями, словно свято верят, что если долго и старательно друг о друга тереться, то получится все-таки смешаться в одного человека. Харви испытывает смутное облегчение, когда они наконец устают и устраивают перекур, оттого, что Иден не говорит и не делает ничего особенного, а держится так, будто вообще ничего не произошло, ничего значимого, по крайней мере, каким оно для нее помимо воли является, просто говорить теперь можно еще меньше, еще больше полагаясь на близость, только и всего. чтобы курить, впрочем, нужны сигареты, а они остались в рубашке, а рубашка под столом, а стол под этажеркой, а этажерка под горой кастрюль и осколков от посуды, так что сидеть сложа руки не приходится, а веселье Харви достигает пика, когда она замечает окровавленную ссадину от деревянной половицы чердака на колене у Идена, обнаженном одной из дыр в джинсах, которые хоть и в обтяжку, но призваны славить панк слишком сильно, чтобы защищать от производственных травм, так что она истерически хохочет и тычет пальцами, долго не в силах вымолвить ни слова, а Иден занят раскопками и поглядывает на нее с безмятежным недоумением, пока она, наконец, не успокаивается и не поясняет, в чем дело, а он в ответ только печально осматривает очередное повреждение и говорит: