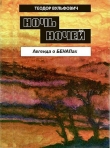Текст книги "Nacht"
Автор книги: Аноним Гробокоп
Жанры:
Магический реализм
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
ветреная, беззвездная ночь в конце мая, непроглядная тьма в укромных уголках старинных дворов-колодцев даунтауна, растрепанная и разнузданная в буйной парковой зелени, до одури пропахшая приторной акацией, заснеженная тополиным пухом, ночь гулкая и безлюдная в центре и трущобах, блики ранней росы празднично сверкают по старым булыжникам мостовых, а ветер пронизан далеким эхом окраин, собачьим лаем, воем диспетчеров на железнодорожных полустанках, грохотом товарняков по расшатанным рельсам. одна из самых коротких ночей в году, мимолетно-страстная, как поллюция, и щемящая, словно осень, тесная в своей необъятности, освежает холодом, как стакан денатурата на голову, истошная, кромешная, отчаянная, неуловимая, излюбленная Иденом среда для потери сознания, идеальное место, в котором можно спрятаться от себя и своего бесконечно отточенного внимания, звуков и запахов слишком много, чтобы удержать в руках, и по утрам он не помнит ничего, кроме бессвязного набора семплов и прикосновений. он со своей говорящей фамилией в этой среде словно рыба в воде, ничто не сбрасывает охотней, чем контроль, бесследно проваливаясь в ритуальную круговерть действий необъяснимых и спонтанных, единственно подвластных истовым служителям хаоса. ночь исправна и беспроигрышна, очищена от примесей всякой логики, не содержит ничего, кроме секса и разрушения, жадно поглощаемых ненасытным океаном сочной травы и липового цвета, вязким и бездонным, как трясина, медовое болото, зыбучие россыпи сахарного песка. ночь скрипучая и шумная – ночь последнего звонка, до которого ему самому еще два года тащиться по пересеченной местности прогулов и экзаменов – окружает со всех невидимых сторон, одичавшие от радости подростки празднуют свое освобождение прямо на улицах, бухают, орут и трахаются повсюду, куда только ни сунься, весь город на пару часов превращают в один большой бесплатный лав-отель, невиданное единство делает их коллективное бессознательное почти осязаемым и плотным, как желе, так что он успевает захмелеть безо всяких вспомогательных средств задолго до того, как достигает пункта назначения в виде небольшого, ничем не примечательного окна в череде прочих окон на втором этаже многоквартирного дома, в которое бросает камешек, слегка перестаравшись, и единственное, что спасает стекло – приоткрытая форточка, он сам это осознает с опозданием, лишь после того, как разжимает пальцы, и смущенно фыркает, когда понимает, что это тоже вопрос привычек и мелкой моторики, уж больно много окон перебито камнями в заброшках и общагах из бедных кварталов просто потому, что шум, грохот, вопли, брызги осколков и прочие аспекты деструкции тешат душу и радуют глаз. Харви распахивает створку, не включая в комнате свет, отчего он лишь приглядевшись обнаруживает, что спать она предпочитает в футболке вдвое больше себя по размеру. Иден стоит прямо под фонарем, но на то, чтобы его узнать, ей тоже требуется некоторое время.
– Ты с ума сошел, что ли? – первым делом спрашивает она, в основном чтобы удостовериться, что не ошиблась, и лишь заслышав в ответ беззаботное:
– Ну да, а ты как думала? – отшатывается ненадолго во мрак комнаты, нашаривает там первые попавшиеся шорты, наспех шнурует кеды. побег через окно представляет для нее определенный риск, но Иден следит с расстояния и не вмешивается, слишком хорошо знает, что любые попытки предложить помощь она расценит, как оскорбление. такой побег и производится по сути исключительно ради риска, в противном случае ей не составило бы малейшего труда беззвучно проскользнуть мимо спальни родителей и покинуть квартиру куда более прозаически. в конце концов, бессмысленный риск и бесконечное преодоление на слабо для них обоих служат первостепенным общим знаменателем, думает он, наблюдая, как она мягко приземляется на козырек аптеки, расположенной этажом ниже, и карабкается с него вниз по решетке, цепкая и ловкая, как обезьяна.
– Чего ж камнями, как в детском саду каком-то, – говорит она со смешком, лишь слегка запыхавшись от усердия, когда выходит из тени в освещенную область с ним рядом, но глядит серьезно и несколько более пристально, чем обычно. – Нет бы гранату швырнуть, чтоб уж наверняка.
– Как только обзаведусь гранатами – дам знать, – эта пристальность наводит на него легкий дискомфорт, потому что обычно Харви на него не смотрит вообще – как правило, оба они глядят в одну сторону, и в этом отчасти скрыта причина комфорта, сподвигшая его предпочесть ее компанию в ночном хаосе своей собственной. в этом есть нечто братское, нечто кровное и даже нарциссическое, скорее, чем дружеское или сексуальное, как и в том, что Харви – маленькая и крепкая, мощная, как пружина, всегда готовая сорваться на бег и ввязаться в драку, ладная, мускулистая, такая же ослепительно белая, как и он сам, с лицом хищным и простым, как и у него, безбровым, курносым и большеглазым, с резкими скулами и тонким ртом. фонарный свет падает сверху, затеняя в провалы глубоко посаженные глаза, засвечивая рваный беспорядок коротко остриженных волос, и несколько секунд он созерцает с удовлетворением, прежде чем позволяет себе отступить обратно во мрак, словно на цепи увлекая ее за собой.
– Ни в чем себе не отказывай, – отзывается Харви уже на ходу. – Ты почему в школе не был вчера?
– Заболел, – и это в кои-то веки даже не ложь. Такая уж с температурой штука – всегда хочется ее либо сбить, остудившись до полного онемения, либо вывести в какие-то космические величины, довести до крайности, лишь бы перестало так стучать в бошке и ломить хребет. – Пришел вот с тобой поделиться.
– Ясно, – хохочет Харви. голос у нее низкий и громкий, с прокуренной хрипотцой и очаровательной небрежностью, выдающей то лихое безрассудство, которое он в ней ценит, пожалуй, больше всего. – А волосы куда подевал?
– Это побочный эффект, – вкрадчиво поясняет Иден, только сейчас вспомнив о своих недавних забавах с садовыми ножницами и облегчении, которое в этом увлекательном занятии внезапно обнаружилось. ножницы были тупыми, волосы – длинными, их приходилось скорее пилить и рвать, нежели стричь, и результат, которого удалось таким образом достичь, только придает ему большего сходства с Харви. короче было нельзя, а мама и так не рада – хотя это один из ключевых компонентов облегчения, впрочем. – Стригущий лишай по городу ходит, не слыхала разве?
– А-а, – понятливо тянет она, ускоряя шаг, чтобы его обогнать. это такая негласная игра, в которой оба участвуют автоматически – все быстрее и быстрее, пока не врежешься в кого-нибудь или не исчерпаешь дыхание. – Этот фингал – тоже побочный эффект?
– Да ты прирожденный врач, – едко ухмыляется в ответ Иден. – Талант от бога, – моральное удовлетворение от этой сцены до сих пор не знает границ. мама кричала и плакала так страшно, будто он не патлы с себя состриг, а какие-нибудь пальцы или уши, как минимум, и волос в раковине и на полу оказалось чертовски много, их еще поджечь для полного счастья не хватало, только он уже не успел, потому что она ворвалась и давай кричать и плакать и взывать ко всем святым угодникам, и по мере того, как он увещевал ее заткнуться и успокоиться, контроль отступал все дальше с каждым повтором, и в этом, как всегда, обнаруживалось нечто слишком непреодолимо соблазнительное, чтоб устоять, в конце концов, пальцы всегда соскальзывают со штурвала под адреналиновым натиском, и все действия вокруг от этого приобретают невиданную легкость. телевизор летит с полки, словно пустая картонная коробка, зеркало, оказывается, крепится к стене не на шурупах, а на одном честном слове, ударной волной опрокидывает обеденный стол, этажерку, сервант со стеклянной витриной, которая по одному мановению руки превращается в поток кусачих осколков, мама просто стоит на пути, и ее хочется отодвинуть подальше, потому что она очень громко вещает всякие прописные истины, оглушая и отдаваясь болью в черепе, но от малейшего прикосновения она отлетает к стене, словно перышко, словно в невесомости. а вот и папа, надо же, в кои-то веки решился возложить на алтарь свою неприкосновенную мигрень, так что даже удосуживается заволочь разошедшееся чадо на свою неприкосновенную территорию, в свой рабочий кабинет, где мебель огромная и устрашающая, будто у бруталистов, или так просто кажется, когда лежишь на полу и хохочешь до посинения, как младенец. да и как же тут не хохотать, когда папа раз в сто лет сподвигся извлечь из брюк ремень и хлещет тебя прямо поверх шмоток куда ни попадя, это он опускается до подобного проявления чувств, потому что решил быть в ярости, с папой вся проблема в том, что он никогда не бывает ни в каких состояниях, а только решает в них быть и к исполнению избранной роли приступает всегда спустя рукава, без малейшего энтузиазма, нерадиво, Иден рад в этом плане походить на мать, она, конечно, ненормальная, но по крайней мере в пристрастиях себе не отказывает и отдается им с той же варварской безоглядностью, так что весь этот потешный брутализм в кабинете доводит до истерики, от смеха Иден давится слюнями, смиренно лежа на полу, отчего папе только труднее попадать по нему ремнем, и сквозь кашель сообщает, что недаром у мамы с головой так плохо, быть замужем за этим ходячим воплощением импотенции несладко, поди, понимаешь ли, батенька, глумливо издевается Иден, если бы ты меня с детства пиздил, я бы, может, сейчас и боялся, но теперь уже все бесполезно, все – об стенку горох, не в коня корм, не в калашный ряд, теперь мне поможет только армия, там из меня человека сделают, там слабаков престарелых не водится, а только одни сплошные тестостероновые монстры, хоть настоящих мужчин увижу, узнаю, как они вообще выглядят, и как тебе при таких данных только удалось сделать троих детей, не пойму, может быть, ты и для этого кого-нибудь нанял? черномазого носильщика или дворецкого из эмиратов, то-то была бы история – какое-то из этих слов, наверное, все же оказывается ключевым, ибо на короткий момент в его отце, пожалуй, впервые на его памяти проскальзывает-таки нечто искреннее, некий блик из подводных течений, так что он сгребает своего младшенького с пола за шиворот легко, как пушинку, и бьет кулаком в живот, вышибая всякий воздух, а потом по лицу, отчего Иден врезается бошкой в очередную стеклянную витрину, за которой у папы в комнате хранятся книги, и от шума и удара на секунду перестает соображать, где находится, всецело сосредотачиваясь на величайшем облегчении и лишь краешком рассудка недоумевая, зачем в этом чертовом доме так много стекла, все на свете можно порезать, если как следует выйти из себя, а потом мама, конечно, снова врывается, как всегда, портит картину, лишая участников малейшего шанса на откровенность, и вопит, что мальчик больной, Иден не уверен, о каком конкретно мальчике идет речь, но папа, похоже, ориентируется куда лучше, он отвечает, да, больной, весь в тебя, и теперь у них уже есть поводы для личного обсуждения, так что Идену ничего не остается, кроме как удалиться в свою комнату и там заняться извлечением из кожи осколков, не обращая внимания на головокружение и размышляя над тем, куда подевалась вся боль. как обычно бывает с серьезными проблемами, его больше никто не трогает – наверное, думает Иден, если убить кого-нибудь, окружающие присмиреют окончательно и до скончания дней не будут выказывать ничего, кроме уважения, так как чем масштабнее твой проступок – тем меньше тебя в нем винят, и остаток времени до утра он мирно мокнет в ванне, безуспешно силясь оставить в ней излишки томной лихорадки, а потом старательно собирается и выходит из дому, никем не отвлекаемый, с благим намерением направиться в лицей. благое намерение терпит провал, тем не менее, когда он выясняет, что рюкзак с книжками остался дома, а на часах уже почти одиннадцать, но вероятность возвращения слишком абсурдна, чтобы даже приходить на ум, и остаток дня он бесцельно шатается по городу, как всегда, не в силах толком сосредоточиться, спит где-то в высокой траве на прогретой майским солнцем лужайке посреди парка пару часов до заката, а проснувшись, какое-то время бездумно прислушивается к лютующему вокруг празднеству, под предлогом которого выпускники стремятся поскорее отделаться от опостылевшей невинности. Иден рад бы присоединиться к ним, к любой из групп, и в другое время с этим не было бы проблем, с этим не может быть проблем, когда ты для всего открыт и ко всему готов, но позабыть о собственном присутствии здорово мешает сомнение и отвращение, это открытие ново для него и крайне утомительно – что прежде чем прыгать в излюбленный омут, нужно куда-то деть сомнение и отвращение, чуждые ему, искусственно привнесенные извне, как зараза, их нужно выблевать, вырвать, вырезать, перетереть. возможно, вынести на обсуждение, чтобы лишить той личной таинственности, которая делает его причастным, но обсуждать с самим собой бессмысленно, а достойных оппонентов в этом деле у него нет. Денни Орловский, по совместительству его лучший друг Орел, со своим дефицитом внимания не в силах обрабатывать такие сложные материи, как любовь и ненависть, а Харви при всей близости для этого совсем не годится. закон успеха в таких вещах гласит, что ты не можешь обсуждать одну девочку с другой, особенно с той, которую собираешься в скором времени трахнуть, и которая подает все необходимые для выполнения этих планов сигналы, включая редкое кокетство в виде игровой строптивости, никогда не заходящей слишком далеко, и готовность пойти за тобой на край света сквозь ветреную, непроглядную и небезопасную ночь по первому щелчку. ночь черна, хоть глаз выколи, так что Иден больше слышит Харви, чем видит, по мерному скрипу качели на детской площадке, где они делают привал после покупки нескольких банок джин-тоника. завладеть ими, не предъявляя несуществующих доказательств совершеннолетия, ему удается разве что при помощи хамства и врожденного очарования, случайным образом сочетаемых перед пожилой продавщицей в ярко освещенной тесноте круглосуточной стекляшки на углу. вкус у этого чудесного напитка гадостный, на его взгляд, слишком мыльный, сплошная хина и пузырьки, но Харви нравится, она умудряется заливать в себя уже вторую, не слезая с качели, и положение ее в воздухе он определяет в основном по тому, как плещется о жестяные стенки шипучая жидкость. ориентируясь на этот звук, он тихо обходит качелю сзади, отмечает для себя славный шанс получить металлической спинкой в зубы и наугад запрыгивает на подножку, отчего оказывается прямо у нее за спиной. от толчка качеля подлетает куда выше, чем в прошлый раз, и Харви приходится крепко вцепиться в ее крашеный чугунный прут свободной от банки рукой, чтобы не выпасть назад вместе с Иденом, который вместо спинки держится за ее плечи и целует в затылок, потом в шею, под челюсть, под ухо и везде, куда успевает достать, пока она не решает, что на сейчас достаточно, и не делает условную попытку высвободиться, скрывая смущение за очередным смешком и комментарием:
– А, это ты. Я думала – волки.
– Волки и есть, – рассеянно отвечает Иден, отстраняясь, слушает, как она отхлебывает своего пойла, и начинает как будто в воздух. – Ты как думаешь..
– Э-э, ты чо-о!.. – с показным возмущением вопит Харви, зажимает холодную банку между белых и гладких, неприкрытых короткими шортами бедер, чтобы освободить руку, и, схватив за запястье, выпрастывает его кисть из ворота своей абсурдно необъятной футболки. – Ты чо там, найти что-то пытаешься, что ли?
– Да, – тут же говорит Иден. – Кокаин. Я надеялся, что ты носишь его у себя в лифчике. Откуда мне было знать, что на тебе, стерве, даже лифчика нет. Вопиющее нахальство.
– На кой черт мне лифчик, – самодовольно отзывается Харви, выбрасывая вперед ноги для нового рывка назад. – Мне его и надевать не на что, не видишь разве.
– Это не беда, – отвечает Иден, отбирая у нее банку, и отхлебывает, сколько может, прежде чем она протягивает за ней руку. – Так даже лучше. Представляешь, сколько кокаина там можно спрятать, когда ничто ему не мешает.
– Идиот, – радостно сообщает Харви. – Так что я думаю о чем? Где кокаин припрятан, или как?
– Не, – неясно, виной тому температура или ночная прохлада, но джин-тоник на него никакого эффекта не производит. за исключением, быть может, отдаленной тошноты. может быть, он слишком много думает, чтобы хоть на секунду избавиться от сознания, и его это раздражает. отвратительно тянет к земле, словно ремень безопасности заклинило. – Как ты думаешь, что бы ты делала, если бы кто-нибудь, кто тебя страшно бесит, стал к тебе приставать?
– В смысле – приставать, – с недоумением говорит Харви. – Да и страшно бесит меня разве что моя..
– Нет, если представить, что есть кто-нибудь, кого ты на дух не выносишь, – перебивает он. – И он тебе, допустим, в любви там клянется, все такое, проходу, в общем, не дает. Что бы ты делала?
– Ну, во-первых, мне трудно такое представить, – задумчиво произносит она после паузы. – Во-вторых, ничего бы не делала, что ж тут поделаешь. Сказала бы ему, чтобы он куда-нибудь в другое место шел со всей этой херней, а так-то какая разница? Если предположить, что он меня ну совсем уж достал, то наверно, пиздюлей ему дала бы, если, конечно, это не какой-нибудь устрашающий качок или, там, псих какой. Тебе бы пожаловалась, может быть. А что? Тебе кто-то в любви клянется и проходу не дает?
– Да нет, – говорит Иден. – Я тут вообще ни при чем. Просто у меня есть один друг, который влюблен в девушку на несколько лет старше, и она, в общем, ведет себя как-то странно. Я бы не встревал, но он просто сам не свой из-за этого. Все не может решить, это она хочет, чтоб он ее в покое оставил, или наоборот.
– А странно – это как? – уточняет Харви, подавляя смех, когда Иден снова хватается за банку, а она тянет ее в сторону, не отдавая, переворачивает и поспешно плещет остатки напитка себе в рот, промахивается, лишь бы ему не досталось, липкие капли с хвойной отдушкой стекают вниз по ее шее за ворот футболки, а он налегает грудью ей на спину, из принципа отбирая бесполезную теперь тару, отчего качеля шатается в противоестественных плоскостях, а жесть скрежещет, сминаясь под пальцами, пока, наконец, в паре метров от них не умолкает, с глухим стуком приземлившись на песок площадки, когда он побеждает и раздраженно отшвыривает отвоеванное себе за плечо.
– Ну, э-э... – подобрать пример оказывается сложно, и не столько потому, что он опасается вызвать у Харви какие-то подозрения, сколько потому, что чересчур неприятно перед самим собой свидетельствовать собственное участие в чем-то подобном, чего он раньше предпочитал не замечать. хотя бы даже потому, что другие вещи, в которых он не участвует, вспоминать так приятно, что зубы сводит и становится жарко в живот. безупречное лицо Тамары в мягком свечном освещении под темными сводами католической церкви, царящее на нем холодное любопытство, с которым она следит за происходящим во время воскресных служб, словно древнее животное, мудрое и коварное, рептилия, заколдованная под человека, искусно замаскированная, неимоверно, сверх меры красивая, такая красивая, что смотреть больно и взгляда не отвести, на этом фоне и ее нервная грация ожившей куклы выглядит изящно и подозрительно, и ее противоречивая натура предстает лишь удачным сочетанием контрастных оттенков поверх самого прелестного, самого ценного фарфора, такого тонкого, что почти прозрачного, и прикоснуться так хочется, что ломит пальцы. кошачий, змеиный разрез ее глаз над хирургической маской однажды летним вечером, когда он вышел пройтись и застал ее увлеченно рисующей черный лес на стене его дома, от угла до угла заместо фотообоев. ее меловая кожа и кроваво-алый рот, ее цыганские черные локоны и костистые узкие руки, беззащитный, почти детский затылок под высокой прической у него перед носом на службе – только руку протяни – длинная белая шея. ее загадочное мастерство и тайная власть, ее жуткий взгляд, ясный, пристальный, навылет, навсегда, ее запах, кроваво-пряный и до странности военный, пятна туши на пальцах, карты, рассованные по карманам и рукавам. ее вечно перебинтованные черными лентами тонкие предплечья и монотонная грудная речь с этим особенным островитянским мурлыканьем, говорит всегда так, будто обращается сама к себе и больше ни к кому. то жаркое июльское воскресенье два года назад, когда он тайком отлучился с проповеди в прилегающий к церкви сад, чтобы там перекурить, скрывшись от посторонних глаз среди густых крон маленьких вишен – не столько потому, что приспичило курить, сколько от скуки и желания сделать что-нибудь отчаянно запретное, где Тамара сама подошла к нему, невесть откуда взявшись, словно из-под земли выросла, он тогда еще не представлял, как славно она умеет отовсюду появляться и других морочить так, что в трех соснах до самого рассвета бродить будешь, если ей вздумается, он тогда даже не знал, как ее зовут, пока она не представилась, попросила сигарету и осведомилась о его имени, которое Иден выдал машинально, сам себя не расслышав, потому что от ее неожиданной близости совершенно охуел и почти потерял сознание, так что даже не смутился оттого, как сильно покраснел, и не понял, о чем конкретно идет речь и что именно присходит, когда она с удивлением переспросила – Иден? так ты, что же, выходит, девочка, это же имя для девочек, женское имя, и при любом другом раскладе этого хватило бы, чтобы ввергнуть его в бешенство, но тогда всех средств экстренного реагирования в системе хватило лишь на то, чтобы ответить, что нет сэр, не женское, не девочка, нет сэр, и тогда она склонилась ближе и протянула руку куда-то к нему за голову, чтобы стащить с его волос резинку, а потом с удовольствием погружала в них пальцы до тех пор, пока не прикоснулась к коже над виском, и с особенным безмятежным любопытством поинтересовалась – разве? тогда почему бы тебе не постричься, чтоб не так сильно походить на девочку, зачем они тебе нужны. кто тебя надоумил на это, мамочка или папочка? или ты правда думаешь, что это красиво? и тон ее, почти ласковый, шел вразрез со смыслом слишком сильно, чтобы можно было принять на веру что-нибудь одно, и была она в такой близости, что случись ему осмелиться, и не составило бы труда поцеловать ее в рот, резко очерченный и терпко-алый, как вишни на деревьях вокруг, и вместо того, чтобы сказать или сделать что-нибудь обычное для себя, что-нибудь ужасно оскорбительное и грубое, Иден только спросил – а ты не думаешь? не отрывая взгляда от ее глаз, хотя состязаться с ней в этом оказалось вдруг исключительно непросто и становилось с каждой секундой все сложней, и она недоуменно приподняла бровь и улыбнулась – я? причем тут я, мне вообще белобрысые не нравятся. да и девочки меня, если честно, не интересуют, так что прости. но мы можем быть друзьями, если хочешь. если ты, конечно, ради этого за мной по улицам таскаешься постоянно. думаешь, я не видела? если ты вообще что-нибудь думаешь, конечно. если тебе есть, чем думать, я имею в виду. но ты, в любом случае, постарайся, а мне пора. еще увидимся.
или та самая проселочная дорога, которая пролегает вдоль жд полотна, уходя за черту города в район частных домов и дач с пышными садами, жмется там к насыпи и превращается в узкую тропку, по обеим сторонам густо заросшую высокой травой, по ней он ведет теперь Харви, чуть-чуть захмелевшую и пропахшую горьковатым можжевеловым ароматом. салатовой палитрой на востоке брезжит рассвет, что он отмечает с неудовольствием, походя запечатлевая в памяти силуэты спальных многоэтажек, будто выписанные тушью на фоне светлеющих небес. эта тушь все обезличивает и склеивает воедино, словно кулисы, а тихий щебет первых птиц вопросительно виснет в торжественной предутренней тишине, лишь добавляя миру павильонности, и его это раздражает, рассветы – это вообще отвратительно, если отвлечься от зрелища, время запуска всех рамп и шумов, неизбежно отвлекающих и стесняющих, они наседают на уши, набиваются в череп и мозолят глаз до заката, к которому обычно уже так застирываешься и устаешь, что даже сон не всегда в помощь, хотя только спать в такие ярко-белые дни и возможно.
– Наверное, она над ним издевается. Он мне в деталях не рассказывал, но судя по тому, что я слышал, выходит как-то так, что она все время норовит его унизить, но когда он от этого устает и пытается прекратить, она специально делает так, чтобы он передумал. А еще она к нему пристает, а потом зачем-то говорит, что это он первый начал. Я же говорю, странно, в общем, – невпопад говорит Иден, возвращаясь к теме, заглохшей ранее на его безответности, без особой надежды на исключительную наивность Харви или ее чрезмерное опьянение. не сказать, чтобы это так уж его занимало. в каком-то смысле сходство оказывается проблемой потому, что слишком просто обесценить качества, которыми располагаешь сам. в каком-то смысле все ясно, как наступающий день. неважно, верит Харви в баечку о его дурацком неведомом товарище, или нет – она, кажется, совершенно не беспокоится.
– Ну, зна.. – на полуслове она спотыкается, вроде бы, или наступает на скатившийся с гравийной насыпи камешек, теряет равновесие и падает на него. Иден слышит, как у нее зубы клацают, на ходу ловит ее почти машинально за талию и какое-то время волочет за собой, прижимая к груди, просто потому что улавливать ее тепло и чувствовать под рукой ее гибкую спину приятно физически, приятно осознавать, что он сильнее и может таскать ее на руках, если захочет, и демонстрировать это ей в такой непринужденной форме, ведь она любит делать вид, что сомневается в нем, постоянно обращая уроки физкультуры и прочее многоборье в нескончаемую череду бесцельных челленджей на слабо. такая особая форма кокетства – капитуляция сверху, в сочетании с ее издевательским кошачьим ртом и хриплым пацаньим хохотом представляется исключительно заманчивой, как легкие наркотики. Харви какое-то время сражается за утраченное равновесие, не поспевая ногами за землей, потом, извернувшись, обвивает его рукой за шею и хихикает прямо в ухо, так что он, наконец, останавливается, и не давая ей времени отстраниться, крепко целует в рот, а она замирает от неожиданности и совсем не шевелится, отчего ему становится ясно, что с ней этого раньше не делали, и пахнет от нее перегаром и мокрыми листьями, это так чертовски освежает, что он, кажется, слегка спешит, жмет ее к себе, одной рукой задирает сзади ее футболку, а другую кладет на поясницу и ведет вниз, наслаждаясь ощущением упругого переплетения мышц под прохладной гладкой кожей, и наконец Харви напрягается, чувствуя его пальцы за поясом шорт, может быть, оттого что это выглядит немного более агрессивно, чем следует, а может, просто оттого, что пальцы у него холодные, и он держит ее насильно еще секунду или две, прежде чем отпустить. Харви не глядит на него, а сразу же отворачивается и отступает на пару шагов в избранном им направлении, Иден желает что-то сказать, но внезапный рев электрички, вылетевшей из-за плеча на рельсы в удивительной близости, заглушает все мысли и лишает нужды вообще что-либо говорить, так что к тому времени, как вокруг снова воцаряется тишина, он уже все забывает и произносит лишь:
– Ты что-то сказать хотела, – в основном для того, чтобы извлечь Харви из уединения, куда ее загнал стыд, и вернуть к участию в рабочем процессе. она оборачивается и ухмыляется, желая показать, что ее такими пустяками не напугаешь, хотя в голосе еще слышатся дрожащие отголоски волнения:
– А, ну да. Во-первых, насчет этого твоего туповатого дружка и его пассии, хотела сказать, что тебе, небось, тоже известны такие случаи, когда всякие телочки из младших классов влюблены в чуваков из старших, а те рады стараться только потому, что можно сколько угодно на халяву тешиться и помыкать, как вздумается. Так вот, я имею в виду, это не только с девочками может случаться, если что.
– Н-да, – Иден почти пугается оттого, как сводит челюсти, потому что она, конечно, озвучивает его собственные предположения, которые из всех вариантов представляются наиболее отвратными, и всплеск ярости, такой безбожно запоздалый, рискует все испортить, так что он спешит полезть в карман рубашки за сигаретами, чтобы что-то сделать и поскорее занять руки и зубы, и после паузы на прикуривание все-таки уточняет. – Но как, по-твоему, разве это нельзя расценивать, как форму взаимности?
Харви фыркает, довольная возможности таким образом избавиться от смущения, косится на него в притворном недоумении и жмет плечом.
– Ну, если очень хочется, то можно, конечно. Все что угодно можно, если так посмотреть. Изнасилование, например, и то потянет на такую, очень образную форму взаимности, ты не думаешь? Какая разница, в общем-то..
– Ну нет, – из чистого упрямства перебивает Иден, прекрасно осознавая, что она имеет в виду и насколько она в этом права. – В изнасиловании речи не идет о привязанностях, знаете ли, о сознательном выборе и..
– Речь идет о ресурсе, – не медлит в отместку перебить Харви. – О том, что у тебя есть ресурс, которому кто-то другой находит применение. Разница только в том, под каким соусом это подается. И насколько это ранит самолюбие, в конечном счете. Другой вопрос в том, что если уж ты влюбился в такого человека..
– Я не влюбился в такого человека, – обрывает Иден, возможно, резче и громче, чем собирался, потому что она умолкает на какое-то время и продолжает уже с оттенком осторожного недоумения.
– Я понимаю, что не ты. Я вообще не знаю, почему это так сильно тебя занимает, но ты же сам, в конце концов, стал это выяснять.
– Как раз потому и занимает, – отзывается Иден после задумчивой паузы. – Что я не тот человек, с которым нечто подобное может произойти, и шмонать кого-то только потому, что его угораздило в меня втрескаться, я тоже не стал бы, так что мне непонятно, откуда это берется и как работает.