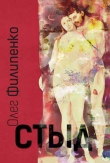Текст книги "Стыд"
Автор книги: Анни Эрно
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
(Естественно, мне и в голову не приходила такая простая мысль, что будь у моей матери халат и набрось она его поверх рубашки, девочки с учительницей из частной школы не замерли бы от изумления, а я не запомнила бы на всю жизнь этот вечер. Но в нашей среде халат и пеньюар считались признаками роскоши смешными и ненужными предметами для женщин, которые, встав с постели, тут же берутся за работу. Унаследовав свое миропонимание от среды, где не знают, что такое халат, могла ли я прожить, не изведав чувства стыда.).
По-моему, все, что происходило затем в то лето, лишь подтверждало горькую истину: «такое возможно только у нас».
В начале июля от закупорки сосудов умерла моя бабушка. Ее смерть оставила меня совершенно безучастной. Прошло всего десять дней, и в Вервяном квартале подрались наши родственники – один из моих кузенов, который только что женился, и его тетка, сестра моей матери, жившая в доме бабушки. Прямо на улице, на глазах у всего квартала, подстрекаемый криками своего отца – дядюшки Жозефа, восседавшего на откосе, кузен жестоко избил собственную тетку. Вся в крови и синяках – она пришла искать защиты в нашу бакалейную лавку. Мать повела ее в полицейский участок и к врачу. (Несколько месяцев спустя дело это будет слушаться в суде.).
В то лето я целый месяц мучилась насморком и кашлем. К тому же у меня наглухо заложило правое ухо. У нас не было принято вызывать врача из-за таких пустяков, как летний насморк. Я не слышала собственного голоса, а чужие доносились, как сквозь вату. Я старалась ни с кем не разговаривать. И не сомневалась, что оглохла на всю жизнь.
Да, вот что еще стряслось в июле, примерно в те же дни, что и драка в Вервяном квартале. Как-то вечером, когда кафе было уже закрыто, а мы все сидели за обеденным столом, я стала ныть, что у моих очков погнулись дужки. Вдруг мать вырвала очки, которые я вертела в руках, и с бранью швырнула их наземь. Стекла вдребезги разлетелись. Помню только общий ор, в который слились родительские попреки и мои рыдания. И ощущение бездны, в которую низвергается наша семья: «Может, мы и вправду сошли с ума!»
Стыд – это еще и панический страх, что теперь с вами может случиться все, что угодно – вы покатились по наклонной плоскости и до конца жизни обречены сгорать от стыда.
Через какое-то время после смерти бабушки и избиения тетушки мы с матерью поехали автобусом на один день покупаться в море, как бывало и раньше. Из дома она вышла и вернулась в трауре и только на пляже переоделась в синее платье с красно-желтыми узорами: «чтобы не сплетничали в И.» На сделанном ею фотоснимке, который был порван или потерян лет двадцать спустя, я стояла по колено в воде, на фоне Эгюий и заставы Аваль. Выпрямив спину и опустив руки по швам, я поджала живот и выпятила несуществующую грудь, обтянутую вязаным купальником.
Зимой мать записала меня с отцом в турпоездку, организуемую городской автостанцией. В программу входило посещение Лурда, а по дороге – осмотр местных достопримечательностей – Рокамадура, бездны Падирак и пр., и возвращение через три-четыре дня в Нормандию уже другим маршрутом через Биарриц, Бордо, замки Луары. Пришла и наша очередь с отцом съездить в Лурд. Во второй половине августа, в день отъезда, мы встали очень рано – было еще темно. И на улице Репюблик долго ждали автобуса, который сначала должен был забрать туристов в маленьком приморском городке. Мы ехали целый день, сделав только две остановки – утром в кафе Дре, а в полдень в ресторане на берегу речки Луаре, в Оливе. Зарядил непрерывный дождь, и за окном все слилось в серую массу. Утром, в кафе Дре, я поцарапала палец, отламывая кусочек сахара, чтобы угостить собаку. Теперь палец воспалился. Чем ниже мы спускались к югу, тем сильнее тосковала я по дому. Мне казалось – я уже никогда не увижу мать. Кроме фабриканта сухарей и его жены мы в нашей группе никого не знали. Поздно вечером наш автобус прибыл в Лимож, в отель «Модерн». Мы с отцом обедали за отдельным столом, посреди ресторана. Стесняясь официантов, мы ели в полном молчании. В непривычной обстановке мы оробели.
На протяжении всего путешествия люди сохраняли за собой в автобусе места, занятые в день отъезда (поэтому мне было легко всех запомнить). В первом ряду справа, перед нами, сидели две девушки из семьи городского ювелира. За нами вдова, землевладелица, с тринадцатилетней дочкой – пансионеркой частной религиозной школы в Руане. В следующем ряду овдовевшая почтовая служащая на пенсии, тоже из Руана. Дальше – учительница младших классов из светской школы, незамужняя, толстая, в коричневом пальто и сандалетах. В первом ряду слева фабрикант сухарей с женой, затем – супружеская пара торговцев тканями и модными товарами из приморского городка, молодые жены двух водителей автобусов, три супружеские пары фермеров. Впервые в жизни нам выпала возможность десять дней тесно общаться с незнакомыми людьми, которые за исключением водителей автобуса – были из более приличного круга, чем мы.
В последующие дня я уже меньше скучала по дому. И с радостью открывала горы и неожиданную для Нормандии жару, мне нравилось есть в ресторанах в полдень и вечером, ну, и конечно, спать в отелях. А какая роскошь умываться в настоящей ванной комнате с холодной и горячей водой! Я пришла к выводу – и буду думать так, пока не покину родительский дом, – что «в отеле лучше, чем дома», и это лишний раз подтверждало нашу принадлежность к низам. В каждом новом городе мне не терпелось увидеть наш гостиничный номер. Я могла просиживать в нем часами, ничего не делая – только бы находиться там, и все.
А у отца все, напротив, вызывало раздражение. В пути обрывистая дорога и водитель занимали его куда больше, чем окружающий пейзаж. Он плохо переносил ежедневные ночевки на новом месте. По-настоящему его интересовала только еда, и он подозрительно оглядывал каждую тарелку, особенно если подавали незнакомое нам блюдо, придирчиво оценивая вкус и качество самых обычных продуктов – хлеба и картошки, которую он и сам выращивал в огороде. Когда мы осматривали церкви и замки, отец с мученическим видом держался в хвосте, давая мне понять, что терпит все это только ради меня. Он чувствовал себя не в своей тарелке оторванный от привычной деятельности и привычной компании.
Он немного повеселел, когда подружился с бывшей почтовой служащей, фабрикантом сухарей и торговцем модных товаров – по роду своей деятельности более разговорчивыми, чем остальные члены группы, к тому же их сближали общие интересы, налоги и т. д., несмотря на бросающиеся в глаза различия – достаточно было взглянуть на белые руки наших попутчиков. Все они были старше моего отца – как и ему, им не улыбалось до изнеможения шагать под солнцем. Они подолгу засиживались за столом. Вздыхали по поводу местной засухи, подсчитывали, сколько месяцев не было дождя, обсуждали южный акцент и все, что было не так, как у нас, да еще это громкое преступление в Люре.[18]18
Я уже упоминала это преступление, в результате которого на юге Франции была убита английская семья. В свое время оно наделало много шуму, но виновные так и не понесли наказания. Все эти десятилетия «дело Доминичи» (как еще называют это преступление), притягивает к себе внимание французских писателей, философов, кинематографистов и тележурналистов. Подозреваемый в убийстве Густав Доминичи у мер три-четыре года тому назад. Но интерес к этому громкому делу не угас и по сей день. (Прим автора).
[Закрыть]
В нашей группе была девочка тринадцати лет – всего на год старше меня – по имени Элизабет. Она тоже училась в религиозной школе, хотя и в пятом классе. Мне, естественно, хотелось с ней подружиться. Мы были с ней одного роста, но под корсажем у нее выступала уже развившаяся грудка, и ее можно было принять за девушку. В первый же день я с удовольствием отметила, что у нас с ней одинаковые темно-синие плиссированные юбки и похожие пиджачки – у нее красный, а у меня – оранжевый. Я не раз пыталась заговорить с ней, но она лишь молча улыбалась в ответ, как и ее мать, сверкавшая золотыми зубами – та тоже ни разу не перемолвилась словом с моим отцом. Как-то я надела юбку с блузкой от формы, которая осталась у меня после участия в спортивном празднике. Эта девочка спросила: «Так ты участвовала в молодежном празднике?» Я с гордостью ответила «да», приняв ее фразу, произнесенную с широкой улыбкой, за начало дружеской близости. Но тут же поняла, что на самом деле означает ее странная интонация: «Тебе, видно, нечего надеть, кроме спортивной формы?»
Как-то раз до меня случайно долетели слова, произнесенные женщиной из нашей группы: «Вот будет красавица!» Я не сразу поняла, что она имеет в виду не меня, а Элизабет.
Нечего было и думать о том, чтобы заговорить с девушками из ювелирного магазина. Я еще не доросла, чтобы общаться на равных с девушками, у которых уже были самые настоящие женские тела – я все еще оставалась долговязым, но плоскогрудым и неуклюжим ребенком.
В Лурде на меня напала странная болезнь. Дома, горы, природа – все начало плыть у меня перед глазами. Когда я сидела в ресторане отеля, передо мной точно также «плыла» стена дома на противоположной стороне улицы. Неподвижность сохраняли только закрытые со всех сторон комнаты. Я решила, что заболела на всю жизнь и ничего не сказала об этом отцу. Проснувшись утром, я спешила проверить, остановился мир вокруг меня или нет. По-моему, в Биаррице все, наконец, вошло в норму.
Мы с отцом не могли пропустить ни одного обряда из тех, что нам поручила исполнить мать. Факельное шествие, служба и песнопение под открытым небом и палящим солнцем, когда я чуть не потеряла сознание, и какая-то женщина уступила мне свой складной стульчик, моление в чудодейственном гроте. Сейчас мне трудно сказать, испытала ли я восторг в этих местах, которые приводили в экстаз всю нашу католическую школу и мою мать. Никакого волнения я не запомнила. Помню только скуку да пасмурное утро, когда мы ехали вдоль горного потока.
Вместе с группой мы побывали в крепости, гротах Бетарама,[19]19
Бетарам – место паломничества в Пиренеях, на берегу реки По.
[Закрыть] осмотрели панораму местности времен Бернадет Субирус,[20]20
Бернадет Субирус – святая, родившаяся в Лурде (1844–1879). Ее воззрения послужили побудительным мотивом для зарождения традиции паломничества в Лурд.
[Закрыть] выставленную в круглом здании. Не считая бывшей почтовой служащей, мы были единственными, кто не поехал на водопад «Цирк Гаварни» и на Испанский мост. Эти экскурсии не входили в стоимость путешествия, а отец, ясное дело, не прихватил с собой лишних денег. (Помню, в какой ужас поверг его счет за коньяк, выпитый с двумя коммерсантами на террасе кафе в Биаррице.).
Откровенно говоря, мы мало что узнали во время этой поездки. У нас еще не было привычки путешествовать.
Осматривая достопримечательности, девушки из ювелирного магазина, то и дело заглядывали в путеводитель. И они все время жевали, доставая из пляжных сумок шоколад и печенье. А мы с отцом – кроме бутылки с мятной и сладкой настойкой на спирту – ничего не взяли с собой из дома съестного, полагая, что это не принято. Из обуви у меня были с собой только белые туфли, купленные для церемонии обновления обета. Они очень быстро загрязнились. Мать не дала мне никакого средства для их отбеливания. Нам и в голову не приходило, что его можно купить, словно в чужом городе не было магазинов. Вечером, в Лурде, увидев обувь, выстроившуюся в ряд перед номерами, я выставила и свои туфли. Утром они были такие же грязные, как и накануне, и отец посмеялся надо мной: «Что я тебе говорил! За это нужно платить.» Но для нас это было немыслимо.
Мы купили только памятные медали и почтовые открытки, чтобы послать их матери, родственникам, знакомым. За все время – ни одной газеты, только раз купили «Канар аншене».[21]21
«Le Canard enchaine» – французская сатирическая газета, пользующаяся популярностью и по сей день.
[Закрыть] Местные ежедневные газеты ничего не писали о нашем крае.
У меня не было с собой ни купальника, ни шорт. Поэтому по пляжу в Биаррице, среди голых тел в бикини, мы бродили одетые и в обуви.
И еще я запомнила, как в Биаррице на террасе большого кафе отец принялся рассказывать сальный анекдот о кюре, который я уже слышала от него дома. Все натужно смеялись.
На обратном пути мне запомнились три сценки.
Во время остановки на рыжем глинистом плато с выгоревшей травой, возможно, в Оверне, я присела в ямке, подальше от группы, чтобы облегчить желудок. И вдруг меня поражает мысль, что я оставлю частицу себя в месте, куда, скорее всего, уже никогда не вернусь. Очень скоро, завтра я буду уже далеко, а моя частица еще много дней, до самой зимы, будет лежать здесь, на этом пустынном плато.
Или вот на лестнице замка Блуа.[22]22
Памятник архитектуры (XVII в), в 172 км к юго-западу от Парижа.
[Закрыть] Отец простудился и непрерывно кашляет. Его кашель, гулко отдающийся под сводами замка, заглушает голос гида. Отец намеренно отстает от группы, которая поднялась уже на верхнюю площадку лестницы. Я возвращаюсь и жду его – скрепя сердце.
Вечером, накануне возвращения домой, мы остановились в Type и обедали в ресторане, который был весь в зеркалах и сверкал огнями – ресторане для состоятельной и элегантной публики. Мы с отцом сидели в конце общего стола, вместе с группой. Официанты обходили нас стороной, мы долго дожидались каждого блюда. Рядом с нами, за отдельным столиком, сидели загорелая девочка 14–15-ти лет, в платье с большим вырезом, и немолодой мужчина, наверное, ее отец. Они беседовали и смеялись, свободно и непринужденно, не обращая ни на кого внимания. Девочка лакомилась густым молоком из стеклянного горшочка – только несколько лет спустя я узнаю, что это – йогурт, в ту пору еще неизвестный в наших краях. Напротив висело зеркало, и я увидела в нем себя – унылую, бледную, в очках, молча сидевшую рядом с отцом, который смотрит в пустоту. Я видела, какая пропасть отделяет меня от той девочки, но не знала, что нужно сделать, чтобы стать на нее похожей.
С несвойственной отцу злостью он начал бранить этот ресторан, где нам подали пюре из «кормовой» картошки – белое и безвкусное. Потом он будет еще несколько недель сердито поминать этот обед и картошку, которой «кормят свиней». Хотя на самом деле отцу хотелось сказать совсем иное: «Вот где, наконец, до меня дошло, почему нас так презирают эти официанты ведь мы с тобой – не шикарные клиенты, что заказывают себе блюда по меню».
После каждой из этих сценок, что запали мне тогда в душу, меня так и подмывает, по моему обыкновению, заключить: «в тот день я открыла» или «я заметила, что», но подобные слова предполагают четкое понимание пережитых ситуаций. А у меня связано с ними только чувство стыда, вытеснявшее все прочие чувства и мысли. Но от этого никуда не спрятаться – я испытала это тяжкое бремя уничижения. Это и есть последняя истина.
Только она и роднит девочку 52-го года с женщиной, которая пишет эти строки.
Кроме Бордо, Тура и Лиможа, я никогда не возвращалась в те места, где мы побывали во время путешествия.
Ярче всего мне запомнилась сцена в ресторане Тура. Когда я писала книгу об отце, она все время стояла у меня перед глазами, безжалостно напоминая о существовании двух разных миров и нашей принадлежности к низшему из них.
Возможно, та роковая воскресная сцена только хронологически связана с путешествием, но можно ли утверждать, что она не повлияла на обостренное восприятие более поздней ресторанной сцены и что последовательность чисто случайна.
Вернувшись домой, я только и думала, что об этом путешествии. Я переносилась мыслями в гостиничные номера, в ресторан, на улицы солнечных городов. Я узнала, что существует и другой мир – необозримый, где ослепительно светит солнце, а в комнатах рукомойники с горячей водой, где девочки беседуют с отцами – совсем как в романах. Мы были из другого мира. И возразить тут было нечего.
Кажется, в то лето я и придумала игру в «идеальный день» – своеобразный обряд, которому я стала предаваться, начитавшись романов и прочих материалов, публиковавшихся в «Пти эко де ла мод» – из всех журналов, что мы покупали, в нем было больше всего рекламы. Каждый раз эта игра повторялась. Я воображала себя юной девушкой, которая одна живет в огромном и прекрасном доме (другой вариант: одна снимает комнату в Париже). С помощью препаратов, которые на все лады воспевали в журнале, я лепила свое тело и внешность, красивые зубы (зубная паста «Жибс»), алые и чувственные губы (помада «Поцелуй»), стройный силуэт (эластичный пояс, размер X) и т. д. Я наряжалась в платья и костюмы, рассылаемые по каталогу, а мебель в мой дом доставляли из «Галери Барбес». Я училась на курсах, которые, если верить рекламе Универсальной школы, открывали передо мной блистательные перспективы трудоустройства. Питалась я только продуктами, замечательные свойства которых восхваляла реклама: паштетами, маргарином «Астра». Я с огромным наслаждением ваяла себя, питаясь только превозносимыми журналом продуктами. Я неторопливо следила за их «раскруткой» и, сопоставляя рекламные картинки, придумывала свой очередной «идеальный день». Просыпалась я, к примеру, в постели от фирмы «Левитан», на завтрак пила горячий шоколад «Банания», свою «шикарную шевелюру» укладывала с помощью геля «Витапуант», училась заочно на курсах, чтобы стать медсестрой или представительницей службы социальной помощи. Каждую неделю в нашем доме появлялся свежий номер журнала, полный новых рекламных объявлений, и стимулировал мою игру, которая, в отличие от воображаемых приключений, навеваемых чтением романов, была очень активной и возбуждающей – ведь свое будущее я строила с помощью реально существовавших вещей. Огорчало только, что никак не удавалось продумать свой «идеальный день» с самого утра до позднего вечера.
Этой игрой я наслаждалась в тайне от всех и мне даже в голову не приходило, что ею может увлекаться кто-то еще.
* * *
В сентябре коммерческие дела моих родителей неожиданно пошли на спад: в центре города открылся новый магазин – «Кооп» или «Рабочий потребительский кооператив». Да и путешествие в Лурд было явно не по карману нашей семье. Однажды мать упрекнула меня с отцом, что мы не слишком усердно молились в гроте. Мы оба прыснули, а мать покраснела, словно выдала свои тайные взаимоотношения с небом, которые нам было понять не дано. Родители подумывали даже о том, чтобы продать лавку и наняться продавцами в продовольственный магазин или пойти работать на фабрику. Позже наше положение, видимо, улучшилось, потому что родители не стали продавать лавку.
В конце месяца у меня разболелся зуб, пораженный кариесом, и мать впервые повела меня к местному дантисту. Перед тем как брызнуть холодной водой на десну и сделать укол, он спросил: «Тебе больно, когда ты пьешь сидр?» Сидр пили во время еды рабочие и крестьяне – взрослые и дети. Дома, как и пансионерки моей школы, я пила только воду, изредка разбавленную гранатовым соком. (Неужели от меня не ускользала ни одна фраза, которая напоминала о месте, занимаемом нами в обществе?).
Осенью, в субботу после занятий, мне и еще двум-трем девочкам поручили убирать класс под присмотром м-м Б., преподавательницы шестого класса. Орудуя пыльной тряпкой, я забылась и во весь голос запела любовную песенку «Болеро», но стоило м-м Б, меня подбодрить, как я тут же осеклась. Я была уверена, что она только и ждет, когда я проявлю свою вульгарность, чтобы безжалостно меня высмеять.
Можно и не продолжать. Стыд порождает лишь еще более жгучий стыд.
Вся наша жизнь вызывала у меня только чувство стыда. Писсуар во дворе, общая спальня, где из-за тесноты я спала вместе с родителями, как это было принято в нашей среде, материнские оплеухи, ее грубая брань, пьяные клиенты и бедные соседские семьи, покупающие в долг. Уже одна моя привычка безошибочно определять степень опьянения клиентов или тушенка на обед в конце месяца выдавали мою принадлежность к классу, который частная школа игнорировала с брезгливым высокомерием.
Стыд стал для меня чем-то естественным, словно он был неотделим от профессии моих родителей-лавочников, их денежных затруднений, фабричного прошлого, нашего способа существования. Той воскресной сцены, что произошла в июне. Я сжилась с этим мучительным чувством стыда. Я уже больше не замечала его. Стыд стал частью моего «я».
Я всегда жаждала рассказывать в своих книгах о самом сокровенном, не предназначенном для чужих глаз и пересудов. И как же мне придется сгорать от стыда, если в своей книге я смогу передать всю драму, пережитую мною в двенадцать лет.
Лето 96-го года подходит к концу. Когда я еще только обдумывала этот текст, на рынке в Сараево прогремел взрыв: десятки человек погибли и сотни – ранены. В газетах писали: «Нас душит стыд». Красивая фраза и ничего больше. Сегодня родилась, а назавтра – забылась. В одной ситуации – уместная (Босния), а в другой – неуместная (Руанда). И сегодня все уже позабыли кровь, пролитую в Сараево.
Работая над этой книгой, я все эти месяцы не пропускала ни одного упоминания, хоть как-то связанного с 1952-м годом, о чем бы ни шла речь – о появившемся тогда фильме, книге или смерти известного артиста. Мне казалось, все это подтверждает реальность того давнего года и моего детского существа. В книге Шохей Ука «Огни», появившейся в Японии в 1952 году, я прочитала: «Все это, быть может, иллюзия, но я не могу сомневаться в том, что заново почувствовал. Воспоминание – это тоже опыт».
Я вглядываюсь в фотографию, сделанную в Биаррице. Отец умер двадцать девять лет назад. Меня ничто не роднит с девочкой, что смотрит на меня с фотографии – кроме июньской воскресной сцены, которая неотступно преследует эту девочку, а меня побудила написать эту книгу. Та страшная сцена единственное, что роднит меня с маленькой девочкой, потому что пройдет еще два года, прежде чем я познаю оргазм, полнее всего раскрывающий мое естество и неизменность моего существа.
Октябрь 96-го.