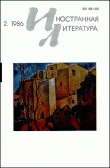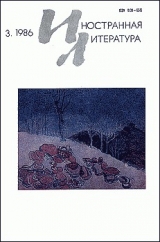
Текст книги "Место в жизни"
Автор книги: Анни Эрно
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
По воскресеньям банный день; утром заглядывали в церковь на мессу; после обеда игра в домино или прогулка на машине. По понедельникам выносили мусор, по средам приезжал поставщик спиртного, по четвергам привозили продукты и так далее. Летом закрывали лавку на целый день, чтобы навестить друзей – семью железнодорожника, и еще на один день – для поездки на богомолье в Лизьё. Утром посещали монастырь кармелиток, собор, диораму, обедали в ресторане. После обеда ехали в Бюиссоне и к морю, в Трувиль и Довиль. Отец ходил босым по воде, закатав брюки, мать – тоже приподняв немного юбку. Перестали так делать, когда мода на это прошла.
Каждое воскресенье полагалось есть что-нибудь вкусное.
Отныне жизнь отца текла чередой однообразных дней. Но он был уверен, что счастливее жить нельзя.
В то воскресенье он отдыхал после обеда. Я вижу, как он идет перед окошком амбара. В руках у него книга, которую он убирает в ящик, оставленный у нас знакомым моряком. Заметив меня во дворе, издает смешок. Книга была непристойной.
Одна из моих фотографий: я снята одна во дворе, справа от меня дворовые постройки, новые прилепились к старым. У меня явно нет ни малейшего представления об эстетике. Но я уже знаю, как выгоднее подать себя: стою в три четверти оборота к аппарату, чтобы скрыть обтянутые узкой юбкой бедра, и так, чтобы была видна грудь; на лоб спущена прядь волос. Я улыбаюсь, чтобы выглядеть симпатичнее. Мне шестнадцать лет. В нижней части фотографии тень отца, сделавшего снимок.
Я готовила уроки, слушала пластинки и читала всегда у себя в комнате. Спускалась вниз только к столу. Мы ели молча. Я никогда дома не смеялась. Я «иронизировала». Это было время, когда все, окружавшее меня, мне стало чуждо. Я понемногу перебираюсь в мир мелких буржуа, хожу на их вечеринки, куда допускают при одном, но трудном условии – не быть наивной дурочкой. Все, что я раньше любила, теперь, мне кажется, отдает деревенщиной: Луи Мариано, романы Мари-Анн Демаре, Даниэль Грей, губная помада и выигранная на ярмарке кукла, что восседает у меня на кровати в платье с широким, расшитым блестками подолом. Даже мнения людей моего окружения мне кажутся нелепыми и предвзятыми, как например: «Без полиции не обойтись», или еще: «Пока не отслужишь в армии, мужчиной не станешь». Мир повернулся ко мне иной стороной.
Я читала «настоящую» литературу, переписывала фразы и стихи, которые, по моему разумению, отражали мою «душу», невысказанную суть моего бытия, такие как: «Счастье – это бог, идущий с пустыми руками...» (Анри де Ренье).
Отец для меня перешел в разряд простых, немудреных людейили добрых малых. Он уже не осмеливался рассказывать мне о своем детстве. И я не обсуждала с ним больше свои занятия. Они были для него непостижимы, за исключением латыни, на которой он в прошлом читал молитвы, и в отличие от матери он не желал делать вид, что интересуется ими. Он сердился, когда я жаловалась, что слишком много работы, или критически отзывалась о занятиях. Ему не нравились такие словечки, как «училка», «шеф» и даже «книжонка». Он вечно боялся, что я ничего не добьюсь, а может быть, отец и хотел этого.
Он раздражался, видя, как я целый день погружена в книги; им он приписывал мою угрюмость и плохое настроение. Если он замечал по вечерам свет под моей дверью, то уверял, что я порчу здоровье. Занятия представлялись ему неизбежным страданием ради того, чтобы добиться хорошего положения и не выйти замуж за фабричного. Но ему казалось странным то, что я люблю просиживать над книгами. Разве это жизнь в юном возрасте! Иногда он, кажется, думал, что я несчастна.
Перед родными и посетителями кафе он испытывал неловкость, почти стыд, что я в семнадцать лет еще не зарабатываю себе на жизнь; вокруг нас все девушки моего возраста работали в конторах, на заводах или помогали родителям за прилавком. Он боялся, как бы меня не сочли за лентяйку, а его – за гордеца. Словно извиняясь, говорил: «Ведь ее никто не заставлял, это у нее заложено с детства». Говорил, что я «хорошо занимаюсь», никогда – что я «хорошо работаю». Работать означало только работать руками.
Занятия для него не имели никакой связи с обыденной жизнью. Он мыл салат только один раз, и в нем часто попадались слизняки. И был возмущен, когда я, твердо усвоив в третьем классе правила гигиены, предложила мыть салат по нескольку раз. Однажды он был безмерно поражен, увидев, что я говорю по-английски с человеком, которого подвез на своем грузовике один из посетителей кафе. Он не мог поверить, что я выучила иностранный язык, не побывав в стране.
К этому времени у него стали появляться приступы гнева, редкие, но с каким-то особым озлоблением. С матерью меня связывали общие проблемы. Ежемесячные боли в животе, выбор бюстгальтеров, косметика. Она брала меня с собой за покупками в Руан, на улицу Больших Часов [10]10
Крупная торговая улица Руана.
[Закрыть]и водила есть пирожные в Перье, где подавали маленькие вилочки. Она пыталась употреблять мои выражения: кретин, мастак и тому подобное. Мы прекрасно обходились без отца.
Спор за столом возникал из-за пустяков. Я считала, что всегда права, так как он не умеет спорить. Я делала ему замечания по поводу того, как он ест или говорит. Мне было бы стыдно упрекнуть его в том, что он не в состоянии отправить меня отдыхать во время каникул, но была уверена, что имею право изменить его манеры. Он, вероятно, предпочел бы иметь другую дочь.
Как-то заявил: «Книги и музыка нужны тебе. Мне они ни к чему, я обойдусь без них».
В остальном он, жил спокойно. Когда я возвращалась из школы, он сидел на кухне, у двери, выходившей в кафе, и читал «Пари-Норманди», сгорбившись и вытянув руки на столе по обе стороны газеты. Он поднимал голову: «А вот и ты, дочка».
– Ужасно хочу есть!
– Ну, это не страшно. Возьми чего-нибудь, поешь.
Он был рад, что может, по крайней мере, кормить меня. Мы неизменно говорили друг другу одни и те же слова, как когда-то давно, когда я была маленькая.
Мне казалось, что он больше ничего не может мне дать. Ни его высказывания, ни его мнения не годились на уроках французского языка, или филологии, или же в гостиных моих школьных подруг с диванами из красного бархата. Летом, через открытое окно моей комнаты, я слышала стук его лопаты, выравнивающей перевернутые пласты земли.
Я пишу, возможно, потому, что нам уже нечего было сказать друг другу.
Вместо развалин, которые мы застали, приехав в И..., в центре города теперь выросли небольшие дома кремового цвета с современными магазинами, которые освещались даже ночью. По субботам и воскресеньям вся молодежь округи болталась на центральных улицах или же смотрела телевизионные передачи в кафе. Женщины из нашего района набивали корзины провизией на воскресенье в больших центральных продовольственных магазинах. Мой отец, наконец, отштукатурил весь фасад дома и приладил неоновую вывеску в то время, как другие владельцы кафе, не отстающие от моды, снова восстанавливали нормандские фахверковые дома с ложными балками и вешали старинные фонари. Вечерами он сидел сгорбившись и подсчитывал выручку. «Давай им товар хоть бесплатно, все равно не идут». Каждый раз, когда в И... открывался новый магазин, отец отправлялся на велосипеде посмотреть на него.
Родители смогли, наконец, существовать без ссуд. Наша округа пролетаризировалась. Вместо средних служащих, переселившихся в новые дома с ванными комнатами, появились малообеспеченные люди, семьи молодых рабочих, многодетные, ожидающие переселения в дешевые муниципальные дома. «Заплатите завтра, не в последний раз видимся». Старички из богадельни поумирали, новому пополнению запрещалось возвращаться домой пьяными, но им на смену пришла другая клиентура – люди, заходившие в кафе от случая к случаю, не такие веселые, долго не засиживающиеся, но исправно платящие. Казалось, наше заведение стало теперь вполне благопристойным.
Отец приехал за мной к закрытию детского лагеря, где я работала руководительницей. Мать поаукала мне издалека, и я их заметила. Отец шел, сутулясь и наклонив голову от солнечных лучей. Его торчавшие покрасневшие уши бросились в глаза – отца явно только что подстригли. Стоя на тротуаре перед собором, они говорили между собой очень громко, споря о том, в какую сторону ехать обратно. Они походили на людей, редко выбирающихся из дому. В машине я заметила у отца желтые пятна под глазами и на висках. Впервые в жизни я провела два месяца вдали от дома, среди молодежи, наслаждающейся свободой. Отец был стар и морщинист. Я почувствовала, что не имею права поступать в университет.
Вначале у него появилось нечто неясное, неприятное ощущение после еды. Он принимал магнезию, страшась вызвать врача. На рентгене в Руане у него, однако, установили полип в желудке, который следовало немедленно удалить. Мать без конца упрекала отца в том, что он беспокоится по пустякам. Он же чувствовал вину из-за того, что лечение обойдется дорого. (Торговцы тогда еще не пользовались социальным страхованием.) Он говорил: «Стряслось же такое».
После операции он оставался в больнице совсем немного и потом медленно поправлялся дома. У него уже не было прежних сил. Опасаясь расхождения швов, он не мог больше поднимать ящики или работать в огороде по нескольку часов подряд. Теперь уже мать бегала без конца из подвала в магазин, работая за двоих, поднимая ящики с товарами и мешки с картофелем. В пятьдесят девять лет отец утратил свою мужскую гордость. «Я уже ни на что не годен», – говорил он матери, вероятно имея в виду не только работу.
Но ему хотелось вернуться к нормальной жизни, приспособиться к новому положению. Он стал искать, что для него подходит. Прислушивался к себе. Питание превратилось в сложнейшую проблему; пища считалась полезной или вредной в зависимости от того, переваривалась ли она нормально или «долго напоминала о себе». Он тщательно нюхал бифштекс или мерлана, прежде чем положить их на сковородку. Вид моей простокваши был ему противен. В кафе, во время обедов с родными, он рассказывал о том, что обычно ест, обсуждал с родичами достоинства домашних супов по сравнению с концентратами в пакетах и тому подобное. С приближением шестого десятка все вокруг говорили примерно о том же.
Он стал себя баловать. Приносил домой сервелат или кулек серых креветок. Жаждал радостных ощущений, которые с первыми же глотками часто прекращались. И в то же время делал вид, что ему ничего не хочется: «Я съем только полкусочка ветчины» или: «Дайте мне только полстаканчика» – так постоянно. Появились причуды, так, например, он снимал бумагу с сигарет «Голуаз», жалуясь на ее плохой вкус, и осторожно обертывал табак папиросной бумагой «зиг-заг».
По воскресеньям, чтобы не засиживатьсяна месте, родители выезжали прокатиться вдоль Сены или по местам, где он когда-то работал. Отец ходил, опустив руки вдоль туловища, вывернув сжатые кулаки наружу или соединив их за спиной. На прогулках он вечно не знал, куда девать свои руки. Вечером, в ожидании ужина, зевал: «По воскресеньям устаешь больше, чем в остальные дни».
Интересовался политикой, особенно беспокоился, чем все это кончится– речь шла об алжирской войне, генеральском путче или покушениях оасовцев; с фамильярностью сообщника разглагольствовал о большом Шарле [11]11
Речь идет о генерале де Голле.
[Закрыть].
Я поступила в педагогическое училище в Руане на учительское отделение. Меня там кормили (чрезмерно), обстирывали и даже чинили обувь. Все бесплатно. Отец с особым уважением относился к системе полного обеспечения учащихся. Государство сразу же предоставило мне место в жизни. Мой уход из училища его обескуражил. Он не понимал, как я могу бросить из-за какой-то личной свободы такое верное место, где я жила припеваючи. Я надолго уехала в Лондон. Издалека отец стал казаться мне средоточием абстрактной нежности. Я стала жить самостоятельно. Мать присылала мне отчеты о делах нашей округи. У нас холодно, надеемся, что ненадолго. В воскресенье ездили навестить друзей в Гранвиле. Умерла матушка X., ей шестьдесят лет – совсем еще не старая. Мать не умела писать в шутливом тоне на том языке, который и так давался ей с трудом. Писать же свободно, как говорила, было для нее еще труднее, этому она так и не научилась. Отец только подписывался. Я в ответ тоже лишь перечисляла факты. Любую вычурность стиля они восприняли бы как преграду, отделявшую их от меня.
Я вернулась домой, потом уехала снова. Готовила в Руане работу по филологии на степень лиценциата. Родители ссорились между собой реже, отпуская по привычке все те же желчные замечания: «Из-за тебя у нас сегодня не хватит оранжада», «Что за сказки ты там рассказываешь кюре, постоянно болтаясь в церкви?». Отец еще вынашивал планы привести в порядок лавку и дом, но все меньше думал о том, чтобы все переделать заново ради привлечения новой клиентуры. Довольствовался той, которую отпугивали сверкающие чистотой продовольственные магазины центра, где продавщицы острым взглядом оценивали, как вы одеты. Никаких честолюбивых замыслов. Смирился с мыслью, что лавка продержится до тех пор, пока жив он сам.
Теперь он решил немного попользоваться радостями жизни. Вставал после матери, полегоньку работал в кафе или на огороде, прочитывал досконально всю газету и заводил долгие разговоры с посетителями. О смерти говорил уклончиво, общими словами – «известно, что нас ожидает». Каждый раз, когда я приезжала домой, мать говорила: «Взгляни на отца, как сыр в масле катается!»
В конце лета, в сентябре, он ловит ос на кухонном окне носовым платком и бросает их в зажженную конфорку плиты. Осы корчатся, погибая в огне.
Ни беспокойства, ни радости – он смирился с тем, что я веду такую странную, ни на что не похожую жизнь: перевалило за двадцать и все еще за школьной партой. «Она учится на преподавателя». Преподавателя чего – посетители не спрашивали, само слово говорило за себя, он же никогда не мог запомнить. «Современная литература» звучало для него туманно, не то что преподавание математики или испанского языка. Боялся, как бы меня не сочли слишком избалованной, а их с матерью богатыми настолько, что позволили мне продолжить учебу. Он никогда бы не отважился признаться в том, что я получаю стипендию, – люди решили бы, что нам слишком повезло: государство платит мне за то, что я ничего не делаю. Ведь вокруг – вечная зависть и ревность, это в его положении ему ясно представлялось. Иногда я приезжала к ним в воскресенье утром, после бессонной ночи и спала до самого вечера. Ни слова упрека, почти одобрительное отношение, ведь имеет же девушка право немного развлечься; это доказывало, что я такая же, как другие. А быть может, имели смутное представление об интеллектуальном и буржуазном мире как о чем-то идеальном. Ведь когда дочь рабочего выходила замуж беременной, об этом знала вся округа.
Я приглашала в И... на летние каникулы одну или двух подруг по факультету, девушек без предубеждений, заверявших, что «самое главное в человеке – это душа». Ибо я, по примеру всех тех, кто хочет избежать снисходительного отношения к их семье, предупреждала: «Знаешь, у меня дома все просто». Отец был рад, что у нас в гостях молодые хорошо воспитанные девушки, много говорил с ними, стараясь из вежливости поддерживать разговор и живо интересуясь всем, что касалось моих подруг. Еда в доме превращалась в источник беспокойства: «Любит ли мадемуазельЖеневьева помидоры?» Он расшибался в лепешку. Когда я бывала в семьях моих подруг, то делила с ними их обычный образ жизни, который ни в чем не менялся из-за моего приезда. Я входила в их мир, который не боялся постороннего взгляда и был мне открыт, потому что я отвергла манеры, мнения и вкусы своего собственного мира. Придавая праздничный характер тому, что в тех кругах являлось всего лишь обыкновенным визитом, отец хотел оказать особую честь моим подругам и выдать себя за человека обходительного. На самом же деле обнаруживал свою отсталость, которую они не могли не видеть, когда он говорил: «Здравствуйте, мосье, как поживаем?»
Однажды с гордым видом: «Тебе за меня никогда не приходилось стыдиться».
Как-то в конце лета я привезла домой студента-социолога, с которым у меня была связь. Состоялся торжественный церемониал введения в семью, проходящий незаметно в современных обеспеченных кругах, где друзья появлялись и исчезали свободно. В честь приезда молодого человека отец надел галстук, сменил спецовку на воскресные брюки. Он ликовал, уверенный в том, что может рассматривать моего будущего мужа как сына, что, несмотря на разницу образования, у них, мужчин, есть нечто общее. Показал ему свой огород и гараж, который построил собственными руками. Он как бы приносил ему в дар свое умение работать в надежде, что парень, который любит его дочь, оценит его по достоинству. Самому же парню достаточно было быть хорошо воспитанным, это качество мои родители ценили превыше всего, оно казалось им наиболее трудно достижимым. Они не пытались выяснить, был ли он человеком мужественным, не пил ли, как сделали бы это в отношении рабочего. По их глубокому убеждению, знания и хорошие манеры являлись признаком внутреннего врожденного благородства.
Кажется, они ждали этого уже несколько лет – одной заботой меньше. Уверились в том, что я не выйду за кого попало и не стану непутевой. Отец хотел, чтобы его сбережения помогли встать на ноги молодому семейству, желая своей безграничной щедростью компенсировать разницу в культуре и возможностях между ним и его зятем. «Нам самим теперь нужно немного».
За свадебным столом в ресторане с видом на Сену он сидел, слегка откинув голову назад, положив обе руки на салфетку, расстеленную на коленях, и слегка улыбался неопределенной улыбкой, как обычно бывает, когда люди скучают в ожидании еды. Эта улыбка говорила и о том, что все здесь сегодня очень хорошо. На отце – синий костюм в полоску, сшитый на заказ, белая рубашка с запонками, надетыми первый раз в жизни. Моментальный снимок памяти. Я повернула голову в его сторону, продолжая смеяться, уверенная в том, что ему не весело.
После этого он видел нас все реже и реже. Мы жили в туристическом городке в Альпах, где мой муж занимал административной пост. Мы обтянули стены квартиры полотном из джута, подавали на аперитив виски и слушали по радио серию передач старинной музыки. При встрече с консьержкой ограничивались тремя вежливыми словами. Я постепенно входила в ту половину мира, для которой другая лишь фон. Мать писала: вы можете приехать, отдохнуть у нас дома, не смея сказать, приезжайте повидаться с нами. Я ездила к ним одна, умалчивая о причинах безразличия их зятя, причинах, о которых мы между собой не говорили, но которые я воспринимала как вполне естественные. Разве человеку, рожденному в буржуазной высокообразованной семье, постоянно иронизирующему, могло нравиться общество простых людей, любезность которых – им признаваемая – никогда не смогла бы заменить самого важного, чего, по его мнению, им не хватало, – остроумного разговора. В его семье, если кто-нибудь разбивал бокал, другой тут же восклицал: «Не трогать, он разбит!» (стихи Сюлли-Прюдона).
Это она всегда ждала меня по прибытии парижского поезда у выхода с перрона. Отнимала у меня чемодан: «Он для тебя слишком тяжел, ты не привыкла». В бакалейной лавке оказывалась пара покупателей, отец оставлял их на минуту, чтобы порывисто поцеловать меня. Я садилась на кухне, они оставались стоять, она – около лестницы, он – в проеме открытых дверей, ведущих в кафе. В это время дня солнце освещало столики, рюмки на стойке; иногда какой-нибудь посетитель, сидящий под его яркими лучами, слушал наш разговор. Вдали от них я представляла себе родителей иными, без их говора и жестов, как бы очищенными от всех грехов. Я снова слышала, как они говорят «ёна» вместо «она», как громко разговаривают. Я видела их такими, какими они были всегда, без той «сдержанности» поведения и правильных оборотов речи, которые казались мне теперь естественными. Я чувствовала, что отдалилась от себя самой.
Я вынимаю из сумки привезенный ему подарок. Он развертывает пакет с удовольствием. Флакон лосьона «после бритья». Смущение, смех, а для чего это? Потом: «От меня будет пахнуть, как от кокотки!» Но он обещает пользоваться им. Нелепая сцена неудачного подарка. Мне хочется плакать, как когда-то давно: «Он так никогда и не изменится!»
Они рассказывали о людях округи: одни поженились, другие умерли, третьи уехали из И... Я описывала нашу квартиру, секретер в стиле Луи-Филиппа, кресла красного бархата, дорогую систему проигрывателя с магнитофоном. Но отец вскоре переставал меня слушать. Он меня воспитал, чтобы я пользовалась предметами роскоши, о которых сам не имел понятия, и был рад за меня, но мебель Данлопийо [12]12
Модная мебель в 60-х годах.
[Закрыть]или старинный комод не представляли для него никакого интереса, разве лишь подтверждали, что я преуспела в жизни. Часто, обрывая мой рассказ, произносил: «Молодцы, что пользуетесь своими возможностями».
Я никогда не задерживалась слишком долго. Он вручал мне бутылку коньяка для мужа. «Ну да, приедет в следующий раз». Гордый тем, что ничего не показывает, умеет глубоко запрятать свою обиду.
В И... появился первый универсам и сразу привлек покупателей из рабочей среды со всего города – наконец-то можно делать покупки, ничего ни у кого не спрашивая. Но в маленькую бакалейную лавку продолжали заглядывать за пакетом кофе, который забыли купить в центре, за свежим молоком или за плиткой нуги по дороге в школу. Отец начинал подумывать о продаже лавки. Они обоснуются в соседнем доме, который им пришлось приобрести вместе с лавкой: две комнаты с кухней и подвал. Он заберет с собой хорошее вино и консервы. Заведет несколько кур, чтобы дома были свежие яйца. Они приедут навестить нас в Верхнюю Савойю. Он был рад, что получил, наконец, в шестьдесят пять лет право на социальное обеспечение. Возвращаясь из аптеки, садился за стол и с удовольствием наклеивал на бланк соцстраха этикетки от лекарств.
Ему все больше и больше нравилась жизнь.
С того времени, как я начала этот рассказ, прошло несколько месяцев. Я потратила на него много времени – вспоминать прошедшие события было значительно труднее, чем выдумывать. Память отказывалась подчиняться. Я не могла рассчитывать, что воспоминание придет само собой; в дребезжавшем колокольчике старой лавки, в запахе переспелых дынь я обнаруживала лишь себя и свои летние каникулы в И... Цвет неба, отражения тополей в Уазе, текущей совсем рядом, не наводили меня на воспоминания об отце. Я искала его образ в залах ожиданий вокзалов, в том, как там сидят и скучают люди, как они окликают своих детей, как прощаются на перронах. Я обнаруживала забытые приметы его места в жизни во встреченных случайно неизвестных мне людях, отмеченных неведомо для них самих признаками силы или унижения.
Я не почувствовала прихода весны. Мне казалось, что с начала ноября стоит все та же неизменная погода – прохладная и дождливая, ставшая чуть холоднее к середине зимы. Я не думала о конце книги. Теперь понимаю, что он близок. С июня началась жара. Утренний запах предвещает хорошую погоду. Скоро мне не о чем станет писать. Я хотела бы задержаться на последних страницах, сохранить их навсегда перед собой. Но больше невозможно возвращаться вспять, что-то подправить или добавить и даже просто задать себе вопрос, в чем состояло счастье. Я сяду на утренний поезд и приеду, как всегда, только к вечеру. На этот раз я привезу с собой их внука двух с половиной лет.
Мать ожидала у выхода с перрона, на ней – белая блузка, поверх жакет от костюма, на волосах, которые она больше не красит после моего замужества, платок. Ребенок, растерянный и утративший дар речи к концу длинного путешествия, покорно позволил себя поцеловать и взять за руку. Жара немного спала. Мать всегда ходит быстрыми мелкими шагами. Но тут она внезапно замедлила шаг, воскликнув: «Ах, ведь с нами топают маленькие ножки!» Отец ждал нас в кухне. Он показался мне постаревшим. Мать не преминула заметить, что накануне в честь приезда маленького внука он сходил в парикмахерскую. Последовала бестолковая сцена с какими-то восклицаниями, вопросами ребенку, ответа на которые никто не ждал, взаимными упреками в том, что бедного мальчика утомили, и, наконец, выражениями радости. Они выясняли, что ему больше нравится. Мать потащила его к банкам с конфетами, отец – в огород, посмотреть на клубнику, потом – на кроликов и уток. Они целиком завладели своим внуком, сами решая все, что относилось к нему, словно я все еще была маленькой девочкой, не способной заниматься ребенком. С сомнением воспринимали те принципы воспитания, которых я придерживалась: сон после обеда и никаких сластей. Мы обедали вчетвером за столом, стоявшим у окна, ребенок сидел у меня на коленях. Был прекрасный тихий вечер, из тех, когда хочется все простить и забыть.
В моей бывшей комнате еще стояла дневная жара. Родители поставили для мальчика маленькую кроватку рядом с моей. Я не смогла уснуть до двух часов ночи, пыталась читать – не получилось. Едва включила лампу у изголовья, как провод почернел, вспыхнула искра и лампочка перегорела. Лампа – стеклянный шар на подставке из мрамора с медным зайцем на задних лапах, передние лапы сложены. Когда-то она казалась мне очень красивой. Она, вероятно, уже давно испортилась. В доме никогда ничего не ремонтировали, были безразличны к вещам.
С этого момента наступает иное время.
Я проснулась поздно. В соседней комнате мать тихо разговаривала с отцом. Она объяснила мне, что на рассвете его вырвало, он не успел даже дойти до ведра. Она полагала, что это несварение желудка из-за съеденных накануне за обедом остатков курицы. Он беспокоился главным образом о том, подтерла ли она пол, и жаловался на боли где-то в груди. Его голос показался мне изменившимся. Когда мальчуган подошел к нему, он не обратил на него внимания, остался неподвижно лежать на спине.
Доктор поднялся прямо в спальню. Мать в это время обслуживала покупателей. Затем она тоже поднялась, и они вместе спустились в кухню. Внизу на лестнице доктор тихо произнес, что отца следовало бы отвезти в Руан в городскую больницу. Мать побледнела. С самого начала она мне говорила: «Вечно его тянет есть то, что ему нельзя», а подавая минеральную воду отцу: «Ты же сам знаешь, что у тебя капризный желудок». Она мяла в руках чистую салфетку, которой врач пользовался при осмотре, и как будто не понимала, отказывалась понять всю серьезность заболевания, которое мы поначалу не распознали. Доктор изменил тон – можно подождать до вечера, быть может, это всего лишь тепловой удар.
Я отправилась за лекарствами. Утро предвещало удушливую жару. Аптекарь узнал меня. На улице было чуть больше машин, чем в последний мой приезд, год назад. Все было совершенно таким же, как во времена моего детства, и оттого я не могла представить себе, что мой отец действительно болен. Я купила овощей для рагу. Посетители кафе обеспокоенно спрашивали, почему не видно хозяина, отчего он еще не встал, несмотря на прекрасную погоду. Они находили простые объяснения его недомоганию, приводя в пример собственное самочувствие: «Вчера в огороде было не меньше сорока градусов, я свалился бы с ног, если бы копался там столько, сколько он», или: «В такую жару чувствуешь себя погано, я вчера ничего не ел». Так же, как и моя мать, они, очевидно, считали, что отец заболел оттого, что вел себя, не считаясь с возрастом, за что наказан, и впредь так делать не должен.
Отправляясь днем спать, ребенок, проходя мимо постели больного, спросил: «Почему мосье лег бай-бай?»
Мать то и дело поднималась наверх, успевая между тем обслужить и покупателей. Когда раздавался звонок у дверей, я кричала ей снизу, как когда-то: «Тут пришли!» – чтобы она спустилась в лавку. Отец пил только воду, но его положение не ухудшилось. Вечером доктор больше о больнице не упоминал.
На другой день, когда мать или я спрашивали отца, как он себя чувствует, он с раздражением вздыхал или жаловался, что не ест уже двое суток. Доктор ни разу не пошутил, не сказал, как обычно: «Поперхнулся не с того конца, только и всего». Мне кажется, что, глядя, как он спускается вниз, я все время ждала, что он произнесет эту или какую-нибудь другую шутку. Вечером мать, опустив глаза, тихо проговорила: «Не знаю, что же теперь будет». Она пока не упоминала о возможной смерти отца. Еще накануне мы стали с ней вместе есть, вместе заниматься ребенком, не упоминая ни словом о болезни. Я ответила ей: «Там видно будет». Когда мне было лет восемнадцать, я иногда слышала от матери: «Если с тобой приключится несчастье... ты знаешь, что тебе придется делать». Не было необходимости уточнять, какое несчастье она имела в виду, мы обе знали, о чем идет речь, хотя никогда не произносили слова «забеременеть».
В ночь с пятницы на субботу дыхание отца стало тяжелым и прерывистым. Потом мы услышали очень сильное длительное урчанье, не похожее на дыхание. Оно было ужасно – мы не понимали, идет ли оно из легких или из кишечника, казалось, все внутри сообщается между собой. Доктор ввел ему транквилизатор. Отец успокоился. После обеда я укладывала в шкаф выглаженное белье. Из любопытства я вынула оттуда кусок розового тика, развернув его на краю постели. Отец приподнялся взглянуть, что я делаю, и сказал незнакомым голосом: «Это чтобы обтянуть твой матрац, наш мать уже переделала». Он потянул за одеяло, чтобы показать мне свой матрац. Впервые после приступа болезни он проявил интерес к чему-то вокруг него. Я вспоминаю этот момент: я думаю, что еще не все потеряно, его слова доказывают, что болезнь не так страшна, на самом же деле попытка отца установить связь с внешним миром означает, что он от него отдалялся.
После этого он со мной больше не говорил. Он находился в полном сознании, поворачивался, когда медсестра приходила делать укол, отвечал «да» или «нет» на вопросы матери: больно ли ему и не хочет ли он есть. Время от времени он заявлял (точно ключ к выздоровлению заключался именно в этом, а ему кто-то упорно отказывал): «Если бы я по крайней мере мог есть». Он уже не считал, сколько дней он не ест. Мать повторяла: «Немного посидеть на диете не вредно». Ребенок играл в саду. Я наблюдала за ним, пытаясь читать «Мандарины» Симоны де Бувуар. Я не далеко продвинулась – на одной из страниц этой толстой книги моего отца не станет. Посетители кафе по-прежнему спрашивали, как дела. Им хотелось знать, что произошло с отцом – инфаркт или солнечный удар; уклончивые ответы моей матери вызывали у них недоверие, им казалось, что от них что-то скрывают. Для нас название болезни не имело больше значения.