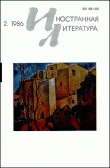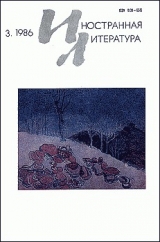
Текст книги "Место в жизни"
Автор книги: Анни Эрно
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Анни Эрно
Место в жизни
Я позволю себе объяснить: писать – это последнее прибежище после того, как ты предал.
Жан Жене
Я держала экзамены по педагогической практике на диплом преподавателя средней школы в одном из лицеев Лиона в районе Круа-Русс. Лицей новый, в помещениях, отведенных администрации и преподавателям, – зеленые растения, в библиотеке на полу – светло-бежевый палас. Я дожидалась, пока меня позовут провести испытательный урок в присутствии инспектора и двух ассистентов – опытных преподавателей литературы. Какая-то женщина правила письменные работы уверенно, без колебаний. Мне нужно было хорошо провести предстоящий урок, чтобы получить разрешение всю мою жизнь делать то же самое. В старшем классе, у математиков, я объясняла двадцать пять строчек – их надо было пронумеровать – из «Отца Горио» Бальзака. «Вы тянули учеников за уши», – упрекнул меня позже инспектор в кабинете директора лицея. Он сидел между двумя ассистентами – мужчиной и близорукой женщиной в розовых туфлях. Я – напротив. В течение пятнадцати минут он критиковал меня, хвалил и что-то советовал; я почти не слушала, теряясь в догадках, означают ли его слова, что я принята. Как по команде, все трое с торжественным видом разом встали. Инспектор протянул мне руку. Глядя прямо в лицо, сказал: «Поздравляю вас, мадам». Остальные тоже повторили, пожав мне руку: «Поздравляю», а женщина при этом улыбнулась.
До самой автобусной остановки я продолжала вспоминать об этой сцене со стыдом и бешенством. В тот же вечер написала родителям, что я теперь дипломированный преподаватель. Мать ответила, что они за меня очень рады.
Отец умер ровно через два месяца, день в день. Ему было шестьдесят семь лет, и они с матерью содержали небольшое кафе-лавку в тихом квартале, неподалеку от вокзала в И... (департамент Приморская Сена). Отец собирался через год оставить свое дело. Часто я на несколько секунд теряю представление о том, происходила ли сцена в лионском лицее до или после отцовской кончины, что было раньше – ветреный апрель, когда я ждала автобуса на остановке в Круа-Русс, или удушливый июнь, месяц смерти отца.
Это случилось в воскресенье, вскоре после полудня.
Мать появилась на верху лестницы, Она вытирала глаза салфеткой, которую, вероятно, прихватила с собой, поднимаясь в спальню после обеда. Бесцветным голосом она произнесла: «Все кончено». Я не помню, что произошло в последующие минуты. Вижу только глаза отца, устремленные вдаль, на что-то за моей спиной, и его верхнюю губу, обнажившую десны. Я, кажется, попросила мать закрыть ему глаза. У постели стояли также сестра матери и ее муж. Они предложили свою помощь – обмыть и побрить отца; надо было спешить, пока тело не остыло. Мать считала, что на отца следовало надеть костюм, который он обновил три года назад в день моей свадьбы. Все происходило очень просто, без криков и рыданий, только у матери глаза были красные и не проходила икота. Слова произносили самые обычные, не суетились. Дядя и тетя повторяли, что он «быстро отмучился» и «сильно изменился». Мать разговаривала с отцом, как будто он еще был жив или обрел какую-то особую форму жизни, похожую на жизнь новорожденных. Несколько раз она любовно назвала его: «Бедный мой папочка».
После бритья дядя подтянул тело и приподнял его, чтобы можно было снять рубашку, которую отец носил в последние дни, и сменить ее на чистую. Голова отца упала на обнаженную грудь, всю в мраморных прожилках. В первый раз я увидела отца голым. Мать быстро прикрыла его полами рубашки и с коротким смешком сказала: «Прикрой свой стыд, бедняжка». Когда отец был одет, ему в руки вложили четки. Не помню кто – мать или тетка – произнес: «Так он выглядит лучше», то есть чище, приличнее. Я закрыла ставни и разбудила сына, спавшего после обеда в соседней комнате, сказав ему: «Тише, дедушка лег бай-бай».
Дядя уведомил родственников, которые жили в И..., и они собрались. Поднявшись вместе с матерью и со мной в спальню, они выстаивали несколько минут молча у постели, а потом начинали перешептываться по поводу болезни и внезапной кончины отца. Когда они спустились вниз, мы предложили им выпить чего-нибудь в нашем кафе.
Я не помню, кто был дежурный врач, констатировавший смерть. За несколько часов лицо отца стало неузнаваемым. К вечеру я оказалась одна в его комнате. Луч солнца проникал сквозь ставни и падал на линолеум. Передо мной был уже не мой отец. Все его исхудавшее лицо занимал нос. В темно-синем костюме, слишком просторном для тела, он походил на спящую птицу. Его лицо с широко раскрытыми неподвижными глазами, каким оно было в час его смерти, изменилось до неузнаваемости. Но даже и таким я его никогда больше не увижу.
Мы стали обсуждать, когда и как хоронить отца, где отслужить мессу, кого известить о его смерти, что надеть на похороны. Мне казалось, что все эти приготовления не имеют к отцу никакого отношения. Просто какая-то церемония, на которой он будет отсутствовать по неизвестной причине. Мать была очень возбуждена и рассказала мне, что накануне ночью он потянулся поцеловать ее, хотя говорить уже больше не мог. Она добавила: «Знаешь, в молодости он был красивым парнем».
В понедельник появился запах. Я не представляла себе раньше, какой он бывает. Вначале легкий душок, а потом ужасный запах разлагающихся цветов, забытых в вазе с застоявшейся водой.
Мать прекратила торговлю только в день похорон. Иначе потеряла бы покупателей, а позволить себе этого она не могла. Покойный отец лежал наверху, она же внизу подавала посетителям анисовую водку и красное вино. Слезы, молчание, достоинство – так, по мнению благовоспитанных людей, должны вести себя близкие покойного. Моя же мать, как и все соседи, повиновалась таким житейским правилам, с которыми забота о достоинстве ничего общего не имеет. С воскресенья, когда умер отец, до среды, дня похорон, каждый из завсегдатаев кафе, едва усевшись за столик, кратко комментировал случившееся, понизив голос: «Странно, как это он быстро...» или произносил с напускной шутливостью: «Хозяин-то дуба дал!» Они рассказывали о том, что испытали, узнав новость: «Меня просто перевернуло» или: «Даже и сказать не могу, как это на меня подействовало». Им хотелось – из вежливости – показать матери, что не одна она убита горем. Многие вспоминали, как видели отца в последний раз здоровым, стараясь описать в деталях, последнюю встречу: где, когда, в какую погоду это было, о чем говорили. Вспоминая так подробно о днях, когда жизнь шла обычным ходом, они подчеркивали, насколько известие о смерти отца не укладывается у них в голове. Опять же из вежливости они просили позволения взглянуть на покойного. Мать, однако, разрешала это не всем. Она отделяла тех, кто испытывал подлинную симпатию, от тех, кого просто разбирало любопытство. Почти все завсегдатаи кафе получили разрешение проститься с отцом. Но жену соседа-подрядчика она не пустила: отец при жизни терпеть не мог и ее, и ее ротик куриной гузкой.
В понедельник прибыли работники похоронного бюро. Лестница, которая вела из кухни наверх в спальни, оказалась слишком узкой для гроба. Тело пришлось вложить в пластмассовый мешок и спускать, вернее, тащить вниз по ступенькам к гробу, установленному посередине кафе, которое на час закрыли. Спускали страшно долго, при этом работники бюро обменивались замечаниями, советуясь, как лучше тащить и разворачивать тело на поворотах.
В подушке, на которой с воскресенья покоилась голова отца, оказалась дыра. Пока тело оставалось в спальне, мы там не прибирали. Одежда отца все еще висела на стуле. Из кармана рабочих брюк, застегнутых на молнию, я вытащила пачку денег – выручку за прошлую среду. Я выбросила лекарства и отнесла одежду в корзину с грязным бельем.
Накануне похорон зажарили кусок телятины для поминального обеда. Было бы неудобно выпроваживать натощак людей, оказавших нам честь прийти на похороны. Вечером приехал мой муж, загорелый, смущенный траурной обстановкой, которая его не касалась. Более чем когда-либо он выглядел здесь чужим. Мы спали на единственной в доме двуспальной кровати – той, в которой умер мой отец.
В церкви много людей из нашей округи: домашние хозяйки, рабочие, освободившиеся на час от работы. Как и следовало ожидать, никто из «высокопоставленных», с которыми отец имел дело при жизни, не потрудился прийти, да и другие торговцы тоже. Отец не входил ни в какие общества, ни в чем никогда не участвовал – просто платил взносы в союз торговцев. На панихиде священник говорил о «честно прожитой трудовой жизни», о «человеке, который никогда никому не причинил вреда».
Начались рукопожатия. По ошибке ризничего, который руководил всей церемонией, – если только он сам не придумал повторного обхода, чтобы казалось, что присутствует больше народу, – к нам снова подходили те же люди, которые уже пожимали нам руки. На этот раз проходили быстро, без выражения соболезнований. На кладбище, когда покачивающийся на веревках гроб опускали в могилу, мать разразилась рыданиями, как во время мессы в день моей свадьбы.
Поминальный обед устроили в нашем кафе за составленными вместе столиками. Вначале сидели молча, потом постепенно разговорились. Мой сын, вставший после дневного сна, ходил среди приглашенных, раздавая им цветы или камешки – все, что нашел в саду. Брат отца, сидевший на другом конце стола, наклонился вперед, чтобы увидеть меня, и спросил: «Помнишь, как отец отвозил тебя на велосипеде в школу?» У него был такой же голос, как у отца. К пяти часам все разошлись по домам. Мы молча расставили по местам столики. Мой муж в тот же вечер уехал на поезде домой.
Я осталась еще на несколько дней с матерью, чтобы закончить необходимые формальности, связанные со смертью. Запись в семейную книгу в мэрии, оплата расходов в похоронной конторе, ответы приславшим соболезнования. Новые визитные карточки для матери – госпожа вдова А... Д... В голове пустота, никаких мыслей. Несколько раз, когда я шла по улице, всплывало: «Вот я и взрослая» (когда-то давно мать сказала мне: «Вот ты и взрослая девушка» – в связи с началом менструаций).
Мы собрали одежду отца, чтобы раздать ее нуждающимся. В его повседневном пиджаке, висевшем в подвале, я обнаружила бумажник. Там было немного денег, водительские права, а в том отделении, которое закрывалось, – фотография, вложенная в вырезку из газеты. На старой фотографии с зубчатыми краями – группа рабочих, в три ряда – все в кепках, смотрят прямо в объектив. Типичная фотография из книг по истории из серии «иллюстраций» забастовок или Народного фронта. В последнем ряду я разглядела отца с серьезным, почти обеспокоенным лицом. Многие улыбались. В газетной вырезке – результаты (по порядку занятых мест) вступительных экзаменов в женское педагогическое училище. На втором месте была я.
К матери вернулось прежнее спокойствие. Она, как и раньше, обслуживала посетителей. Только лицо у нее осунулось. По утрам, еще до открытия лавочки, она стала ходить на кладбище.
В воскресенье в поезде, возвращаясь домой, я старалась занимать сына, чтобы он вел себя тихо: пассажиры первого класса не любят шума и шаловливых детей. Внезапно с удивлением всплыло: «Я стала совсем буржуазной дамой» и еще: «Теперь уже поздно».
А потом, летом, ожидая своего первого назначения, почувствовала: «Я должна все это объяснить». Я имею в виду – написать об отце, о его жизни и о том расстоянии, которое нас разделяло, когда я была подростком. Расстояние классовое, но какое-то особое, у которого нет названия. Как любовь в разлуке...
Тогда я начала писать роман, в котором отец был главным героем. К середине повествования возникло отвращение к написанному.
Теперь я знаю, что такой роман невозможен. Чтобы рассказать о жизни в нужде, я не вправе ни прибегать к художеству, ни писать что-то «увлекательное» или «трогательное». Я соберу слова, поступки, вспомню вкусы моего отца, знаменательные события в его жизни, все существенные факты его бытия, которое я с ним делила.
Ни поэтических воспоминаний, ни торжествующей иронии. Из-под пера сами собой выходят обыденные фразы, такие же, как некогда в письмах к родителям, в которых я кратко извещала их о новостях.
Мой рассказ начинается за несколько месяцев до наступления двадцатого века в одной деревне района Ко [1]1
Север Нормандии. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть], в двадцати пяти километрах от моря. Те, у кого не было земли, нанимались к крупным фермерам этого края. Поэтому мой дед работал на одной из ферм извозным. Летом он еще косил сено и убирал урожай. Всю свою жизнь с восьми лет он не знал ничего другого. В субботу вечером приносил жене все заработанные деньги, а она выдавала ему кое-что на воскресные развлечения – пусть сыграет в домино и выпьет стаканчик вина. Он возвращался домой пьяным, мрачнее прежнего. За любой пустяк раздавал детям подзатыльники. Характер у него был тяжелый, никто не отваживался перечить ему. Его жене доводилось смеяться не часто. Только озлобленность и поддерживала деда в жизни: она давала ему силу переносить нищету и верить, что он настоящий мужчина. Он приходил в особую ярость, когда видел кого-нибудь из домашних за чтением книги или газеты. У него самого не было времени научиться читать и писать. Но считать он умел.
Я видела своего деда только один раз, в богадельне, где он умер три месяца спустя после нашей встречи. Отец вел меня за руку по огромной палате, пробираясь через два ряда коек к маленькому старичку с красивыми седыми вьющимися волосами. Дед все время смеялся, разглядывая меня с ласковым выражением лица. Отец сунул ему украдкой четвертинку спиртного, которую дед запрятал под одеяло.
Каждый раз, когда мне рассказывали о нем, начинали со слов: «Он не умел ни читать, ни писать», словно без этого нельзя было понять ни его жизни, ни его характера. Моя бабушка, однако же, выучилась читать и писать в школе у монашек. Как все женщины в их деревне, она ткала на дому для какой-то фабрики в Руане, сидя в душной комнате, свет в которую проникал сквозь узкие оконца, чуть шире бойниц. Иначе ткань могла бы выгореть от солнца. Она содержала в чистоте и себя, и свое хозяйство, а это больше всего ценилось в деревне, где соседи пристально следили, хорошо ли выстирано и починено белье, которое сушится на веревке, и точно знали, опорожняется ли ежедневно поганое ведро. И хотя дома были отгорожены друг от друга живой изгородью или валом, ничто не ускользало от взора людей: ни час, когда мужчины возвращались из бистро, ни неделя, когда на ветру должны были развеваться выстиранные марлевые салфетки.
Моя бабушка отличалась даже определенным достоинством: по праздникам она надевала картонный турнюр и не мочилась стоя, не подняв юбки, как это делали удобства ради большинство женщин в деревне. К сорока годам, после рождения пятерых детей, ее начали одолевать мрачные мысли, и она по целым дням не произносила ни слова. Позднее ревматизм поразил у нее руки и ноги. Чтобы вылечиться, она ходила к святому Рикье или Гильому-пустыннику, терла их статуи тряпками, которые прикладывала затем к больным местам. Постепенно она перестала ходить совсем. Приходилось нанимать повозку с лошадью, чтобы возить ее по святым местам.
Жили они в низком доме, крытом соломой, с земляным полом. Пол сбрызгивали водой и подметали – вот и вся уборка. Питались овощами из огорода, яйцами из курятника, маслом и сметаной, которые хозяин ссужал моему деду. За несколько месяцев загодя думали о свадьбах и конфирмациях, по три дня до этого почти не ели, чтобы взять свое за праздничным столом. Как-то в деревне умер, задохнувшись от рвоты, выздоравливавший после скарлатины ребенок – его напичкали кусочками курицы. Летом по воскресеньям ходили на «ассамблеи», где играли в разные игры и танцевали. Однажды мой отец соскользнул с высокого шеста, так и не сумев снять призовую корзину с продуктами. Дед долго злился на него: «Вот индюк бестолковый!»
Хлеб непременно крестили, ходили к мессе, причащались на страстной неделе. Религия, так же как и чистоплотность, придавала им достоинство. По воскресеньям они принаряжались, пели «Верую» вместе с богатыми фермерами, бросали монеты на блюдо. Отец ребенком пел в церковном хоре, он любил ходить с кюре причащать умирающих. Все встречные мужчины снимали перед ним шапки.
У детей вечно водились глисты. Чтобы выгнать их, пришивали с внутренней стороны рубашки, у пупка, маленький кисет с чесноком. Зимой затыкали ватой уши. Когда я читаю Пруста или Мориака, мне трудно поверить, что они пишут о времени, когда мой отец был ребенком. Его детство – средневековье.
До школы надо было идти два километра пешком. По понедельникам учитель проверял у детей ногти, белье, волосы – нет ли насекомых. На уроках был строг, за провинность бил железной линейкой по пальцам, но его уважали. Некоторые из его учеников по окончании оказывались в числе лучших в кантоне; один или двое даже попали в педагогическое училище. Мой отец часто пропускал занятия из-за сева или уборки: то собирал яблоки, то вязал в снопы сено или солому. Когда он вместе со старшим братом снова приходил в школу, учитель орал: «Ваши родители, видно, хотят, чтобы вы прозябали в нищете, как и они!» Но отец научился читать и писать без ошибок. Ему нравилось учиться. (Тогда говорили «учиться», как говорят «пить» или «есть».) Рисовать – тоже: головы животных. В двенадцать лет он заканчивал начальную школу. Но мой дед забрал его и отвел работать на ту же ферму, где работал сам. Кормить отца больше без заработка не могли. «Об этом даже не задумывались – все поступали так же».
Учебник по чтению у отца назывался: «Путешествие по Франции двух детей». В нем встречались такие странные фразы:
Учиться быть всегда довольным своей судьбой(с. 186, 326-е издание).
Самое прекрасное в мире – это милосердие бедняка.(с. 11).
Спаянная любовью семья владеет лучшим из богатств мира(с. 260).
Самое приятное в богатстве то, что оно позволяет облегчать нищету других(с. 130).
И вершина всего – совет детям бедняков:
Деятельный человек не теряет ни минуты времени и в конце дня видит, что каждый час ему что-то принес. Ленивец, наоборот, всегда откладывает дело на потом; он всюду спит или дремлет – в постели, за столом или за разговором; день приходит к концу, а он ничего не сделал, проходят месяцы и годы, а он так и не сдвинулся с места.
Это – единственная книга, о которой мой отец сохранил воспоминание: «Все казалось нам сущей правдой!»
Ему пришлось доить коров в пять часов утра, чистить конюшни, перебинтовывать ноги у лошадей и снова доить коров вечером. За это его кормили, обстирывали, обеспечивали жильем и давали немного денег. Он спал над хлевом на матраце без простыни. Внизу коровы постукивали во сне копытами о землю. Он вспоминал дом своих родителей, который был теперь для него заказан. Иногда у хлева появлялась одна из его сестер, работавшая служанкой: она молча стояла, сжимая в руках узелок. Дед ругался, а она не могла толком объяснить, почему снова сбежала со своего места. В тот же вечер он, распекая ее, отводил обратно к хозяевам.
Мой отец был веселым пареньком, любил игры, с готовностью рассказывал разные истории, учинял всякие проделки. На ферме у него сверстников не оказалось. По воскресеньям они с братом, тоже скотником, помогали служить мессу. Отец ходил на «ассамблеи», танцевал, встречался со школьными товарищами. Мы были по-своему счастливы. А как же иначе?
Он оставался подсобным на ферме до призыва в армию. Рабочих часов никто не считал. Фермеры скупились на еду. Однажды старику скотнику положили кусок мяса, шевелившийся в тарелке – так много в нем было червей. Терпению настал конец. Старик встал и заявил, чтобы с ними больше не поступали как с собаками. Мясо заменили. История «Броненосца „Потемкина“»не повторилась.
Коровы утром, коровы вечером, а днем под моросящим осенним дождем засыпка яблок из бочонков в прессы, сбор куриного помета огромными лопатами. Жарко, и хочется пить. И немудреные развлечения: коврижка в день богоявления, альманах Вермо [2]2
Популярное приложение к календарю с различными наставлениями, предназначенными для крестьян.
[Закрыть], жареные каштаны, «масленица с блинами побудь с нами», шипучий сидр, лягушки, надутые через соломинку. Постоянная смена времен года, простые радости и молчание полей. Мой отец обрабатывал чужую землю, он не ведал ее красоты; величие Матери-Земли и прочие легенды были не для него.
Во время войны четырнадцатого года на фермах остались лишь молодые ребята вроде отца да старики. Их не тронули. Отец следил по карте, повешенной в кухне, за продвижением войск, открыл для себя фривольные журналы, ходил в кино в И... Весь зал читал вслух подписи под кадрами, большинство не успевало прочесть до конца. Он щеголял жаргонными словечками, которые в дни увольнений приносил из армии брат. Женщины в деревне следили каждый месяц за сушившимся бельем односельчанок, чьи мужья ушли на фронт, проверяя до последней тряпочки, все ли на месте.
Война многое изменила. В деревне появилась игра в йо-йо [3]3
Деревянный диск с дыркой посредине, насаженный на веревку, прикрепленную к двум палочкам.
[Закрыть], а в кафе вместо сидра распивали теперь вино. На вечеринках девушки обращали все меньше и меньше внимания на пропахших потом деревенских парней.
Армия открыла отцу другой мир. Париж, метро, один из городов в Лотарингии; военная форма всех уравнивала, парни в полку собрались с разных концов страны, казарма была побольше некоторых имений. Вместо проеденных сидром зубов отцу бесплатно поставили искусственную челюсть. Он стал часто фотографироваться.
По возвращении из армии отец не захотел заниматься больше «культурами», так он называл работу на земле; другое – духовное – значение слова «культура» ему было ни к чему.
Иного выбора, кроме работы на заводе, конечно, быть не могло. По окончании войны в И... стали появляться промышленные предприятия. Отец поступил на канатный завод, куда принимали даже подростков с тринадцати лет. Работа чистая, в закрытом помещении. Раздельные туалеты и раздевалки для мужчин и женщин, нормированный рабочий день. Вечером после гудка он был свободен, и от него не разило хлевом. Он выбрался из первого круга ада. В Руане или Гавре нашлась бы работа, за которую платили больше, но пришлось бы бросить семью, пригвожденную к постели мать, тягаться с городскими умниками. После восьми лет, проведенных среди скота и полей, у него не хватило смелости.
На работе он слыл серьезным парнем: ни лентяй, ни пьяница, ни гуляка. Вместо бистро – кино и чарльстон. Начальство к нему благоволило: в профсоюз не входил, политикой не интересовался. Он купил себе велосипед, каждую неделю откладывал деньги.
Моя мать, вероятно, оценила его достоинства, когда встретилась с ним на канатной фабрике, куда поступила, бросив работу на маргариновом заводе. Отец – высокий брюнет с голубыми глазами – держался очень прямо и немного «мнил о себе». «Мой муж никогда не был просто рабочим».
Мать рано потеряла своего отца. Бабушка, чтобы вырастить последних из своих шестерых детей, ткала на дому, стирала и гладила на чужих. По воскресеньям мать с сестрами позволяли себе лакомство – кулек крошек от пирожных. Отец смог встречаться с матерью не сразу; бабушка не хотела, чтобы у нее забирали дочерей слишком рано: с каждой дочерью уходила из дома изрядная часть заработка.
Сестры моего отца, работавшие служанками в буржуазных домах, смотрели на мать свысока. Фабричных девушек считали неряхами и гуленами. В деревне не нравились манеры матери. Ей хотелось подражать моде по журналам; она одна из первых остригла волосы, носила короткие платья, красила ресницы и ногти. Громко смеялась. На самом же деле она никогда не позволяла парням лапать себя, по воскресеньям ходила к мессе и собственноручно сделала мережку на простынях и вышила свое белье. Она была спорой на работу и к себе взыскательной. Одно из ее любимых выражений: «Я не хуже других».
На свадебной фотографии у моей матери платье не закрывает и колен. Она пристально глядит в аппарат из-под вуали, которая прикрывает ее лоб и спускается до глаз. Она похожа на Сару Бернар. Отец стоит рядом с ее стулом. У него небольшие усы и стоячий, сильно накрахмаленный воротничок. Ни он, ни она не улыбаются.
Мать всегда стыдилась любви. Они не допускали ни ласки, ни нежности друг с другом. При мне отец целовал мать, быстро чмокнув ее, как по обязанности, в щеку. Он частенько говорил ей вполне обычные на вид вещи, глядя на нее в упор; она опускала глаза и сдерживала смешок. Когда я выросла, то поняла, что он намекал на их интимные отношения. Он частенько напевал «Расскажите мне о любви», мать же потрясающе исполняла на семейных торжествах романс «Возьми меня, люби меня».
Он уяснил себе главное условие, чтобы не впасть в бедность, как его родители, – не забываться, имея дело с женщиной.
Они сняли квартиру в И..., в одном из домов на проезжей улице, обратной стороной выходившем на общий двор. Две комнаты внизу и две – на втором этаже. Осуществилась заветная мечта матери о спальне на втором этаже. На отцовские сбережения они приобрели все необходимое: столовый гарнитур, для спальни – мебель с зеркальным шкафом. Родилась девочка, и мать оставила работу. Но дома она скучала. Отец нашел себе место у кровельщика, который лучше платил, чем на канатной фабрике.
В тот день, когда отца принесли домой без памяти – он свалился со стропил, которые чинил, но отделался всего лишь сильным сотрясением мозга, – у матери возникла идея приобрести лавочку. Они принялись экономить, нажимая на хлеб и колбасу. Из всех возможных вариантов им подходила лишь лавка, не требовавшая вложения крупных средств и особого умения вести дело – просто закупка и перепродажа товаров. Лавка, которую продавали бы недорого из-за того, что на ней много не заработаешь. По воскресеньям они ездили на велосипеде смотреть небольшие бистро в городе или галантерейно-бакалейные. лавочки в деревне. Наводили справки, нет ли поблизости конкурентов, боясь, что их обведут вокруг пальца, что они все потеряют и им придется снова вернуться на завод.
Л... в тридцати километрах от Гавра. Зимой здесь с утра до вечера стоят туманы, особенно в нижней части города, вдоль реки – в Долине. Это рабочее гетто, построенное вокруг текстильной фабрики – одной из самых крупных в районе, – принадлежавшей вплоть до пятидесятых годов семье Дежанте, позже фабрику купил Буссак. Закончив школу, девушки здесь становились ткачихами, затем приносили своих детей к шести часам утра в ясли. На той же фабрике работали и три четверти всех мужчин. В самой низине – небольшое кафе, совмещенное с бакалейной лавочкой, единственное в Долине. Потолок нависал над головой так, что до него можно было дотянуться рукой. Комнаты темны настолько, что даже в полдень зажигали электричество; крошечный дворик с уборной, из которой нечистоты спускали прямо в реку. Родители понимали убожество обстановки, но нужно же было как-то жить.
Они купили заведение в кредит.
Поначалу чувствовали себя как в раю. Полки, забитые провизией и напитками, ящики макаронных изделий, пачки печенья. Их поражала возможность зарабатывать деньги так просто, без особых физических усилий: заказать товары, расставить по полкам, взвесить, выписать счет – спасибо, пожалуйста. В первые дни на звук дверного колокольчика оба стремглав летели в лавку, без конца повторяя обычный вопрос: «Чего еще?» Забавлялись, когда их называли «хозяин» или «хозяйка».
Сомнения наступили тогда, когда одна из покупательниц, сложив покупки в сумку, произнесла тихим голосом: «У меня туговато сейчас с деньгами, могу ли я заплатить в субботу?» Потом вторая, третья. Записывать долги или возвращаться на завод? Первое показалось им наименьшим из двух зол.
Чтобы как-то сводить концы с концами, главное – забыть о желаниях. Никакой выпивки или сладкого, кроме воскресенья. Натянутые отношения с братьями и сестрами, которых поначалу щедро угощали, чтобы щегольнуть своими возможностями. Постоянный страх проесть сбережения, вложенные в лавку.
В то время, чаще всего зимой, я прибегала домой из школы запыхавшаяся, голодная. У нас нигде не горел свет. Родители были на кухне, отец сидел за столом и смотрел в окно, мать стояла у плиты. Меня давила гнетущая тишина. Иногда он или она произносили: «Придется продать». Садиться за уроки не стоило. Покупатели перешли в другие магазины: кто в Кооп, кто в Фамилистер или еще куда-то. Человек, невзначай открывавший дверь лавки, казался злой насмешкой судьбы. Его принимали как незваного гостя, и он расплачивался за всех тех, кто больше не ходил в лавку. Люди нас покидали.
Кафе – бакалейная лавка приносила дохода не больше зарплаты рабочего. Отцу пришлось поступить на стройку в низовье Сены. Надев высокие сапоги, он работал в воде. Мать торговала днем одна.
Полуторговец, полурабочий – как бы на двух противоположных берегах, – отец был обречен на одиночество и недоверие. Он не вступал в профсоюз. Боялся фашистов, маршировавших по улицам Л..., и красных, которые отнимут у него лавку. Свои мысли он держал про себя. В торговле иначе нельзя.
Родители постепенно выбрались из беды; находясь среди бедноты, они были не намного богаче сами. Торговля в кредит связывала их с самыми необеспеченными многодетными рабочими семьями. Они жили за счет нуждающихся, но, понимая их, редко отказывали «записать в долг». И все же чувствовали себя вправе преподать урок тем, кто жил непредусмотрительно, или пригрозить ребенку, которого мать в конце недели специально посылала за покупками без денег: «Скажи своей матери, чтобы она постаралась заплатить, иначе я ей больше отпускать не буду». Они уже не принадлежали здесь к самым униженным.
Мать в своем белом халате, была полноправной хозяйкой лавки. Отец обслуживал посетителей в рабочей спецовке. Мать не говорила, как другие женщины: «Мой муж мне задаст, если я куплю то-то или пойду туда-то». Она воевалас ним, чтобы он ходил к мессе, которую перестал посещать со времени службы в армии, чтобы избавился от дурных манер(крестьянина или рабочего). Он предоставил ей самой заниматься заказами и расчетами. Она была из тех женщин, которые могли бывать всюду, то есть легко перешагивать через социальные барьеры. Он гордился ею, но и смеялся над ней, когда она заявляла: «Я испортила воздух».
Он стал работать на нефтеочистительном заводе фирмы «Стандард ойл» в устье Сены. Работал посменно. Днем поспать не удавалось из-за посетителей кафе. Он опухал. Запах нефти преследовал его неотступно. Он был пропитан им настолько, что перестал есть. Но зарабатывал хорошо, и будущее кое-что сулило. Рабочим обещали построить распрекрасный городок – квартиры с ванными комнатами и теплыми уборными, собственные садики.