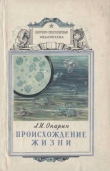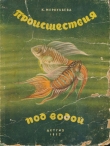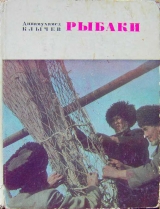
Текст книги "Рыбаки (очерки)"
Автор книги: Аннамухамед Клычев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Сын рыбака
Айтаков Недирбай родился в 1894 году в ауле Ак-Чукур Мангышлакского района в семье рыбака. В те времена рыбаки выезжали на лов рыбы в открытое море на небольших деревянных лодках – бударках – под парусом и с открытой палубой. Смельчаки иногда, в надежде на обильный лов, уходили на десятки километров от берега, а это считалось уже большим расстоянием. В сильные штормы небольшие судёнышки заливались водой и им нередко приходилось рисковать жизнью. Поэтому, когда кормильцы семей выходили на лов, им желали попутного ветра, а это значит – благополучного возвращения. А потом и взрослые, и дети ждали дня, когда они вернутся домой. Увидев родные паруса, они с радостью выбегали на берег, чтобы встретить своих отцов или старших братьев. Таков был один из нехитрых местных обычаев. Недирбай с младшими братьями Тачмурадом и Бекджаном тоже каждый раз выбегал навстречу судёнышку отца, который при встрече подхватывал его сильными руками и, целуя, подбрасывал вверх как мячик. Но однажды своего отца, Айтака, вышедшего в открытое море вместе со старшим сыном Кошабаем, Недирбай не дождался. Долго он с матерью и братьями всматривался в горизонт бушующего моря в надежде увидеть желанный парус. Прошла ночь и ещё один день, но рыбаки не возвращались. Тяжёлое несчастье обрушилось на семью Айтаковых. Пучина рассвирепевшего Каспия поглотила их кормильца. Недирбаю тогда едва исполнилось шесть лет. Кроме Недирбая, у матери остались ещё два младших сына: Тачмурад и Бекджан. Как ни велико было горе матери, но она понимала, что слезами ему не поможешь и что вся тяжесть воспитания детей легла теперь на её плечи. Чтобы прокормить осиротевших детей, она стала работать по найму у баев. Много лет с утра до вечера Дурдыгуль доила коров и коз, стирала бельё, убирала двор и выполняла всякую другую работу у известного тогда богача Нурджан-бая. Потом бежала домой в аул Ак-Чукур, где её ждали голодные дети.
Недирбай очень рано познал нужду, оставшись старшим, помогал матери по дому и у бая. Когда мальчик подрос, он с завистью смотрел на своих сверстников – они ездили в Форт-Александровск в школу. Родственники его отца видели это и знали, что Недирбай – серьёзный и способный мальчик. Не без колебаний они решили помочь ему тоже пойти учиться и на двенадцатом году устроили его в русско-туземную школу. Недирбай был хорошим учеником и, конечно, не думал бросать учёбу, но через три года заболела мать. За ним приехали родственники и увезли снова в аул. Так он простился со школой навсегда. Родственники помогли мальчику устроиться на рыбные промыслы к известному тогда рыбопромышленнику на Мангышлаке Захару Дубскому. Через год, в поисках лучшего заработка, Недирбай ушёл с промыслов Дубского и нанялся аробщиком к рыбопромышленнику Авакову. Около пяти лет возил он на арбе рыбу и другие грузы от промыслов до порта и обратно. Работа аробщиком для него была хорошей трудовой школой, он познал людей и их жизнь, и Недирбай стал настоящим рыбаком. Вскоре он поступил ловцом на ватагу сначала к Авакову, а затем перешёл опять на промыслы к Захару Дубскому. Работая среди рыбаков, Недирбай видел собственными глазами, в каких условиях трудились его товарищи, как они из года в год разорялись хозяевами ватаг и впадали в ещё большую нужду, а порой и в нищету. Сколько ни работал Недирбай, но как и его товарищи, жил впроголодь. Так продолжалось до прихода Советской власти в Закаспийскую область.
На Мангышлаке Советскую власть встретили с радостью, и когда здесь были созданы Советы, его жители, к тому времени окончательно разорённые, стали ходатайствовать перед Советской властью о предоставлении им более удобных земель, где бы они могли прокормить свои семьи. Советская власть удовлетворила их ходатайство, и в 1919 году семья Айтаковых вместе с другими мангышлакцами переехала на станцию Джебел Красноводского района. Здесь Айтаков сразу примкнул к тем, кто укреплял Советскую власть на местах. В 1920 году он работал в Джебель-ском аульном Совете и в волостном революционном комитете на должности заведующего ЗАГСом. В 1921–1922 годах – заведующим отделом социального обеспечения Красноводского уездного исполнительного комитета. В эти же годы был избран членом уездного исполнительного комитета. С конца 1922 по ноябрь 1924 года Айтаков был избран заместителем председателя, а затем председателем Президиума ЦИК Туркменской ССР. С ноября 1924 по февраль 1925 года он работает председателем революционного комитета Туркменской ССР. С февраля 1925 по июль 1937 года товарищ Айтаков – член ЦИК ТССР и СССР, председатель Президиума Туркменской ССР и СССР.
Товарищ Айтаков являлся членом оргбюро КП(б) Туркменистана, на I–VI съездах КП(б) Туркменистана, состоявшихся в 1925–1937 годах, избирался в состав ЦК КП(б) Туркменистана. С 1925 года по 1937 год был членом бюро ЦК КП(б) Туркменистана, неоднократно избирался делегатом съездов ВКП(б).
Познав в своей жизни до Великой Октябрьской социалистической революции нужду и голод, Айтаков с присущей ему кипучей энергией выполнял все задания партии. В трудные годы становления Советской власти, особенно в условиях Туркменистана, где ещё долго сохранялись враждебные силы, Айтаков всюду поднимал народ на защиту народной власти.
Люди старшего поколения, которым приходилось встречаться с Недирбаем Айтаковым, сохранили о нём самые лучшие воспоминания как о блестящем организаторе, о чутком и отзывчивом товарище, снискавшем всеобщее уважение народа.
Жизнь Недирбая Айтакова, первого президента Туркменской Советской Социалистической Республики, является ярким свидетельством того, что Советская власть перед человеком открывает широкую дорогу для раскрытия своих способностей и высоко ценит тех, кто честно трудится на благо процветания своего народа и Отечества.
Смелый переход
Подлинным примером воспитания Советской властью людей, способных на подвиг, является смелый переход девяти знатных рыбаков – колхозников солнечной Туркмении Красноводск – Москва, совершённый 5 июля 1936 года. Через сто дней, преодолев расстояние около пяти тысяч километров (4653 километра), таймунщики прибыли в Москву – столицу Союза ССР.
Назовём имена участников столь смелого и поистине героического перехода: Гельдыев Аннак – старшина команды, ловец из рыбацкого колхоза Красноводского района, один из опытнейших таймунщиков-охотников Челекена; Байрамов Худайберды – ловец, ударник рыболовецкого колхоза имени Баумана Гасан-Кулийского района; Иламанов Карадервиш – ловец-стахановец колхоза имени Ворошилова с острова Огурчинского Красноводского района; Таганов Ораз – ловец-стахановец из рыбацкого колхоза Красноводского района; Аширов Берды Кули – ловец-стахановец рыбацкого колхоза имени Баумана Гасан-Кулийского района; Кавусов Курбаннияз – ловец-стахановец, командир звена рыбацкого колхоза «16 лет Октября» Гасан-Кулийского района; Атаев Байджан – ловец рыбацкого колхоза имени Атабаева Красноводского района, Оразов Сары – ловец-стахановец, командир звена рыбацкого колхоза имени Атабаева Красноводского района, Мамед Аннаев Хаджи Тувак – ловец-стахановец, помощник командира звена рыбацкого колхоза «Большевик» на Челекене Красноводского района.

В рапорте нашей партии и правительству они писали:
« На одноместных таймунах, на которых наши отцы и деды не рисковали далеко отплывать от своих аулов, мы прошли бурный Каспий, великую Волгу, Оку и Москву-реку, чтобы заверить Вас, что туркменские колхозники не боятся трудностей и полны большевистской настойчивости и воли к победе».
Как это замечательно сказано!
Действительно, в прошлом не было смельчаков, которые могли бы отважиться выйти в море на таких судёнышках. Постоянное угнетение человеческого достоинства царским режимом простому человеку не давало возможности решиться на какой-либо смелый поступок. Социалистический строй открыл дорогу для инициативы, творчества и подвига, и туркменские колхозники-рыбаки это доказали.
Много трудностей встречали рыбаки на своём пути. Но ни штормы Каспия, ни сильное течение многоводной Волги, ни встречные ветры, ни дожди, ни грозы не сломили воли участников перехода. 6 октября, в два часа дня, в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве состоялся финиш перехода, где свыше десяти тысяч рабочих и служащих Москвы приветствовали героев.
15 октября 1936 года ЦИК СССР постановлением «За исключительный переход рыбаков-колхозников Туркменской ССР на одноместных таймунах (лодках) по маршруту Красноводск – Москва» наградил всех участников перехода орденами «Знак Почёта».
Тридцать лет прошло со дня отважного перехода туркменских рыбаков-колхозников, но их подвиг вечно будет жить в памяти народа: он вошёл золотой страницей в славную летопись истории Туркменистана как клятва верности единству и братству всех народов, населяющих нашу многонациональную Отчизну, как демонстрация безграничной любви к своей великой Родине, к Коммунистической партии Советского Союза.
Их переход и сегодня зовёт смелых на подвиг, вселяет мужество и отвагу, напоминая о красоте и величии свободной жизни.
И на память невольно приходят слова: «Крылатое. Великое, полное духовного величия слово – Подвиг! В нём, как лучи в фокусе линзы, скрещиваются, собираются воедино высокие моральные качества, воспитанные в советском человеке нашей партией».
Шторм
«У рыбака своя судьба,—
Здесь каждый с детства с морем обручён.
Где шторм да ветры, там вся жизнь – борьба.
Бесстрашье – наш морской закон».
(Из песни «Звезда рыбака», слова Н. Добронравова и С Гребенникова, муз. А. Пахмутовой)
Я, автор этих строк, люблю тебя, мой родной голубой Каспий. Да и невозможно тебя не любить, особенно в тихие тёплые дни, когда ты нежно несёшь свои изумрудные воды, или когда, ласковое, ты мирно плещешь свои волны у моих ног, переливаясь тысячами цветов радуги. Но бываешь ты и жестоким, беспощадным, и без причины вызываешь на неравную смертельную схватку того, кто оказался в момент твоего гнева в твоих объятьях. Так было и 26 октября 1948 года.
При создании рыболовецкие колхозы в прибрежных туркменских аулах в Гасан-Кули, на Челекене, Огурчинском, в Кизыл-Су, Киянлы и Карши на вооружении имели только парусные лодки, поднимающие не более пятисот – полутора тысячи пудов. Эти лодки в то время считались самыми манёвренными. Моторных баркасов или быстроходных рыбацких сейнеров, какие имеются сейчас во всех колхозах, туркменские рыбаки тогда не знали. Обычно в каждом рыболовецком колхозе было по несколько таких лодок. Команда состояла из шести рыбаков во главе с командиром. Рыбаки, в зависимости от периода путины, на утлых судёнышках, под парусом выходили на северо-запад Каспия на длительное время, иногда на несколько месяцев.
Парусные лодки подвластны ветру, и почти каждый рыбак обладал в совершенстве искусством плавания на них. Но, прекрасно знающие море, бесстрашно плавающие по его просторам, словом, отличные практики, прибрежные рыбаки плохо разбирались даже в элементарных правилах мореходства. Правила расхождения судов, сигнализации, движения в ночное время и другие правила мореходства им были не знакомы. Многие командиры парусных лодок были малограмотными, а порой и совсем неграмотными. Поэтому не только в портах, но и в открытом море случались столкновения с пароходами и другими судами.
Особенно тяжело приходилось парусным лодкам во время шторма. Вынужденные спустить большие паруса, они поднимают штормовые или, по возможности, становятся на якоря. Случалось, когда якоря срывало сильной волной, и тогда лодка пускалась по воле ветра в открытое море, где огромные валы волн обрушивались на неё, бросали, как щепку. Но рыбаки привыкли ко всем неожиданностям Каспия и по мере своих сил и опыта старались победить разыгравшуюся стихию и, надо сказать, они почти всегда выходили победителями в единоборстве с морем.
В то утро, 26 октября 1948 года, когда тринадцать парусных лодок туркменских рыболовецких колхозов «Большевик» с Челекена, имени Ворошилова с острова Огурчинского, имени Верховного Совета ТССР Гасан-Кулийского района, имени Калинина из посёлка Киянлы и другие собирались выйти в море, ничто не предвещало непогоды. Взошедшее солнце озаряло чистую лазурь востока, а само море было похоже на зеркало. Днём, после полудня, наступил штиль. Яркие солнечные лучи ласково пригревали гладь моря, и лёгкий южный ветерок, веевший над разогретыми водами, был бессилен взволновать их. Рыба уходила от берегов в открытое море в поисках более прохладных вод.
Через несколько дней, по окончании путины рыбаки возвращались из бухты Ералиева в Кизыл-Су – надо было заменить снасти и пополнить запасы судовых материалов.
Лов был удачным, и настроение у всех было приподнятое. В ожидании скорой встречи с родными, товарищами и друзьями пели весёлые песни. И уж, конечно, никому и в голову не могло прийти, что море, до сих пор проявлявшее к ним милость, бывшее их кормильцем, их жизнью, на этот раз может стать для них смертью.
Хорошее настроение рыбаков очень скоро было омрачено. Ко второй половине дня с северо-запада стали зловеще надвигаться чёрные тучи. Рыбаки знали, что это – верный предвестник шторма. И предчувствия их оправдались. Вскоре с запада подул сильный ветер. Он всё крепчал, гребни волн, набегавшие на лодки, с каждой минутой становились выше. Произошло то, чего боялись и смелые рыбаки. Море, сначала глухо стонавшее, стало реветь и стенать, оно покрылось сплошной пеной. Бушующие волны выбрасывали со дна моря ракушки и водоросли, и вскоре лодки, находившиеся поодоль одна от другой, потерялись друг у друга из вида. Экипажи из всех сил сопротивлялись бушующей стихии, но тщетно. Их беспрестанно заливало водой, море металось, как разъярённый зверь. Волны швыряли судёнышки с одного гребня на другой. С каждым часом опасность нарастала. Западный ветер стремительно гнал лодки к берегу и скалам… Ещё какое-то мгновение, и они превратятся в щепки. Но людям хотелось жить, и они изо всех сил боролись со стихией. Неравная борьба продолжалась всю ночь. На утро шквал усилился, и люди, обессилевшие, потеряли надежду на спасение. Очевидец этого шторма Караджаев Ата-Кара, капитан парусной лодки из колхоза имени Верховного Совета ТССР, спасшийся со своей командой чудом, рассказывал: «Я видел, как одна из лодок повернулась бортом к волне… и в ту же секунду её не стало… Мы с ужасом успели заметить, как вместе с лодкой море поглотило и всех наших товарищей.
Шторм захватил все лодки почти одновременно в самом опасном районе прибрежных гор, между Суэ и Киндерли, выше Бек-Даша. Это место туркмены называют Каялар, то есть «горы» или «скалы». Прибитые к скалам побережья, они почти все превратились в щепки. Только двум из тринадцати чудом удалось уцелеть. Лодку Караджаева Ата шторм выбросил на берег в Бек-Дашскую бухту, защищённую скалами. Другой лодке, «Киянлы», где капитаном был Бултеков Мухаммеддин, с большим трудом удалось выйти далеко в открытое море и благополучно спуститься в рыбацкий посёлок бухты Киянлы. Капитан Бултеков потом рассказывал, что до начала шторма он плыл впереди колонны лодок до вечера 26 октября. Ночью, когда начался шторм, он, чтобы увести за собой остальные лодки подальше от берега, некоторое время давал сигналы фонарями, но безуспешно. Через несколько часов, когда на лодки стали обрушиваться шквалы волн, всё скрылось из виду и он их больше уже не видел. Ночью на его лодке ветер порвал парус, но команде удалось быстро зашить его. Когда было пытались поднять парус, сильный ветер снова порвал его на куски и все старания что-либо сделать с ним были безуспешными. Оказавшись без паруса, рыбаки, чтобы удержать лодку хоть на какое-то время на море, выбросили в воду якоря и все тяжести. На утро не выдержал и лопнул пеньковый трос. Тогда бросили на дно последнюю железную цепь с последним якорем. Это помогло продержаться на воде несколько часов. Они смогли починить порванные паруса и поднять на полмачту. Лодку медленно стало нести дальше в открытое море. На душе у команды стало спокойнее. Появилась надежда на спасение. Весь день их лодку носило по открытому морю. На третьи сутки ветер начал стихать, и они с большим трудом выбрались из открытого моря к берегу. Наконец они увидели бухту Киянлы и благополучно добрались до неё.
Мухаммеддин Бултеков сказал, что его команде удалось спастись лишь благодаря выдержке и высокой дисциплине на протяжении всего шторма.
Шторм продолжался тридцать шесть часов. Погибло шестьдесят четыре рыбака и только трупы восьми, спустя несколько дней после бури, нашли в районе Кара-Богаз-Гола. Их выбросило волнами на отмель, либо на берег.
Невозможно передать скорбь в ауле, когда эта страшная весть дошла до женщин и детей рыбаков. В Гасан-Кули, Челекене, Кизыл-Су, Огурчинском и Киянлы, откуда были погибшие рыбаки, долго ходили в трауре. В течение несколько дней и после в районах Бекдаш – Карши на берег выбрасывало обломки лодок и остатки одежды погибших, напоминая о случившемся.
Но жизнь есть жизнь. Зарубцевались со временем и раны рыбаков. Государство не оставило осиротевшие семьи в беде. Им была выдана безвозмездная единовременная помощь. Всем нетрудоспособным членам семей были назначены постоянные пособия из кассы взаимопомощи колхозов. В настоящее время они обеспечиваются пенсией за счёт государства. Капитаны спасшихся парусных лодок Караджаев Ата и Бултеков Мухаммеддин сейчас находятся на заслуженном отдыхе – на пенсии.
Сегодня дети потомственных моряков тоже бороздят морские просторы седого Каспия. Но им он теперь не страшен. На смену парусным лодкам пришли первоклассные моторные баркасы и быстроходные сейнеры, которые в любую непогоду могут благополучно добраться до порта. Капитаны имеют специальное образование, в совершенстве владеют правилами и техникой вождения судов. И теперь море давно не знает человеческих жертв.
Красноводск – центр рыбной промышленности современного Туркменистана
Город Красноводск был основан на берегу Каспийского моря во второй половине XIX века. Это – самый большой порт туркменского приморья, ныне крупный транспортный и индустриальный центр Туркмении, республики, рыболовный центр. Воротами Средней Азии образно называют его.
Много сотен лет назад река Аму-Дарья несла свои воды через территорию Западного Туркменистана. В XVI веке река изменила своё течение и всю воду стала отдавать только Аральскому морю. Земли Западного Туркменистана, лишённые живительной влаги, оказались бесплодными. Посевы посохли, и люди вынуждены были покинуть обжитые родные места, где некогда цвели сады, журчали арыки, и земля давала человеку хлеб, хлопок, овощи и фрукты.
Тогда в 1713 году к астраханским купцам, торговавшим в гавани Тюб-Караган, явился старшина одного из туркменских племён из Мангышлака по имени Ходжа Непес и заявил, что хочет сообщить лично царю важные сведения, «касающиеся до великой пользы государства Российского».
Купцы взяли Ходжа Непеса с собой в Астрахань, где князь Саманов выведал у него «секрет». Речь шла о богатейших залежах золотого песка, якобы имеющегося на берегах Аму-Дарьи. Ходжа Непес рассказал также, что некогда эта река впадала в Каспий, а сейчас изменила русло и отдаёт свои воды Аральскому морю. Он заверял, что можно восстановить старое течение реки.
Астраханские купцы доставили Ходжа Непеса в Петербург, и его рассказ произвёл большое впечатление на Петра Первого. Сведения о золотых россыпях на Аму-Дарье казались тем более правдоподобными, что были подтверждены губернатором Сибири князем Гагариным и хивинским послом, находившимся в то время в России.
С давних пор Пётр Первый помышлял о том, чтобы русский флот бороздил просторы Каспийского моря, чтобы проложить русским купцам дорогу в Бухару, Хиву, Афганистан и даже в Индию. Предложение туркменского старшины было заманчивым. Если действительно Аму-Дарью можно повернуть в Каспийское море, тогда для русских кораблей откроется прямой водный путь в сердце Средней Азии.
Исполнителем своего поручения Пётр I избрал князя Александра Бековича-Черкасского, который знал почти все языки. Ему были даны тысяча пятьсот солдат и пять тысяч рублей на расходы. Астраханский воевода получил указание всячески содействовать проведению Каспийской экспедиции.
Подписывая указ об организации экспедиции поручика Бековича-Черкасского, Пётр I поручил изучить возможность соединения Каспийского моря с рекой Аму-Дарьей, чтобы закрепить торговые пути в Среднюю Азию постройкой крупного берегового форта.
– Сие да будет вратами на ост, – сказал Пётр. Русская эскадра к берегам Туркмении подошла во имя науки, во имя оказания братской помощи туркменским племенам, страдавшим от безводья и набегов воинов соседних государств.
В указе, данном Бековичу-Черкасскому, Пётр I писал: «Над гаваном, где бывало устье Аму-Дарьи реки, построить крепость человек на тысячу… Ехать к хану хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и посмотреть прилежно, течёт оной реки, тако же и плотины, ежели возможно оную реку паки обратить в старый ток, к тому же протчие устья запереть, которые идут в Оральское море».
Весной 1715 года экспедиция поручика Бековича-Черкасского вышла из Астрахани и направилась к восточному побережью Каспийского моря.
Из жерла двадцатифунтового «единорога» вырвалось тугое жёлтое пламя. Гулкий удар прокатился над пустынным морем. Так, двести сорок четыре года тому назад, жарким утром 18 сентября 1715 года, у берегов Красноводского залива появились белые паруса судов экспедиции Бековича-Черкасского, состоящей из двадцати вымпелов.
Отважных исследователей встретил угрюмый-каменный берег. Впереди раскинулась безбрежная пустыня, позади – такое же пустынное море седого Каспия. Ни дерева, ни травинки кругом. Под географической широтой тридцать девять градусов пятьдесят минут у основания «длинной косы» Кизыл-Су зазвенели лопаты и кирки.
Почти полтора месяца продолжались работы. Так возникла «крепость у Красных вод» с солидным по тому времени гарнизоном в тысячу человек. Началось обследование юго-восточного побережья Каспийского моря. Бекович-Черкасский побывал в Тюб-Карагане, в Балханском заливе, затем прошёл дальше до Астрабада (иранская провинция Горган) и возвратился в Астрахань.
Удовлетворённый результатом экспедиции Бековича-Черкасского 1715 года, Пётр I поручил ему же отправиться для переговоров с хивинским ханом. Экспедиция началась ровно через год, 15 сентября 1716 года. Оставив почти все войска в Гурьеве и в крепости, Бекович-Черкасский с небольшим караваном направился к Хиве. Его движение вперёд было медленным. Люди страдали от зноя, жажды, болезней. В ста верстах от Хивы, навстречу русскому отряду, насчитывавшему менее трёх тысяч солдат, вышло двадцатичетырехтысячное войско, которое вёл хивинский хан Шир-Гази. Тем не менее, отбивая атаки хивинцев, отряд продолжал двигаться вперёд.
Хан был вынужден прекратить бой и отступить в столицу. Но там, где оружие оказалось бессильным, помогло коварство. Хан отправил к Бековичу-Черкасскому парламентёров, которые лицемерно заявили, что враждебные действия – это плод недоразумений.
Пригласив Бековича-Черкасского в гости к хану, а затем и заманив весь отряд, хивинцы неожиданно напали на него и весь отряд истребили, а самого Бековича-Черкасского обезглавили. Таким образом, вторая экспедиция Бековича-Черкасского задания своего не выполнила.
В 1719 году экспедиция под руководством Фёдора Ивановича Сайманова нашла на косе Кизыл-Су остатки крепости, разрушенной наводнением. Коса ныне называется косой Бековича. Здесь в 1872 году установлен был бронзовый памятник. На нём и сейчас заметна надпись: «В пустыне дикой Вас, братья, мы нашли и тёплою молитвою ваш прах почли».
Новая экспедиция на Каспийском море во главе с капитаном второго ранга Войновичем снаряжается в 1781–1782 годах. Ему поручалось отыскать удобное место для основания русской торговой базы в целях «привлечения» туда торговли как из Индии, так и из других восточных стран.
Кроме исследования природы, экспедиция Войновича собирала сведения этнографического и экономического характеров, о связях туркменских племён с Хивой, Бухарой, Ираном и русскими промышленниками.
На туркменский берег Каспийского моря была послана ещё одна экспедиция. Её отправил в 1819 году генерал Ермолов А. П., командующий русскими войсками в Грузии. Экспедиции во главе с майором Пономарёвым и капитаном Муравьёвым поручалось установить дружественные отношения с туркменскими племенами и «устроить на тех берегах пристань, в которой купеческие су да могли бы лежать спокойно на якоре и безопасно складывать товары свои». Для охраны пристани предполагалось построить небольшую крепость. Тщательные исследования убедили Муравьёва, что наиболее подходящим местом является побережье Красноводского залива.
Через год, в 1820 году, Н. П. Муравьёв снова побывал на туркменском берегу. 25 июня на двух судах он подошёл к острову Челекену, тщательно обследовал его и отправился в Красноводский залив. В самое жаркое время года небольшой отряд русских солдат стал возводить укрепление и четыре бастиона. Эти работы были закончены 27 июля. Крепость, построенная на месте нынешнего порта, была названа Вознесенской. Экспедиции 1819–1820 годов, в которых принимал участие Муравьёв, о побережье Каспийского моря дали науке много нового.
В этот период в северных районах Персии усиливали свои происки и англичане. Оказывая господствующее влияние на двор Фетх-Али-шаха [1]1
Фетх-Али-шах – шах Ирана (1797–1834) из династии каджаров. При Фетх-Али-шахе Англия и Франция под видом помощи Ирану деньгами, оружием и военными инструкторами в значительной мере превратили Иран в орудие агрессивной политики этих держав, направленной главным образом против России.
В 1801, 1809 и 1814 годах Фетх-Али-шах заключил с Англией, а в 1807 году с Францией договоры, которые ставили внешнюю политику Ирана под контроль Англии и Франции. При Фетх-Али-шахе в 1804–1813 годах и в 1826–1828 годах велись войны против России, окончившиеся поражением Ирана и подготовившие почву для закабаления его капиталистическими странами.
[Закрыть], они стали принимать меры к тому, чтобы использовать территорию Северного Ирана в качестве плацдарма для осуществления своих колониальных захватов в сторону Закавказья и Средней Азии. Это не могло не сказаться на благополучии, в том числе и туркмен, живших в этих местах.
В первой четверти XIX века резко обострились русско-персидские отношения, что было на руку англичанам, и в 1813 году началась русско-персидская война. Но, несмотря на то, что англичане снабжали Фетх-Али-шаха вооружением, а британские офицеры командовали шахскими войсками, действовавшими против русских войск в Закавказье, эта война закончилась полным поражением персидской армии. В октябре 1813 года был заключён Гюлистанский мирный договор [2]2
Гюлистанский договор был заключён в 1813 году в результате первой русско-персидской войны. По этому договору в состав России вошли почти все земли, расположенные в Закавказье и Северном Кавказе, кроме Еревана и Нахичевани и отдельных округов. Согласно этому договору, никакая другая держава, кроме России, не могла держать военный флот на Каспийском море.
[Закрыть], по которому русским военным судам представлялось исключительное право плавания на Каспийском море.
Таким образом, царское правительство получило возможность установить контроль над Каспийским морем, а, следовательно, и быть хозяевами на его берегах. Чтобы практически осуществить этот контроль, необходимо было создать военно-морские базы. Предполагалось, что такие базы будут созданы и на восточном берегу Каспийского моря.
В 1869 году на берегу Красноводского залива высадился отряд русских солдат под командованием полковника Николая Григорьевича Столетова – одного из культурнейших людей своего времени. Столетов был на плохом счету у царских властей, как «либерал и прогрессист».
Столетов, изучив материалы, собранные первыми экспедициями, и лично обследовав побережье Каспийского залива, пришёл к выводу, что более подходящего места не найти. Действительно, Красноводский залив защищён с юга полуостровом Челекен, с запада – косами Северной, Челекенской и Красноводской, между которыми и проходит путь в залив. Он закрыт со всех сторон от ветров и волнений.
Вступая на берег, Столетов первым долгом старался установить дружественные отношения с кочующими вблизи западнотуркменскими и казахскими племенами.
Сохранились приказы Столетова, предписывавшие солдатам и офицерам «самые дружественные и попечительские отношения к туземцам, под страхом наистрожайших взысканий», а также обязывавшие «за всякий покупаемый продукт уплачивать немедленно по цене, продавцом указанной, наличными деньгами». Уже в 1870 году под стенами нового форта образовался рынок, куда туркмены и казахи привозили рыбу, молоко, баранину, джугару и другие продукты и где вызванные Столетовым из Астрахани и Гурьева русские купцы открывали лавки, продавали железо-скобяные товары, посуду и т. д.
Происхождение названия Красноводского залива, а затем и города, точно не установлено. Но вероятнее всего, название обязано буквальному переводу на русский язык слова «Кизыл-Су». У туркмен оно означает «красная вода». Возможно, это относится к грунтовым водам песчаной косы, где у местечка Кизыл-Су высадилась экспедиция Бековича-Черкасского. По-видимому, название Кизыл-Су – «Красная вода» и послужило названием заливу, а позднее и городу Красноводску.
Граница форта проходила примерно по современной улице имени Карла Маркса, вниз по улице имени Кирова – до Дворца культуры. Вот в этой подкове, в центре с блокгаузом-батареей, церковью и тюрьмой размещалось всё население. В 1874 году красноводское укрепление получило право города.
В дальнейшем город развивался благодаря увеличению потока грузов через Красноводск. История Красноводска с этого времени тесно связана со строительством морского порта.
Фактическое возникновение существующего морского порта относится к 1896 году. До этого порт находился в мелководном Михайловском заливе в посёлке Узун-Ада. После землетрясения огромной силы, происшедшего летом 1895 года, и обмеления Каспия посёлок был полностью разрушен. На новом месте, где ныне раскинулся Красноводск, был выстроен первый деревянный причал. В 1896 году в морском порту строятся шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая пристани. Возводились они по инициативе отдельных предпринимателей и за их счёт.
«Ворота Азии», наконец, открылись, хотя и не широко. Пристани принадлежали частным судовладельцам В. В. Скришедину и Н. А. Жеребцову, образовавшим акционерные общества «Кавказ и Меркурий» и «Восточное общество пароходства». Несколько позднее строят пристани нефтяные фирмы «Нобель», «Братья Манташевы» и т. д. К 1900 году в морском порту уже имелись основные сооружения: семнадцать пристаней, склады и служебные здания.
Перед мировой войной 1914 года акционерные общества объединились в концерн «Комво». Этот концерн впоследствии поглотил всех конкурентов и сосредоточил в своих руках все морские суда. И только седьмая пристань была казённой и принадлежала Закавказской железной дороге.
После Великой Октябрьской революции весь флот был национализирован. В 1925 году все пристани восстановлены. В 1929 году закончено строительство крупной пристани номер двенадцать с железнодорожной линией.
Началась планомерная механизация грузовых работ. В 1925 году дала ток своя электростанция.
Перед началом Отечественной войны грузооборот порта был равен сумме бакинского, астраханского и махачкалинского портов. В тяжёлые годы войны красноводский порт был «основным подносчиком патронов для фронта».