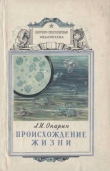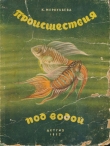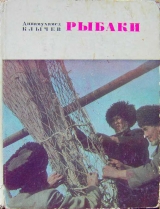
Текст книги "Рыбаки (очерки)"
Автор книги: Аннамухамед Клычев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Как жилось рыбакам восточного побережья Каспия до Октября
Рыболовство у восточных берегов Каспия является очень древним промыслом. По преданиям туркмен, когда Аму-Дарья ещё впадала в Балханский залив, рыбные промыслы в устье реки хивинские ханы отдавали на откуп.
Восточную прибрежную полосу Каспийского моря, с точки зрения рыбоводства, можно разделить на два основных района: северный – от Мангышлакского полуострова до южной оконечности острова Огурчинского, и южный – от острова Огурчинского до границы с Ираном, включая побережье между устьями речек Кара-Су, Гургена и Атрека. Такое деление обусловливается контуром берегов и характером морского дна, от которых, в свою очередь, зависит состав рыб в этих районах.
Южное туркменское побережье в прошлом – богатейший рыбный район, является центром морского рыбного промысла Туркмении. Здесь береговая линия изрезана сравнительно слабо, рельеф дна у берегов песчаный, однообразный, благоприятствующий занятию рыбным промыслом.
Их известных пород рыб Каспийского моря нет почти ни одной, которая бы не подходила к берегам Туркмении. Кутум и даже шамая показывались здесь осенью, однако редко в другое время года. Особенно же богат рыбой Гасан-Кулийский залив. Поэтому не случайно промысловая жизнь в этой части побережья была сосредоточена в заливе Гасан-Кули – в аулах Гасан-Кули, Чагал-Бурун, Чикишляр и других.
Пространство прибрежья, заключающееся между устьями речек Кара-Су, Гургена и Атрека, по рыболовству ранее не имели себе подобных, превосходя даже волжские устья. Примечательно, что в противоположность рыбным промыслам северной части Каспия, где относительно к другим породам рыб девять десятых ловилась севрюга, здесь, напротив, попадали только осетры. Близ туркменских берегов держалась необыкновенно крупная белуга, иногда весом до шестидесяти пудов и более. В марте, в период путины, Гасан-Кулийский залив наполнялся красной рыбой: белугой, осетром, севрюгой и шипом. Её ловили уже не сетями, а прямо с берега, стоя по колено в воде, таскали баграми. Ныне, в связи с падением уровня моря, на площади Гасан-Кулийского залива располагается один из участков Гасан-Кулийского заповедника – самой крупной зимовки водоплавающей птицы на восточном побережье Каспия.
Однако до появления русских рыбный промысел здесь был крайне примитивным и неразвитым. Местное население ограничивалось ловлей недалеко от берегов. У них тогда для выхода в море не было дальноходных лодок, а на кулазах, являвшихся единственным средством передвижения по морю, можно было плавать лишь вдоль берегов. Рыболовные снасти были тоже очень примитивными. Грубые, с самодельными двузубыми крючками, очень тяжёлые, они рвали и рыбу и снасти. Белугу они ловили, например, наживляя привязанный на длинной верёвке железный самодельный крючок бычком или куском тюленя. Белуга, осётр, шип, севрюга, водившиеся у берегов, были основным предметом их промысла. Добытый улов они сбывали либо иранским, либо русским (астраханским) купцам.



Начало развития промышленного рыболовства на Каспийском побережье Туркмении относится к началу прошлого века, когда здесь начали происки астраханские и другие рыбопромышленники. Занимавшиеся ранее скупкой у туркмен рыбных товаров, дельцы скоро поняли, что они будут иметь большую прибыль, если сами заведут промыслы, привлекая местное население в качестве дешёвой рабочей силы. И по всему побережью, как грибы после дождя, стали расти ватаги астраханских и бакинских рыбопромышленников. Чтобы привлечь в ватаги местное население, рыбопромышленники на первых порах создавали для вступающих довольно сносные условия. Ватажник, а в последствии его посредник, под предполагаемый улов заключал с рыболовом договор. Ловец получал определённый задаток, иногда доходивший до четырёхсот-пятисот рублей, с условием, что он всю рыбу будет сдавать за определённую плату только одному ватаговладельцу, с которым заключил договор. Кроме того, рыболовов снабжали сначала ватаговладельцы, а затем подрядчики орудиями лова, стоимость которых входила в задаток. При таких условиях подавляющее большинство местных рыболовов, не имеющее лодок, входило в ватаги, чтобы иметь обеспеченный заработок. И действительно, масштаб торговли рыбой, организованный ватажниками, давал им, безусловно, значительно больший доход, нежели они его имели ранее, когда торговля носила почти полностью натуральный характер.
Рыбацкие лодки были основным средством промысла у ловцов. Наиболее имущие ватажники побережья – Морозов, Дильдаров и другие имели своих плотников и строили некоторые виды лодок сами, особенно больших и средних размеров, сдавая затем их на кабальных условиях рыбакам в аренду. Челекенскому ватажнику Морозову лодки строил плотник Нуры Дурды оглы, в то время один из лучших мастеров этого дела на всём восточном побережье.
Самым распространённым судном у ловцов была лодка ноу. Строилась самими туркменами из ветлы, без киля, бока с развалом, управлялась прямым парусом. Для промысла близ берегов в тихую погоду широко применялись кулазы. Ранее туркмены кулазы покупали у персиян, которые выжигали их из цельного дерева липы, высокогорного тополя или аффры (род клёна). Кулаз очень похож на большое деревянное корыто или водопойную колоду. Его длина до трёх метров. Ширина одинакова вверху и внизу, и в нём с трудом помещается один человек. Управляют кулаза-ми либо сидя, либо стоя, отталкиваясь шестом или веслом. Дно имеет совершенно плоское. Ходит по самым мелким местам, больше вдоль берега. Он так лёгок на ходу, что человек за ним не успевает бежать.
Для выхода в море употреблялись киржимы – плоскодонные парусные судна. Ранее, до распространения на туркменском побережье русского влияния, киржимы тоже делались из персидского леса. Они свободно ходят под парусами в море, однако недалеко от берегов. Поднимают от четырёхсот до восьмисот пудов груза.
Ватаговладельцы пользовались большими кусовыми палубными лодками. Это – двухмачтовые и редко трёхмачтовые судна, поднимающие от восьмисот до двух тысяч пудов груза.
Для рыболовства у берегов или невдалеке от них употреблялась кусовая палубная лодка, имевшая ту же конструкцию, что и предыдущая, но посредине открыта. Туркмены употребляли также так называемые подрасшивные лодки – с косыми парусами на рейках.
Более крупные рыбопромышленники имели шкоуты, которые употреблялись для перевозки грузов и товаров в персидские порты. Некоторые владельцы называли их кораблями, бригами, бригантинами, транспортными мореходными расшивами. Поднимают от трёх до семи тысяч пудов груза.
В астраханских и аральских устьях употреблялись для рыболовства и переездов в северные, то есть мелководные части Каспийского моря, судна с плоским дном и парусом, несколько похожие на шкоут, расшивы. Расшивы поднимают от двух до пяти тысяч пудов груза.
Употреблявшиеся ранее исключительно бакинскими жителями для набережного судоходства так называемые бакинки затем стали ходить на восточный берег Каспия. Это – двухмачтовые судна наподобие расшивы, но значительно меньше. Бывают разных размеров. Наибольшие поднимают до двух с половиной тысяч пудов груза.
Рыбопромышленники, имевшие на оснащении ватаг совершенные для того времени способы и орудия лова, получали огромные прибыли от их содержания. Но это вовсе не означало, что и рыболовы имели хороший заработок. Как правило, им его хватало лишь на расчёт за взятый аванс у ватажника. Нередко случалось, когда ловец, из-за плохого улова или по другим причинам, не мог рассчитаться с ватажником вообще, и тогда последний возбуждал дело по иску, которое кончалось предложением должнику уплатить долг из улова будущего года, а иногда и последующих двух-трёх лет. При этом рыболов обязан весь улов поставлять на ватаги по ценам, диктуемым хозяином.
Царское правительство не притесняло рыбопромышленников и всячески поддерживало все их начинания, касающиеся развития рыбных промыслов. При этом русских чиновников не интересовало, каким путём это будет сделано. Интересы местных рыбаков во внимание тоже не принимались. Любому желающему заняться промыслом рыбы они охотно выдавали за определённый сбор разрешение на аренду морского участка на тот или иной срок. Так, в 1895 году было выдано разрешение штурману дальнего плавания Сергею Васильевичу Михайлову на устройство ватаги на косе Кизыл-Су Красноводского уезда сроком на два года.
Подобные разрешения были выданы и другим дельцам. В конце XVIII и в начале XIX веков наиболее известными и крупными рыбопромышленниками на туркменском побережье были Мир Багиров, Александр Герасимов, Погосов, Аваков, Дильдаров, Морозов и многие другие. Прочно обосновавшись на различных участках юго-восточного побережья, они постепенно вытеснили с берега почти всех коренных рыболовов.
Царское правительство сдало в аренду русским рыбопромышленникам и участок в Гасан-Кулийском заливе, кормивший население целого посёлка Чынгылы. Однако для активного протеста против столь вопиющего бесправия политическое сознание у рыбаков было ещё незрелым и потому они не видели другого выхода, как просить русские власти не оставлять их без куска хлеба, не отнимать побережья для арендаторов. Об этом свидетельствует и нижеследующий документ.
« Властительному и почтеннейшему, высокопоставленному главному нашему начальнику вод, проживающему в Петербурге.
От жителей Чынгылы около Гасан-Кули
ПРОШЕНИЕ
Просьба к господину главному начальнику нашему состоит в том:
Сто лет прошло с тех пор, как мы пришли и поселились здесь. Отцы, деды наши и мы, платя налог, ловили рыбу в устьях реки Атрека в этом заливе. Теперь до нас дошёл слух, будто эту часть залива отдадут в аренду. Но так как земля, на которой мы теперь живём, представляет из себя солончак, где нет ни пресной воды, ни дров, ни пахотной земли (пресную же воду мы получаем из Персии, дорога куда от пятидесяти до шестидесяти вёрст и где за бурдюк воды платим четыре копейки), то мы, ввиду всего вышеизложенного, надеясь на справедливость и милость начальника нашего, просим его: не отдавать в аренду сильному человеку вод этого залива при устье реки Атрек, дабы место это навсегда осталось в наших руках. Мы, бедные люди, поселившиеся в солончаке Чынгылы, охотились в водах этого залива при устье реки Атрек, платили подати, и другой земли у нас нет, хлеба собираем мало. Если изволите быть, милость вашего превосходительства, на принятие сего прошения, то тогда и его императорскому величеству, великому государю, владетелю справедливости, бедных покровителю, сострадательному и милосердному Белому Царю нашему, быть может, также снизойти к сей просьбе угодно будет. Да воздаст за то господь всем его подданным милость и сострадание.
МОЛИТВА:
Боже правый. Да будет вечно над нами тень твоего величия. И сохрани, о боже правый, от зависти вражеской и злости людской всех нас, которые находимся на всём пространстве земли, начиная от самого свода небес и до городов земных.
Мы, люди далёкого края, но близкие сердцем, шлём сие наше прошение в канцелярию главного нашего начальника вод.
Написано сие прошение(по христианскому летоисчислению) 1904 года в конце мая месяца.
(Далее следуют подписи просителей).
Верно: столоначальник – подпись».
По документам не удалось проследить, приняло ли во внимание царское правительство просьбу рыбаков, но факт остаётся фактом: местные жители, хозяева побережья, должны были идти к арендаторам работать по найму. Но даже и в этих случаях рыбак в переговоры с рыбопромышленником об условиях найма сам не вступал. За него договаривался посредник-подрядчик. Подрядчики нанимали ловцов туркмен, снабжали их лодками со всеми принадлежностями, снастями. Занимаясь наёмом рабочей силы, подрядчики тоже наживались за счёт рыбаков. В 1884 году условия рыболовства были следующие: ватажник платил подрядчику за пуд белуги один рубль тридцать пять копеек, а подрядчик рассчитывался с ловцом только по рублю за пуд. За пуд севрюги или осетра ватажник платил подрядчику по одному рублю тридцать копеек, а подрядчик ловцу – по рублю. За пуд икры ватажник платил подрядчику пятнадцать рублей сорок копеек, а подрядчик ловцу – только четырнадцать рублей.
С целью выжать из рыбаков как можно больше прибыли, рыбопромышленники шли даже на различного рода махинации. Например, они заключали между собой тайные соглашения о снижении цен при приёмке рыбы и у запод-ряженных, и у незаподряженных ловцов. Об этом свидетельствует множество архивных документов. В одном из них говорится о том, как состоятельные скупщики из Астрахани тайно договорились с гасаи-кулийскими рыбопромышленниками о снижении цен при скупке рыбы у ловцов.
Рыбаки в заявлении на имя начальника Закаспийской области просили принять меры к зарвавшимся дельцам. Подполковник Карпинский, которому было поручено изучить достоверность фактов, описываемых в заявлении, в рапорте на имя начальника Закаспийской области в 1913 году сообщал, что действительно между главными скупщиками рыбных товаров с гасан-кулийских и чикишлярских промыслов астраханскими дельцами Свиридовским, Ройтманом, Ландо и Заславским с одной стороны, и Гасан-Кулийским товариществом, в которое входили местные рыбопромышленники Бабаев и астраханские купцы Казбинцев, Мазандеранцев, Печёнкин с другой, состоялось тайное соглашение о скупке рыбы во время её хода – путины по заранее сниженной цене. Это был не единичный случай. От продажи по таким ценам ловцы получали доход, которого не хватало даже рассчитаться за задаток с ватажником.
Не учитывая интересов местного населения, промышленники могли закрыть ватагу вообще, и иногда рыбаки вынуждены были доставлять рыбу в другие отдалённые ватаги.
В том же рапорте подполковник Карпинский писал, что в 1913 году рыбопромышленники закупили рыбу только с одной туркменской ватаги (Караева), тогда как до этого они договорились о закупке рыбных товаров со всех ватаг. Это делалось также с целью оказать давление на ловцов. Не имея договорённости с ватажником о приёмке им рыбы, рыбаки вынуждены были продавать её по любой цене скупщикам. Например, купец Дильдаров собирался закрыть ватагу, находящуюся на Кизыл-Су, куда по договору доставляли рыбу весь рыболовный год многие туркмены. На другие ватаги в постоянные сильные осенние штормы доставлять её было нельзя, потому что выходить в открытое море было опасно. Рыбакам пришлось ходатайствовать перед начальником Закаспийской области о том, чтобы Дильдаров ватагу на Кизыл-Су не закрывал. Закрытия ватаги могло бы лишить их заработка. На этот раз правительство пошло навстречу рыбакам и предложило купцу Дильдарову ватагу в Кизыл-Су в зимний период не закрывать.
Рыботорговцы, договорившись между собой о понижении цен при скупке рыбы с целью повысить их затем при продаже, свои действия объясняли якобы угнетённым состоянием рыбного рынка в Астрахани. Если даже в какой-то момент обстояло дело именно так, то секрета не составляет, что астраханский рынок по скупке и продаже частиковой рыбы (сельди, воблы, сазана, судака), главного источника существования населения Гасан-Кулийского района, находился в руках сплочённых крупных фирм и что Гасан-Кулийский район составляет только одну из ячеек, подвергавшихся воздействию этих фирм, в смысле установления цен на рыбу, а вошедшие в согласие на настоящее время в Гасан-Кули рыботорговцы действовали тоже под давлением материальной зависимости от подобных фирм и компаний. Наглядно это можно представить в виде пресса, на верхней крышке которого находятся астраханские дельцы-рыбопромышленники, под прессом, в самом низу, рыбацкое население, над последним – последовательно – подрядчики, мелкие скупщики, отдельно работающие на месте промышленники. Всё выжимаемое этим прессом попадает в их руки, а случайно, недожатое, прогрессивно уменьшаясь от фирмы к подрядчикам, перепадает некоторым из них. Ловцам остаются какие-то крохи».
Основные промысловые породы рыб Восточного Каспия:








«В 1893 году, – пишет он далее в своём донесении о сложившемся положении в Гасан-Кули – основном рыболовецком районе восточного побережья Каспия, – этот пресс был нажат с полной силой, а поэтому прошу принять на месте в пределах Гасан-Кулийского района меры, направленные к расслаблению вредного воздействия астраханских рыбопромышленников на участь рыболовецкого населения».
Как видим, царский чиновник довольно объективно изложил положение дел в Гасан-Кули, а таким оно было на всём побережье. Он просил вышестоящие власти принять необходимые меры к эксплуататорам, но меры приняты не были. Скупщики рыбы и рыбопромышленники по-прежнему жестоко эксплуатировали ловцов, а те по-прежнему жаловались на них, но безуспешно.
От подобных действий рыбопромышленников страдали не только мелкие рыболовы из местного населения. Состоятельные туркмены Якши Мамедов, Черкез Аман Клыч оглы, Мамед Анна Нуры оглы, Айваз Багдад оглы по примеру русских тоже пытались содержать ватаги. Но со временем пришлые рыбопромышленники при расчётах поставили их в такие условия, что те вынуждены были отдать свои ватаги в аренду последним. Самим же владельцам они предложили работать у себя в качестве подрядчиков. Таким образом, пришлые рыбопромышленники устранили со своего пути конкурентов и из числа местного населения. Кроме того, все дела по покупке рыбы у местных рыболовов обсуждались доверенными на гасан-кулийской ватаге крупного дельца всего побережья Бабаева, который диктовал, в частности, и цены на рыбные товары.
В 1897 году по соглашению Астраханского рыбного и тюленьего промыслов с начальником Закаспийской области генерал-лейтенантом Куропаткиным основан Красноводский рыболовный участок, отданный в ведение чинов Астраханской рыболовной полиции; этот участок всецело включал в себя морские берега Красноводского уезда. В Красновод-ском уезде была введена продажа рыболовных билетов сначала для пришлых рыбопромышленников и ловцов, а затем и для коренных жителей побережья. В 1898 году всем рыбопромышленникам и ловцам уезда было объявлено требование рыболовной полиции об обязательном представлении сведений об улове рыбы, а всем ловцам уезда – иметь на каждой лодке продольную верёвку под руль и киль. Такой контроль был введён с целью определения длины лодки, в зависимости от которой определялась величина налога на судно.
Положение рыбаков – туркмен, русских, киргизов и других национальностей побережья из года в год ухудшалось. Годы, когда рыбаки не могли рассчитаться с ватажниками, повторялись всё чаще и чаще. А тут всё новые и новые притеснения со стороны рыбопромышленников и со стороны властей: то менялись сроки лова различных пород, то запрещалось ловить прежними орудиями лова и снастями, то менялась стоимость билетов на право ловли.
В 1905 году жители местностей Челекен (Айдак) Огурчинский и Дарджа Закаспийской области из-за плохой погоды совсем не имели средств на содержание своих семей.
И рыбаки снова писали царскому правительству прошения. Они просили удлинить сроки лова рыбы, освободить от налогов или дать льготы по ним, помочь продовольствием голодающему населению в годы, когда заработка совсем не было.
В письме от 12 июля того года на имя Туркестанского генерал-губернатора они просят отменить постановление номер 3457, согласно которому запрещается лов рыбы с 15 июня до 1 августа. Этим же постановлением запрещено производить лов рыбы теми снастями, которыми они до сего времени пользовались, повышена стоимость билетов. И жители этих местностей просят распоряжения о предоставлении им права заниматься рыболовством прежними снастями, равно и разрешить им платить за билет на право ловли по-старому, то есть по одному рублю двадцать три копейки.
По документам не удалось проследить, что ответил им генерал-губернатор. Судя по многочисленным другим письмам и прошениям, положение их не изменилось.
Посредниками между царскими властями и населением были старшины племён, которые, казалось бы, должны защищать интересы народа, но это не всегда было так. В одних случаях, как говорят, «сытый голодному не разумеет», в других – боялись навлечь на себя немилость царских чиновников. Чаще было, когда рыбаки, не дождавшись от аксакалов никакой помощи, как мы уже знаем, сами писали просьбы начальнику уезда в Красноводск, а иногда и в Ташкент к генерал-губернатору. Или, собрав последние сбережения, отправляли нарочного в Санкт-Петербург к царю.
С пожелтевших от времени листов с ходатайствами рыбаков к царским властям слышны стоны простого народа, мольбы о защите…
Мне, как сыну рыбака, особенно понятны их переживания и надежды, выраженные в этих письмах. В одном из таких документов рыбаки Красноводского уезда в надежде найти справедливое решение вопроса, имеющего жизненно важное значение, подробно описывают состояние рыбацкого населения в один из многих тяжёлых сезонов.
Они пишут о том, что небывало суровая зима 1910–1911 года тяжело отразилась на ловцах Красноводского морского участка и на их семьях. Вследствие бурной непогоды они были вынуждены бездействовать в продолжении четырёх месяцев, проживая последние крохи и забирая в долг необходимые припасы. Особенно тяжёлое положение в конце той зимы создалось у туркмен, лишившихся почти всего скота. Голодное ловецкое население, перенося лишь благодаря способности, свойственной кочевникам, все ужасы продолжительной зимы, питало надежду на весну, когда можно было бы заняться ловом рыбы и когда рыбаки вздохнули бы немного легче. Но этим надеждам не суждено было сбыться: затянувшаяся зима отдалила начало лова рыбы почти на месяц. И хотя лов частиковой рыбы (исключительно судака) к северу от Красноводска начался в апреле, тем не менее ход этой рыбы всё время был слабый и только в начале мая улучшился. Но уже 5 мая на частиковое рыболовство наступил запрет. Насколько был неудачный лов судака у ловцов северного побережья Красноводского уезда, настолько был плох лов красной рыбы у ловцов-красноловов по всему побережью Каспийского моря. Было ясно, что все ловцы-красноловы Красноводского уезда в будущем году останутся в громадном недолове против прежних лет. Ведь даже в лучшие годы они могли только поддерживать своё существование, обходясь без долгов. Весна 1911 года отличалась особыми от прежних лет климатическими явлениями: температура воды держалась всё время пониженной, в воздухе не только тропической жары не чувствовалось, но по ночам приходилось одевать тёплую ватную одежду; во второй половине мая на море появились туманы – совершенно небывалое явление для южной части Каспия, которые тоже мешали лову. Безусловно, неулов рыбы явился прямым следствием плохих климатических условий того года, и поправить дело можно было лишь с наступлением более тёплой погоды, когда лов красной рыбы может улучшиться. Но 15 июня наступил запрет и на лов красной рыбы, и столь дорогое для ловцов время, когда лов может происходить в благоприятных климатических условиях, рыбаки находились в вынужденном безделье.
«Вы вполне поймёте наш ужас перед надвигающейся на нас бедой, если ходатайство останется без ответа, ибо осеннее рыболовство из-за штормов большого заработка не даёт, на него трудно надеяться. Поддерживает же наше существование в течение всего года лишь весенне-летний лов рыбы. Поэтому мы не только не оплатили сделанных за зиму и весну долгов, но и не заработали для своих семей даже на кусок хлеба» – пишут в заключение рыбаки в прошении на имя начальника Закаспийской области.
Царю и его чиновникам было хорошо известно, что у прибрежных жителей восточного побережья Каспийского моря единственным источником существования является рыболовство. Других занятий и промыслов на пустынных берегах, лишённых растительности и воды, у них не было. Поэтому единственной мерой к поддержанию существования рыболовов в тот тяжёлый год было разрешение лова красной рыбы в течение наступающего лета. Если бы царское правительство пошло навстречу рыбакам, то этим не был бы нанесён большой ущерб рыболовству, ибо площадь воды у берегов восточного побережья слишком велика для того, чтобы опасаться вылова рыбы малочисленным населением побережья. Закон о запрете лова в летний период был издан из чисто санитарных соображений, чтобы избавить рынок от недоброкачественных рыбных товаров, так как в тот период на побережье совершенно не было ледников. Накануне сезона 1910–1911 года, то есть осенью 1909 года, в самом центре красноловья на Красноводской косе, доступной по расстоянию для сбыта уловов ловцам местностей Тарты, Авазы, Ала-Тёпе, посёлка Петровского, островов Челекена и Огурчинского ватаговладельцами были выстроены и набиты льдом три выхода ледника. Это создало возможность не только принимать от ловцов рыбу в свежем виде, но и отправлять свежемороженную рыбу на рынок в Астрахань. Таким образом, препятствие, послужившее к введению запрета лова у восточных берегов Каспия, с устройством ледников само собой отпало. Но русские чиновники по-бюрократически продолжали блюсти этот закон, фактически утративший смысл.
Неизвестно, чем закончилось ходатайство рыбаков. Если даже царским правительством на этот раз и была сделана какая-то уступка, то в целом исправить существующее положение с ловом она не могла, а в таком тяжёлом положении рыбаки побережья оказывались не один раз.
В большинстве случаев, как мы уже видели, ходатайства рыболовов об неущемлении их прав перед царским правительством не увенчивались успехом. Лишь иногда оно шло на незначительные уступки, да и то преследуя определённую цель. Например, в связи с запретом лова красной рыбы этликами в Красноводском уезде, есаул Ливкин в 1903 году в заключении о положении дел в одном из бедствующих районов писал: «Запрет лова этликами-крючками в Красноводском уезде, включая и северную часть уезда, привёл к ухудшению положения рыбацкого населения, и последнее само стало ловить рыбу этликами (крючками) без билета… Такой безбилетный лов рыбы туркменами Красноводского уезда носит более политический характер, нежели экономический».
Но тем не менее этот протест против существующих законов был слепым, стихийным. Туркменский народ побережья тогда ещё не знал, что единственно правильным выходом из тяжёлого положения было объединение для мужественной и упорной борьбы с эксплуататорами.