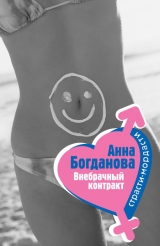
Текст книги "Внебрачный контракт"
Автор книги: Анна Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– А ты, Фрося, недалекого ума баба! – вспылила воспитательница детского сада и, повторив, что молочная кухня находится не где-нибудь, а в том самом магазине с огромными окнами во весь этаж, откуда в день последней зарплаты Любу со скандалом вышвырнули перед самым закрытием, нахлобучив на лоб вишневый свой берет, связанный крючком ее подругой Комковой, именем своим которой была я обязана, строевым шагом пересекла комнату и, со злостью хлопнув входной дверью, поплелась на пятый этаж четвертого подъезда того же дома.
На следующее утро та бабуля, которая чудом не задавила меня насмерть, встала раньше обычного и, запив две таблетки анальгина чифирем, отправилась в «стекляшку» за детским питанием.
«Все. Я – искусственница. Ничего хорошего из меня в этой жизни не получится, – с отчаянием думала я, лежа в своей кроватке. – Вырасту хилой, болезненной, ни на что не годной!»
В то самое утро я осмыслила собственную неполноценность в результате недополучения материнского молока. Однако главное – не только понять, но и суметь это постигнутое однажды использовать в дальнейшем.
Тот факт, что я была вскормлена на всевозможных суррогатах материнского молока, я припоминала потом постоянно. Стоило мне схватить «пару» по математике, разбить дорогую вазу, порвать о гвоздь рукав нового, первый раз надетого пальто или растянуться на ровном месте, как я, не давая никому и рта раскрыть, кричала удивленно:
– Нет, а что вы от меня хотите?! Я – искусственница! Неполноценный ребенок, оторванный пяти недель от роду от материнской груди!
«...Искусственница, искусственница! Что вы от меня хотите? Почему после тяжелого перелета, пинаемая в течение двух часов чьими-то острыми коленками в спину, я должна красить ваши дурацкие рамы с подоконниками?!» – возмущалось все мое существо, в то время как кисть в руке плавно скользила вдоль стекла, боясь его испачкать, а лицо замерло в дежурной приветливой улыбке.
Да, я была слишком хорошо воспитана, чтобы заявлять чужим людям, хоть они и надеялись со мной породниться, что я – искусственница. И вообще, кому это может быть интересно? Раисе, которая упорно называет меня «Дунночкой», несмотря на то, что мне это не по душе, – более того, злит и раздражает? Или красавцу Марату, который начал было красить подоконник с большим рвением, но через пять минут усвистел домой, сказав, что он оставил включенным обогреватель? Зачем, спрашивается, вообще трогать обогреватель, когда на улице стоит сорокаградусная жара и каблуки туфель остаются на раскаленном асфальте? (Замечу в скобках, что Марат с Эльмирой жили отдельно от ее родителей – а именно во дворе, в гараже дяди Соммера. Тот сразу же после свадьбы дочери продал машину и торжественно вручил новобрачным ключи от их новой «квартиры». Молодожены выгребли оттуда весь хлам, который копился годами, сделали ремонт, по стенам расставили кое-какую мебель – скромно, но со вкусом – и, втащив широкую арабскую кровать, зажили себе припеваючи.) Или Нуру, может быть, интересно, что я была оторвана от материнской груди пяти недель от роду? Что-то непохоже! Он с таким неописуемым наслаждением взялся за брошенный Маратом подоконник, будто не малярной работой был занят, а к небесам вознесся и увидел ангела.
От реконструкции окон меня спасло лишь появление Эльмиры – она набросилась на меня с радостными восторженными возгласами. Потом явился дядя Соммер – он хоть и не выражал столь бурно своих чувств, однако на его сдержанном красивом смуглом лице с темно-карими, как два сушеных финика, глазами, которое оттеняла белая, совсем седая, густая шевелюра, сквозила довольная улыбка, готовая вот-вот перерасти в смех. Во всем он такой – Соммер – уравновешенный, умеющий владеть собой в любой ситуации. Кажется, еще мгновение – и его сжатые, мало что говорящие по жизни губы разомкнутся, за чем последуют раскаты громового хохота или гневная обличительная тирада, разрушительный взрыв, искры молнии (в зависимости от обстоятельств). Но ничего подобного не происходило: взрыв, гром, молния, как и обличительная тирада, проглатывались и пропадали где-то в глубине души – наружу выходило лишь многозначительное: «Да-а...».
Последним заявился Марат – он якобы выключил обогреватель, и мы всей семьей (тут, кажется, все уже считали меня ее членом) уселись за стол. Раиса бегала из кухни в комнату с блюдами, тарелками, пиалами и стаканами. Она была недовольна мужем – какое-то его действие (не знаю точно, какое) привело ее в отчаяние, но моя будущая свекровь по обыкновению не подавала вида – губы ее как сложились в улыбке в момент моего появления, обнажив два заячьих передних зуба, так и застыли. Вообще она всегда улыбалась – даже когда бывала чем-то крайне недовольна. Улыбалась и молчала, затаив досаду и неудовольствие по поводу то взгляда, брошенного на нее, как ей показалось, косо, или (не дай бог!) слова, сказанного Соммером невпопад. Наверное, супруг ее и был немногословен оттого, что всю жизнь боялся обидеть Раису. И губы у него всегда сомкнуты, и все, что ему хотелось высказать жене своей, оседало, нарастая в душе, подобно накипи на стенках старого чайника. Такие между ними были отношения – и такая бывает любовь.
Наметав тарелки на стол, Раиса кинулась в спальню и через минуту вышла, считая себя самой красивой и неотразимой пятидесятипятилетней женщиной на всем Каспийском побережье. Она сняла платок – волосы ее, видимо, накануне моего приезда подверглись двадцатичетырехчасовой окраске хной (наверное, после этого в голову будущей свекрови и пришла мысль покрасить заодно рамы с подоконниками) и имели теперь ярко-оранжевый, неестественный цвет марокканских апельсинов. Брови и ресницы она густо начернила сурьмой, которая поставлялась сюда контрабандой из Турции, как и сверхстойкая химическая губная помада страшного зеленого ядовитого цвета в тюбиках, приобретавшая на губах более или менее естественные для людей тона – розовый или нежно-абрикосовый. Стереть такую помаду в конце дня было практически невозможно – все равно, что эффект лазерной косметологии.
– Дунночка, Мирочка, Маратик! Давайте-ка за стол! Нурик, поухаживай за гостьей! Какой же наш Нурик еще ребенок! Нурик, ты ведь мужчина! – пристала она к сыну, который отодвигал для меня то один, то другой стул, так что я совсем растерялась и не знала, куда пристроить свой многострадальный зад, пинаемый за компанию со спиной два часа подряд в самолете. – Вы посмотрите! Какой цыпленок! Какой он у нас еще цыпленок! – восторгалась Раиса сыном. – Дунночка, не обращай на него внимания – он стесняется, садись рядом с Мирочкой.
– Ничего я не стесняюсь! – ломающимся голосом, варьирующим на все лады – от фальцета до баса, воскликнул он и, вскинув по-петушиному голову, уселся на соседний со мной стул.
«Противный он и не нравится мне совсем! Какой из него муж?! Глупость, да и только!» – думала я, ковыряя вилкой ярко-лимонный рис плова.
– А плов принято руками есть! – весело заметил Марат и, ухватив горстку рассыпных зерен большим, указательным и безымянным пальцами, закинул ее в рот, но поперхнулся и надолго закашлялся.
Покраснел.
Эльмира поколотила его по спине маленьким твердым костлявым кулачком. Не помогло – лицо Марата сделалось кумачовым.
Нур вскочил со стула и от души принялся дубасить шурина, питая к нему явную неприязнь, вызванную ревностью к сестре.
Соммер, будто и не происходило ничего, наложил себе в тарелку долму и хладнокровно «раздевал» одну из них от виноградного листа.
– Может, вызвать «Скорую»? – растерянно предложила я.
Раиса, улыбаясь, резала трехцветный пирог на прямоугольники.
– Выпей шербета, – беспокойно предложила Мира и подсунула мужу пиалу со светло-янтарным напитком. Мучительный кашель прекратился, оставив после себя слабое похрюкивание.
«Интересно, мы поедем сегодня к морю?» – гадала я, не подозревая, что от дома Соммера до побережья нужно добираться на автобусе остановок семь, а потом долго идти пешком по удушливой, пышущей даже вечером жаре. И что на пляже полно народу – в основном мужчин: они играют в футбол, поднимая столбом почти белый, искрящийся песок. Женщинам (и тем более девушкам) одежду снимать не пристало – это, мол, стыд, да еще какой – стриптиз настоящий! Слабый пол появляется на городском пляже, чтобы поболеть за команду брата, мужа или отца, ну, в крайнем случае, полюбоваться незначительными, набегающими на брег волнами, на бескрайнюю водную стихию, сплошь покрытую радужными нефтяными разводами.
– Да и купаться-то там противно! Такое впечатление, что в мазуте плаваешь! – воскликнула Мира, отвечая на мой нелепый вопрос, который я все-таки произнесла вслух (не удержалась и спросила: «Поедем ли мы сегодня к морю?») – Если хочешь ополоснуться, пошли к нам – мы пристроили к гаражу душевую кабинку.
Стало быть, я летела за тридевять земель, дабы ежедневно ополаскиваться в душевой кабинке, пристроенной к гаражу, вместо того чтоб рассекать Каспийское море то брассом, то на боку, то баттерфляем – тем стилем плавания, который я долго отшлифовывала в бассейне под чутким руководством Павла Захаровича, моего тренера, лысого, длинного, с выпученными глазами, выражающими всегда одно и то же – недовольство. Кролем я пренебрегала, не видя в нем, кроме фонтана бессмысленных брызг и выбрасывания рук, словно на голосовании, никакой красоты. Не то что баттерфляй! Этот стиль мне казался почти искусством: находясь под водой, важно не только не задохнуться, но и провести там столько времени, сколько хватило бы на выписывание полукруга руками и лягушачьего толчка ногами! На море же я мечтала довести этот вид плавания до совершенства. «Неужели мне это не удастся?» – с ужасом подумала я, и на лице тут же отразилось недовольство, беспокойство и отчаяние. Моя физиономия имела способность выражать все, что происходило в моей душе, в голове и в сердце. Вечная улыбка Джоконды тут же сменялась надутыми губами капризного своевольного Купидона, во взоре появлялась суровость и неприязнь – взгляд такой близкие обычно называли тяжелым или говорили иногда: «Ну прямо рублем одарила...»
– А ты хочешь к морю? – спросила Эльмира, заметив перемену в моем настроении.
Еще бы!
Да. Я хотела к морю! Я жаждала увидеть ту линию вдали, где небо сходится с землей, ту порой пугающую, порой вызывающую восторг, спокойствие и умиротворенность водную бесконечную стихию, куда можно нырнуть с головой, оставив на поверхности все невзгоды, печали и даже неприятные воспоминания по поводу мреющего впереди тяжелым камнем, раскачивающимся из стороны в сторону, словно маятник, нового учебного года. Но не только это я стремилась увидеть и почувствовать. Еще что-то меня манило, притягивая, как булавку к магниту, к величайшему озеру Земли (хотя я не поддерживаю мнения некоторых, что Каспий – это озеро, так как по своим размерам, характеру процессов и истории развития это самое что ни на есть море) – что-то такое, что находилось в непосредственной близости с ним. А может, не что-то, а кто-то? Но тогда я не задумывалась об этом. Лишь подсознательно, на уровне интуиции, я ощущала это, и при одной только мысли о горько-соленой воде во мне все переворачивалось, трепетало, пульсировало, будто я предчувствовала впереди светлое, большое, новое, неизведанное чувство.
– Может, Дунночку отвезти к твоим родителям, Марат? – вмешалась Раиса – ей всегда хотелось кому-нибудь угодить, даже если этот кто-нибудь относился к ее «угождению» нетерпимо.
Помню, Рая как-то предложила дочери постирать их с Маратом постельное белье.
– Нет, мама, я сама постираю, – вежливо ответила Эльмира.
– Ах! Доченька, мне это совсем не трудно. Ты иди, я замочу.
– Не стоит, мама, – процедила доченька.
– Да отчего же не стоит, когда мне это совершенно не тяжело! Иди к Маратику, я выстираю.
– Мама! Я сама! – выходя из себя, но все же сдерживаясь из последних сил, прикрикнула Эльмира.
– Мирочка, мне доставит радость, что я освобожу тебя от этого неблагодарного занятия! Ступай к Маратику. – И она нетерпеливо принялась вытряхивать из тюка наволочки, простыни и пододеяльники.
– Я тебя об этом не прошу! Оставь в покое наше белье! Или я пойду стирать к соседям! – взорвалась, наконец, Эльмира.
– Но почему же сразу к соседям? – Мамаша поражала своей несообразительностью и упертой настойчивостью в желании помочь. – Зачем к соседям, когда есть я? Я все сделаю, иди к Маратику!
Дочь не выдержала – собрала в простыню белье, со злостью завязала узел и помчалась в пристроенную к гаражу душевую кабинку, где стирать было крайне затруднительно, несподручно – воды там мало, только та, что в баке. Можно было, конечно, при большом желании перестирать весь тот тюк, который Мира со злостью схватила и поволокла в кособокую кабинку душевой, но возможности отполоскать не было. Так и пришлось вешать его на уличную веревку, протянутую через весь двор от иберийского дуба к благородному каштану на всеобщее обозрение и осуждение (потому что соседи здесь с чрезвычайной скрупулезностью рассматривали и оценивали чистоту чужого белья, раздуваемого подобно парусам сильным северным ветром Апшеронского полуострова), все в мыльных от порошка пузырьках.
Раиса в растерянности развела руками, с недоумением глядя на захлопнувшуюся с грохотом входную дверь. Потом затаила, видать, обиду на дочь – замолкла. Два заячьих передних зуба обнажились, на лице снова появилась блаженно-издевательская, наполненная равнодушием улыбка, продержавшаяся до глубокого вечера, точнее, до того момента, когда она, отвергнутая со своей навязчивой помощью, сомкнула глаза и заснула беспробудным сном.
И к чему нужно было с таким рвением и упорством предлагать свои услуги? Тем более что в них не нуждались! Их сторонились и избегали по каким-то причинам. Действительно, мало ли что там могло быть! – на белье молодоженов? Ясно одно – ни под каким видом это «что-то» не должно было открыться взору навязчивой мамаши, а то бы с чего Мира с такой решительностью и раздражением шарахнула входной дверью и удалилась в кособокую душевую отстирывать наволочки с простынями и вешать их мыльными на веревку между благородным каштаном и иберийским дубом? Для пересудов и сплетен соседей? Не думаю.
– Мои только обрадуются приезду Дуняши! И до моря от нашего дома рукой подать! И пляж безлюдный, дикий – никто пялиться не будет! Дунь, поедешь? – все еще покашливая, спросил Марат.
– Да! – восторженно отозвалась я. Как можно было отказаться от такого предложения? Я и прилетела-то сюда вовсе не для того, чтобы укрепить отношения с цыпленком Нуром – я хотела отработать и довести до совершенства свой баттерфляй, рассекая соленую воду Каспия, чтобы по приезде в Москву блеснуть перед Павлом Захаровичем. Чтобы его выпученные глаза выразили наконец не раздражение и досаду, а что-то другое. Восторг, например. Хотя нет, мой тренер на восторг не способен – скорее всего я испытаю под его взором либо чувство глубокого удовлетворения – мол, не пропал напрасно мой труд – из этой девицы, может, и получится что-то путное. Или, быть может (что очень даже вероятно), выпученные глаза его так и останутся недовольными, с той лишь разницей, что недовольство это будет нести в себе совершенно иной оттенок и смысл – глубокую, злобную зависть. Вот что оно будет в себе содержать! «Как это так?! И что это за хамство такое? Эта соплюшка плавает баттерфляем лучше меня! Находясь под водой, она не задыхается – ей хватает времени, чтобы сделать полукруг руками и лягушачий толчок ногами, и при этом никакой прежней ненужной размашистости в движениях – все точно, синхронно! Вот мерзавка!» Наверняка все это пронесется в лысой голове Павла Захаровича. Я в этом не сомневалась, потому что всерьез намеревалась заняться плаванием в настоящей водной стихии, а не в каком-нибудь там хлорированном плевке Левиафана.
– Маратик! Я тебя так люблю! Дорогой Маратик! – взвизгнула вне себя от радости Мира, заметив, что капризные губы Купидона на моем лице опять сменила загадочная, умиротворенная улыбка Джоконды. – И мы все поедем туда завтра вечером! Ведь завтра пятница – последний рабочий день! – Возбуждение ее, кажется, достигло наивысшего предела – она тараторила и тараторила без умолку. – Там у Азы с Арсеном – у Мараткиных родителей – виноград растет! Они все лето проводят там! Двадцать минут от моря!
– Дунночка, тебе там понравится! – умудрилась вставить в бурную речь дочери Раиса и заулыбалась так старательно, что, помимо кроличьих зубов, показалась ее верхняя десна.
– Дуня может жить на даче, сколько захочет! – великодушно проговорил Марат и пристально посмотрел мне прямо в глаза, отчего мне на душе стало не по себе, а по спине стайкой пробежали мурашки – слишком хороши, глубоки у Мириного супруга были глаза, и выражали они нечто такое, что ни при каких условиях нельзя было показывать – нечто запретное, недозволенное. Я не поняла, но почувствовала, что он в эту минуту, пытаясь заглянуть внутрь моей души, принимал меня не за полудевушку-полуподростка, а видел во мне настоящую женщину, которой заинтересовался в одно мгновение.
После ужина Мира с Раисой мыли посуду на кухне, Соммер, сидя на балконе и слушая сына, нехотя кивал время от времени почтенной своей седой головой в знак согласия или одобрения, я убирала со стола, Марат листал потрепанный томик стихов с пожелтевшими страницами.
– Когда на грани смерти жизнь, – мне только ты нужна,
Утихомирит сердца боль любимая одна.
Изныло сердце от тоски, доволен я и тем, что каждый вечер у твоих дверей брожу без сна, – с чувством продекламировал он и вдруг схватил меня за руку и снова посмотрел в глаза. Взгляд его был завораживающим, гипнотическим – он будто проникал внутрь меня сквозь очи и, минуя глотку, трахеи, ребра, легкие, пытался добраться до сердца и зародить в нем чувство... Чувство сладостное, порочное – аморальное просто-напросто! Мне показалось – еще секунда, и он поцелует меня. Вот ужас-то! И зачем я только приехала сюда?! Я с силой отдернула руку, и все тарелки с пиалами, что были в ней, грохнулись на пол, разбившись вдребезги.
– Что случилось?
– Ой! Разбила?
«А что вы от меня хотите?! Я вообще искусственница! Пяти недель от роду была оторвана от материнской груди! Вот причина слабости рук!» – едва не сорвалось у меня с языка.
– Ничего страшного! Мы сейчас все соберем! – приветливо улыбаясь, проговорила Мира.
– Это я виноват! Начал было читать Дуне стихи, увлекся и за руку ее схватил, а она от неожиданности всю посуду разбила, – не таясь, по-детски просто признался Марат и тут же добавил ни к селу, ни к городу: – Посмотрите, а правда, Дуня какая-то особенная стала после того, как мы предложили ей на море поехать? Такая загадочная, таинственная... Дуняша, где ты спрятала свою тайну? Признавайся! Она в ней, в ее лице. Сейчас попытаюсь разгадать... – самоуверенно заявил он – Марат ведь был милиционером! – В губах! – осенило его. – Смотрите! – И он снова схватил меня за руку. – В них спрятан секрет, о котором никто из нас не знает! И она сама этого, наверное, не знает! А, Дуня, признавайся, что ты задумала?
– Ничего, – растерялась я, но потом брякнула: – Отработать баттерфляй на море, чтобы сразить наповал своего тренера по плаванию. – Они засмеялись, а я почувствовала, что не один только баттерфляй намереваюсь отрабатывать на море. Что-то еще. В душе вдруг зародилось странное чувство, не известное мне до сих пор – чувство истомы, томления, лихорадочного возбуждения (как после прочтения любовной записки от Петухова, что проплыла по всем рядам: от последней парты у стены до третьей у окна – только подобной истомы с томящим ожиданием чего-то волшебного, нового и острого тогда я не испытывала).
– Ой ли?! – весело усомнился Марат и с задором спросил: – А правда, Дуняша – красавица? Она так хороша, что жаль ее за Нурика замуж выдавать!
– Ах, ты! Ах ты, гад! – И мой жених налетел на шурина с кулаками. Они оба рухнули на кровать и завозились в шутливой баталии.
– Какой же ты, Маратик, сумасброд! – заливалась Раиса, радуясь, что по уму ее двадцатипятилетний зять недалеко ушел от шестнадцатилетнего сына.
– Чудило ты мое! – И Мира потрепала его за густой вихор, который потешно вздыбился на его голове в порыве их с Нуром дуракаваляния. Жест этот, как, впрочем, и брошенное ею «чудило ты мое», выражал не только восторженность мужем и проявление любви. Скорее это указывало на то, что Марат – ее, целиком и полностью: и мысли, что крутятся в его вихрастой голове; и выразительные глаза с прожигающим взором, соединительными тканями, веками, чечевицеобразными хрусталиками, непрозрачными склерами и роговицами; и горячая кипучая кровь, определяющая его бешеный темперамент, выбрасываемая левым желудочком в аорту, поступающая потом в артерии, артериолы и капилляры органов и тканей; и сами эти ткани, и органы, включая желудок, селезенку, кишечник, почки, печень – все в нем, до последней клетки, до вздоха, принадлежало ей, являясь неприкасаемой и безусловной ее собственностью.
Я отошла к окну и, задумчиво глядя на развевающиеся на ветру нижние разноцветные юбки, прищепленные к веревке, всем своим существом ожидала – когда придет это огромное нежное и одновременно страстное до дрожи в коленях чувство? К шестнадцати годам я наконец созрела для любви! Засыпала я в тот вечер с одной мыслю: «Поскорее бы завтра, поскорее бы к морю. Завтра должно что-то произойти! Непременно должно – иначе и быть не может».
* * *
Конечно, по-другому и не могло быть. «Сколько же лежать в больнице! Ребенок брошен на попечение бабок, питается какой-то гадостью из растворимых смесей! Безобразие!» – так думала я, погружаясь в сладкий сон, лежа в своей кроватке.
А на следующий день из больницы наконец вернулась мама, подхватила меня на руки, принялась целовать, приговаривая, что очень по мне соскучилась и жить без меня совсем уж теперь не может. От нее пахло «своим» запахом – родным, знакомым. Пахло полынью и чем-то сладким – настолько, что я укусила ее беззубым ртом за щеку. Я тоже соскучилась, жила все это время без нее тяжело (чуть было не стала жертвой собственной бабушки и едва не была ею удушена) – все это мне не терпелось рассказать ей, и я начала было говорить, но матушка ничего, конечно, не поняла: она продолжала осыпать меня поцелуями, и тогда в знак глубочайшего восторга и радости я описалась. А как еще выразить свои чувства, если тебя не хотят слушать?
– Вот ты как мамку встречаешь! Хулиганка маленькая! – И родительница моя залилась счастливым смехом.
А что? По-моему, очень достойно встречаю! По крайней мере, хоть какая-то реакция с моей стороны. Было бы лучше, если бы я лежала, как резиновая кукла, или завизжала бы на весь дом?
В тот же день, точнее будет сказать, ближе к вечеру, когда и без того темные комнаты нашей квартиры утонули в сизо-лиловых сумерках, мне пришлось встретить еще кое-кого.
Баба Сара появилась на пороге все с теми же мешками, с какими я ее видела в последний раз. Только теперь оба они висели на ее правом плече, что свидетельствовало об их относительной легкости.
– Ой! Накулечка моя! – воскликнула она и, сбросив с себя ношу, подскочила к кроватке, пытаясь поцеловать меня в пухлую щеку, которая раздулась (как, впрочем, и все мое тело) вследствие неумеренного поглощения молочных смесей. Она уперлась своим длинным носом мне в ухо, а потом чуть было не выколола им глаз, и я тут же безутешно залилась в плаче.
Надо сказать, с того момента, как старуха вывалилась у рынка из машины «Скорой помощи», ее до сих пор никто не видел. Распродав всю картошку с капустой, она поехала к своим многочисленным родственникам, которые обосновались всем скопом на окраине города в так называемых «Новых домах». Прожив там дня два, она, подцепив Катьку – внучатую племянницу лет двадцати, с круглым лицом и маленькими, несоразмерными с ним глазенками, – метнулась на Казанский вокзал и, купив два билета в общий вагон, отправилась в Саранск. Хотя некоторым могут показаться нижеследующие описания событий совершенно ненужными и никчемными. При чем тут поездка бабы Сары в Саранск, да еще с какой-то малоизвестной Катькой? Но уж простите, я не могу обойти это событие стороной, потому что оно имело место быть – это, во-первых, потому что оно лучше раскрывает характер Галины Андреевны – это, во-вторых, оно, как ни странно, вносит логичность в мое скромное изложение и, наконец, имеет прямое отношение ко мне, поскольку я – ее внучатая племянница. Согласитесь, это кое-что да значит! Следовательно, ее родня – моя родня и я не могу, просто не имею права оставить всех их без внимания.
Итак, в Саранске баба Сара договорилась за бутылку самогона и батон колбасы, чтобы водитель «каблука» довез их до деревни Кобылкино. Однако то ли дороги размыло, то ли их занесло – шофер остановился у необозримого заснеженного поля (а может, то была и степь), наотрез отказавшись ехать дальше.
– Енто как так? – спросила Галина Андреевна и уставилась на него своими неморгающими глазками – вылезать из машины она не собиралась.
– Да так! До Кобылкина вашего только по степи можно пробраться! Ножками, ножками!
– Сиди, Катьк! – приказала Сара, не сдвинувшись с места.
Они бы, наверное, и заночевали в машине, если б хитрая старуха не почувствовала, что мужик обладает таким же упрямством, каким и она сама, и если б не торопились они с Катькой увидеть родных до наступления темноты. Бабка схватила батон колбасы – плату за половину дороги – и юрко спрыгнула на землю.
Пройти семь километров пешком по мертвому полю, качаясь и падая в снег от сильного порывистого ветра – это еще полбеды, жаловалась мне она, укачивая перед сном. А вот те же семь километров протопать с большущим чемоданом, с огромными сумками, мешками и авоськами, набитыми до отказа батонами колбасы, апельсинами, маслом, как подсолнечным, так и сливочным, банками тушенки, сгущенки, лосося и т.д., и т.п., вплоть до дрожжей и сахара для изготовления самогона, без которого, как без воды, жители деревни Кобылкино никак не могли обойтись – это потруднее будет!
Но она доплелась! Спотыкаясь, шатаясь, волоча ношу, застревая ногами в снегу и оставляя в нем валенки, в течение четырех часов глядя на голое, как яйцо из-под курицы, белое поле. Лишь кое-где – то там, то сям – попадался им сухой ковыль, ломающийся и пригибающийся к земле от ветра. А может, это и не ковыль был, а еще какая-нибудь степная трава, которая по недоразумению пробилась из-под снега и с невероятным упрямством ждала весны, надеясь замешаться с культурными злаками среди золотистых нив и еще, чего доброго, закрутить любовь с пшеницей и опылиться.
Только увидели они вдали чернеющую в сумерках деревню на пригорке, только бабка отсчитала три избы справа (счет, напомню, ей всегда удавался!) и, распознав белые (словно знамена, выкинутые для приостановки битв и переговоров) ставни отчего дома, как сил у них неизвестно откуда прибавилось, и они с племянницей побежали наперегонки, волоча, закидывая, подбрасывая вперед себя сумки и мешки – короче говоря, последний отрезок пути они разогревались тем, что играли в футбол, а мячом им служили многочисленные авоськи с продуктами питания. Наконец, забив гол в калитку, они оказались в заснеженном огороде у разросшейся пристройками избы, и Сара с грустью и печалью тяжело вздохнула и молвила:
– Вот если бы мне такой большой огород дали в пользование... – и мечтательно добавила: – Я бы там тоже избу большую построила.
Бабка провела в Кобылкино две недели – первая из которых ушла на мытье в чужих баньках по-черному. Вся деревня звала ее помыться непременно в своей бане – отказ был равноценен тяжкому оскорблению и расценивался как неуважение, презрение и несоблюдение приличий.
– Я бы тоже обиделась, если б ко мне в баню мыться не пошли, – шептала она мне на ухо перед сном, укачивая.
В предбаннике с низким закопченным потолком непременно стояли стол и лавка. На столе – самовар или, в крайнем случае, чайник с чашками, тарелка соленых огурцов и буханка серого хлеба грубого помола. Самовар был всегда холодным, а вместо кипятка он был заполнен самогоном. В Кобылкино вообще чаевничали в высшей степени странно – к вечеру накрывали стол, если можно так выразиться, потому что, кроме жареной картошки на сале и соленых огурцов, на нем ничего не было. Так и ели весь год одну жареную картошку на сале, пока не приезжал кто-нибудь из Москвы и не привозил гостинцев: колбасы, тушенки, сгущенки, апельсинов и лосося в консервной банке. За один вечер все, что тащилось семь километров по степи с большим трудом, немедленно съедалось, а на следующий день на столе снова стояла глубокая чугунная сковородка с картошкой, жареной на сале, да горка соленых огурцов. После ужина обычно чаевничали. Ставили посредине холодный чайник с чашками...
Странным образом действовал чай на кобылкинцев – кого не в меру веселил, кого-то тянуло на подвиги – и тут же, не выходя из дому, затевался кулачный бой, кто-то (в основном женщины) пускались в пляс, топчась на одном месте, и их дородные тела тряслись, как холодец – видимо, от употребления с утра до вечера одного картофеля, а кто-то затягивал печальную песнь – от все той же осточертевшей жареной картошки.
Баба Сара «чай» не пила, но отказаться от бани считала ниже своего достоинства, и всю неделю только и делала, что драила себя мочалкой, парилась, выбегала на улицу повалять свое сухое, усмиренное постами тело в снегу. На восьмой день она скрипела от чистоты, а на девятый принялась агитировать Алду – свою сестру – и ее дочь Клавдию отправиться с ней в Москву, дабы столичные «дохтура» излечили последнюю от страшного недуга.
Дело в том, что Клавдия этим летом перенесла сильнейший стресс, в связи с чем совершенно разучилась разговаривать. Ее младшая дочь – Любка – на ее же глазах провалилась в выгребную яму и начала тонуть. Рядом никого не было: бабы в степи и день и ночь выгуливали коров, мужики в трех километрах от деревни вяло и не торопясь строили очередной курятник. Клавдия в ужасе глядела, как в зловонной жиже исчезли сначала дочерины плечики, потом ручками она перестала биться, а потом и захлебываться уж было начала. Мамаша растерялась совершенно, не зная, что бы ей предпринять для спасения утопающей на глазах дочери. Первым делом заголосила, запричитала, но руку подать чаду ей как-то и в голову не пришло. Орала она минут двадцать – даже после того, как Любку вытащил Никита – ее муж, который чудесным образом оказался дома (прибежал со стройки за «чаем»), и в конце концов сорвала себе голос. С тех пор изъяснялась только жестами. Пробовали ее лечить в Саранске – но то ли врачи не такие ученые там были, как в Москве, то ли случай оказался настолько тяжелый, что лечению никакому не поддается.








