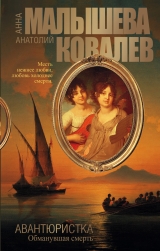
Текст книги "Обманувшая смерть"
Автор книги: Анна Малышева
Соавторы: Анатолий Ковалев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– По-моему, это похвально, отец, когда дворянин имеет какое-то дельное занятие, – не уступал Борис. – Не всем же быть офицерами или помещиками.
– Ну да, ну да… – иронически закивал Илья Романович. – Все в духе новейшего времени, по моде… Тем более у него все равно нет ни гроша.
– Он зарабатывает деньги собственным трудом, – вспыхнул Борис, – и это не может не вызывать уважения!
– За твое лечение он, очевидно, тоже возьмет деньги, – с ухмылкой предположил князь. – Любопытно услышать, сколько он потребует!
Архип перекрестился. Борис, видя, что его аргументы не действуют на отца, замолчал. На бледном лице князя играли молнии. Новость о возвращении Глеба почти затмила радость от выздоровления любимого сына. Впрочем, Глеба Илья Романович вовсе не считал сыном и все эти годы просто старался не думать о нем. И вот ненавистный отпрыск, заполучивший его фамилию лишь в результате обмана, вернулся, спас жизнь Борису, и князь не мог его вышвырнуть из дома… Теперь он был ему обязан.
– Глеб сейчас, вероятно, наверху? – внезапно сменив тон с издевательского на серьезный, спросил князь. – У больной девицы Маргариты Назэр?
Борис, которого осведомленность отца застигла врасплох, утвердительно кивнул. Илья Романович резко развернулся и стал подниматься по лестнице на второй этаж.
– Погодите, отец! – воскликнул Борис, покачнувшись от неожиданно охватившей его слабости. – Я должен кое-что вам сказать… Я хочу признаться, что…
– Ну, так говори! – остановился князь. – Видно, сегодня мне весь день придется выслушивать признания!
– Там… в той комнате… эта девушка очень больна сейчас… ее никак нельзя беспокоить! – запинаясь, выпалил драгунский офицер, и лицо его залилось стыдливым румянцем, как в детстве. – И она мне безмерно, бесконечно дорога! Не тревожьте ее, заклинаю вас памятью покойной матери!
Князь помедлил минуту, что-то обдумывая, разглядывая носки своих сафьяновых сапог, затем поднял глаза, принявшие загадочное выражение… Его бледные губы вздрогнули. Это должно было означать улыбку.
– Мальчик мой! – с глубоким чувством произнес он. – Как ты мог подумать, что я иду туда затем, чтобы кого-то обеспокоить? Я лишь хочу приветствовать наших дорогих гостей…
Когда под его торопливыми шагами заскрипели ступени ведущей наверх лестницы, потрясенный Архип перекрестился вторично.
* * *
То утро было для Майтрейи тяжелым. Глеб, еще не дождавшись рассвета, пришел наверх и неотлучно оставался рядом. Лечение ядами возымело действие – жар у принцессы спал. Но при этом ее какое-то время сильно лихорадило, а потом она вдруг замерла, не подавая признаков жизни. Доктор исколол ей обе руки, едва отыскивая вену, вливая раствор, который должен был вернуть Майтрейи в этот мир. Однако она как будто пребывала в глубоком обмороке. Это страшно беспокоило Елену, да и Глеб признавал состояние девушки крайне тяжелым. Его пугало то обстоятельство, что пульс время от времени исчезал, не прощупывался вовсе, словно сердце дало сбой. Между тем он влил ей уже более литра раствора.
– Придется прибегнуть к самым отчаянным мерам, – сказал он виконтессе и добавил странную для себя фразу: – Видит Бог, я этого не хотел.
Он закрыл глаза и на миг представил доктора Гааза, молящегося у статуи святого Антония Падуанского. Потом послал Мари-Терез в аптеку за ртутью и белым мышьяком, а кузине посоветовал молиться, если она еще помнит, как это делают.
Елена встала на колени перед иконами, оставленными здесь когда-то Евлампией, оглянулась на постель больной раз, другой… Перекрестилась и начала шептать молитву.
Когда князь Илья Романович осторожно открыл дверь, виконтесса все еще молилась, а доктор вводил принцессе в вену очередной шприц с раствором. Они его не видели.
– Так быстро обернулась, Мари-Терез? – спросил по-французски Глеб, не поворачивая головы. – Неужели в аптеке все закончилось?
Князь несколько растерялся и не знал, что на это ответить. Возникла пауза. Елена обернулась и при виде своего заклятого врага вздрогнула и тотчас поднялась с колен. Но Белозерский против всяких ожиданий даже не смотрел в ее сторону: его взор был обращен к сыну, который также оглянулся и замер, узнав отца, которого не видел семнадцать лет. Теперь, когда они оказались лицом к лицу и взрослый сын смотрел в глаза своему былому мучителю, убийце своей матери, их сходство поразило Елену. То было одно лицо, с породистыми крупными чертами, со странным жестким выражением серых глаз, одна и та же брезгливая, упрямая складка губ… У нее невольно сжалось сердце – Глеб явился мстить своему двойнику!
Борис, с помощью поддерживавшего его Архипа добравшийся до дверей, жестом отчаяния извинился перед Глебом за вторжение.
Пауза все затягивалась, и первым нарушил ее доктор.
– Извините, князь, что не могу в данную минуту встать и поприветствовать вас, – с подчеркнутой вежливостью, граничащей с издевкой, начал он, – как это принято в обществе. Я занят, как видите, вливанием солевого раствора в вену больной, умирающей от холеры. Вливание это необходимо производить как можно медленнее, дабы не поднять артериальное давление.
– Благодаря этим вливаниям, отец, Глеб и вернул меня к жизни, – робко вставил Борис, дрожавший всем телом не столько от слабости, сколько от страха перед скандалом, который мог сейчас разразиться у постели обожаемой им девушки. Не сумев остановить отца, он уже мысленно видел себя виновником ее смерти.
Но того, что последовало, не ожидал никто.
– Глебушка, сынок… – громкий, истеричный, какой-то механический шепот, сорвавшийся с губ Ильи Романовича, лишил всех присутствовавших дара речи и движения. Глеб смертельно побледнел. – Если бы ты знал, сколько я думал о тебе все эти годы! Прости дурного отца, лишившего тебя дома и детства! Прости, если можешь простить! Бог велел прощать врагов… Отец простил блудного сына, ты же помилуй блудного отца!
И он предпринял довольно заметную попытку преклонить колени перед Глебом, чем придал бы всей сцене некоторое сходство со знаменитым полотном Рембрандта, если бы сын прервал производимую им процедуру и согласился его обнять. Впрочем, колени Белозерского так и не были окончательно преклонены, он выпрямился, и все остались на своих местах.
– Я был подлецом! Чудовищем! – Теперь князь заговорил в голос. – Я желал твоей смерти! За это я буду гореть в аду!
В этот миг он взглянул, наконец, на Елену, желая проверить произведенный эффект, и наткнулся на ледяной взгляд, от которого его передернуло. «Дурно сыгранный спектакль!» – читалось в ее глазах.
– Я не знаю, что вам отвечать… – произнес, наконец, Глеб. Он закончил процедуру и, опустив глаза, чтобы не видеть отца, с мольбой протянувшего к нему руки, положил опустевший шприц на полотенце. – Все это уже ни к чему…
– Отец, милый отец, я до сих пор так мало вас знал! – Борис, растроганный порывом князя, принял все за чистую монету. – Это… Прекрасно! Я мечтал об этом дне так долго! Глеб, обними же отца!
Он делал брату красноречивые знаки, но тот не двигался с места и хранил молчание. Архип тихонько молился. На губах Елены показалась улыбка, от которой князю сделалось дурно. Так мог улыбаться призрак, подошедший ночью к изголовью своего убийцы.
Князь предпринял последнюю попытку.
– Прости меня, Глеб! – хрипло добавил Илья Романович, берясь за сердце. – Ведь я уж не молод… Никому не признавался, но теперь скажу… С недавних пор ни одной ночи у меня нет спокойной, такие страшные боли вот здесь… – Он передвинул руку выше, заметив испытующий взгляд молодого доктора. – И еще здесь… Жизнь моя была нелегка! Прости меня и позволь старику умереть с разбитым, но спокойным сердцем…
Борис, изнемогая от тревоги, вопросительно смотрел на брата. Глеб, избегая его взгляда, молчал. Виконтесса продолжала улыбаться. В воздухе повисло что-то тяжелое, давящее, близился взрыв, словно в заминированной горной породе огонь почти дошел до конца фитиля… И вдруг будто из-под земли раздался тихий, журчащий голос:
– Глеб Ильич… Глеб Ильич… Простите вашего папеньку…
Все взоры устремились к умирающей принцессе, о которой на время забыли. Майтрейи лежала с полуоткрытыми глазами.
– Господи, неужели спасена?! – воскликнула Елена, бросившись к воспитаннице. Схватив ее руки, она жарко их расцеловала. Девушка попыталась ей улыбнуться.
Илья Романович, не ждавший уже избавления, также осмелился приблизиться к постели. Почтительно поклонившись и утирая самые настоящие слезы, выступившие на его глазах от пережитого волнения, он с трепетом произнес:
– Сударыня, не знаю, чем я более счастливо потрясен: вашим ли исцелением или милостью, которую вы мне оказали, посетив мой скромный дом…
При последних словах он с тревогой взглянул на Елену, но, видя, что та не собирается в данный момент обвинять его в присвоении родового дома Мещерских, радостно продолжал:
– Для такого несчастного старого грешника, как я, нет большего блаженства, чем оказать гостеприимство ангелу… Настоящему ангелу, сударыня, который одним словом примирил все сердца, уничтожил вражду и дал мне, сударыня, робкую надежду, что я не умру все-таки без прощения моего милого младшего сына…
Елена взглянула на него в упор, но, не желая тревожить Майтрейи в минуту кризиса, когда жизнь девушки еще висела на волоске, промолчала.
– Молю вас, милый ангел, мадемуазель Назэр, – голос князя зазвучал так нежно, что по лицу виконтессы пробежала судорога отвращения. – Не откажите мне в милости: оставайтесь в моем доме гостьей не только вплоть до вашего полного выздоровления, но и впредь… Сколько вам и вашим друзьям заблагорассудится! Нет, не гостьей, но полной хозяйкой этого дома!
И, произнеся последние слова, раздраженно обернулся к двери:
– Борис, поди же сюда! Приветствуй нашу прелестную гостью! Проси и ты, проси же!
Глеб, немедленно уяснивший себе тайный смысл этого монолога, задохнулся от ярости и, ничего не сказав, выбежал из комнаты, так что Архип, стоявший в дверях, едва успел отскочить. Брат, с которым он разминулся, взглянул на него с изумлением. Во дворе доктор налетел на Мари-Терез, спешившую из аптеки. Она выронила пакеты с лекарствами и вскричала по-французски:
– Доктор, куда же вы?! Я все купила, с таким трудом нашла, и что мне с этим делать?
– Выбрось все, к чертовой матери! – ответил он, не оборачиваясь. – Ничего больше не нужно, все счастливы и здоровы!
…Знакомый с детства яблоневый сад, куда он забрался, встретил его крепкими сладкими запахами опадавших листьев и гниющих на земле паданцев. Яблоки в этом году по случаю холеры никто и не думал обирать. Глеб спустился к Яузе. Там, на берегу, по сию пору красовалась ажурная беседка Мещерских, уже полусгнившая. Глеб поднялся по рассевшимся ступенькам, упал на скамью и, сжав горевшие виски ладонями, дал волю яростным слезам. «Я спас их друг для друга! Их спас, а себя погубил! Борис – красавец, офицер, поэт, ничем не запятнал своего титула… Она… Она… Никогда я не видел такого лица, лица золотой Лакшми, и никогда я его больше не увижу! Конечно, она предпочтет его! И потом, кто я такой теперь? Разве я мог бы предложить ей свою руку?! Но если бы… – Глебу в голову приходили страшные мысли, которые он пытался оттолкнуть. – Если бы Борис умер, тогда у меня была бы еще надежда…»
Он плакал мучительно и страшно, как плачет скупой на слезы человек, утративший единственную зыбкую надежду на будущее счастье, и первое утро октября медленно разгоралось над притихшей Москвой, корчившейся в судорогах эпидемии.
Глава третья
Доктор Гааз молится снова. – Как во время эпидемии женятся. – Как во время эпидемии взыскивают долги. – Воронья охота императора
За первые две недели бушевавшей в городе холеры Москву покинули более шестидесяти тысяч ее жителей, примерно пятая часть населения. Впрочем, в газетах, дабы избежать паники, писалось всего лишь о десятке смертей от неизвестной болезни. Сообщалось, что доктора доискиваются происхождения «сей язвы», словно повозки с трупами, колесившие по всему городу, были миражом. Впрочем, москвичи еще с двенадцатого года, со времен афишек Ростопчина, перестали доверять лживой прессе и, как тогда, бежали, не веря никому.
Только первого октября было официально объявлено, что в Москве холера и город на время мора будет закрыт для въезда и выезда «для охранения от заразы прочих губерний и Петербурга». Однако в тот же день последовало «обвещение» от полиции, что желающие все-таки выехать из Москвы должны заранее присылать свои экипажи для окуривания хлором. На заставах теперь выстраивались очереди из карет. Доктора внимательно осматривали выезжающих, и любой мало-мальский симптом болезни, будь то лихорадка, жар, испарина на лбу, вызывал подозрение, и человек уже не мог покинуть город.
Император каждый день посещал какую-нибудь лечебницу, разговаривал с докторами, подбадривал больных, желая им скорейшего выздоровления. Посетив Старо-Екатерининскую больницу, был немало удивлен количеством ванн, как на каком-нибудь курорте в Европе. Даже теперь, когда Федор Петрович Гааз получил из рук своих молодых коллег, пожалуй, самое эффективное средство против смертности при холере, он все равно не отказался от травяных ванн.
– Больной через ванны скорее восстанавливает силы, отнятые у него болезнью, – пояснял он государю.
Точно так же и смоленский доктор Хлебников в Мещанской больнице, оповещенный Гаазом и вовсю начавший применять вливания посредством шприцев, не отказался от обертываний в простыни, пропитанные уксусом, и накладывания распаренной соломы.
– Шприцев у нас еще не так уж много, ваше величество, – отчитывался смолянин перед императором, – да и каждому надо ввести не менее десяти штук, а уксуса и соломы предостаточно.
Доктор Михаил Антонович Маркус, главный врач Голицынской больницы, ярый противник гомеопатии и «прочего мракобесия», продолжал лечение магнезиями. Сульфат магния (иначе «английская соль») применялся в основном при запорах и головокружениях. При холере магнезии были малоэффективны, хоть и задерживали на какое-то время в организме воду. У Гааза Маркус позаимствовал купание больных в травяных ваннах. Процент смертности у него был выше, чем у других, и губернатор Голицын пригрозил знаменитому доктору, что лишит его места. Но даже тогда Михаил Антонович не отдал распоряжения закупать в аптеках гомеопатические средства. Торжество науки над мракобесием для него было превыше всего. Шприцы с солевым раствором помогли Маркусу сохранить место так же, как многим в эти дни сохраняли жизни. Записку о новом способе лечения он получил от Гильтебрандта-старшего, и, доверяя его авторитету, в тот же день начал делать больным вливания. Впрочем, магнезии так и не отменил.
– Сульфат магния позволяет замедлить быстротечный исход болезни, задерживая в организме больного воду, – внушал Михаил Антонович императору, – у меня не было ни одного случая, чтобы пациент умирал в течение двух – четырех часов, как это не раз происходило у других докторов…
Так или иначе, в борьбе с эпидемией наступил переломный момент, несмотря на то, что смертность была еще очень высока.
Пятого октября государь хотел, наконец, посетить Университетскую лечебницу, тем более что губернатор московский называл Гильтебрандта-младшего и его заместителя будущими светилами российской медицины. Однако случилось то, чего больше всего опасались доктора и свита императора. За обедом в Архиерейском доме Николай почувствовал сильное головокружение и тошноту, на лице его выступила испарина. Он вынужден был выйти из-за стола и в сопровождении Арендта направиться в туалетную комнату. Доктор через минуту вернулся и от имени государя приказал не останавливать обед. Однако к кушаньям никто уже не прикасался, все сидели молча. Губернатор, князь Голицын, подозвав к себе слугу, приказал ему срочно ехать в Старо-Екатерининскую больницу за Гаазом: «Привези его, голубчик, из-под земли достань! Скажи, пусть не мешкает, государь занемог»… Еще через несколько минут Николай сам появился в дверях. Императора трясла лихорадка, его всегда бледное лицо античной статуи приобрело мертвенно-серый оттенок.
– Господа, прошу прощения за столь внезапное мое отбытие, – произнес он обычным, ровным голосом. – Призываю вас не поддаваться панике и продолжать обед…
Когда за государем закрылись двери, первым из-за стола поднялся Бенкендорф.
– Прошу прощения, господа, – также извинился перед присутствующими шеф жандармов и, ничего не объясняя, вышел вслед за императором.
Дальше последовала цепная реакция: один за другим вельможи вставали из-за стола, извинялись и выходили прочь, так что, в конце концов, в зале остался один только князь Голицын, но и он не прикоснулся больше к еде. Дмитрий Владимирович дожидался приезда доктора, к которому относился с особым доверием и, как многие москвичи, считал его самым авторитетным врачом в старой столице. К сожалению, ни император, ни Бенкендорф не разделяли его мнения. Член Московского тюремного комитета, главный врач московских тюрем, Федор Петрович Гааз часто досаждал государю и шефу жандармов своими записками, в которых говорилось о бесчеловечном содержании заключенных и ссыльных. Он добивался отмены кандалов для стариков и детей, позорного выбривания половины головы для женщин. В Москве при поддержке губернатора ему уже удалось упразднить так называемый железный прут, к которому приковывали до двенадцати арестантов, что превращало их существование в кошмар. Федор Петрович даже некоторым образом покушался на крепостное право. Его возмущало то обстоятельство, что помещик может без суда и следствия отправить крестьянина на каторгу, пользуясь правом феодала.
Доктор Гааз служил России верой и правдой. Еще в молодости, путешествуя по Кавказу, он открыл минеральные источники в Железноводске и Ессентуках. Во время Отечественной войны двенадцатого года снискал себе славу одного из самых искуснейших хирургов в Русской армии, отбивая у смерти безнадежных, тяжелораненых солдат и офицеров. С тринадцатого года практикуя в московских лечебницах, Федор Петрович все свои сбережения истратил на лекарства для бедняков. Москва его полюбила всем сердцем, в народе его стали звать не иначе как «святым доктором». И все же, несмотря на это, и Николай, и Бенкендорф вряд ли бы серьезно отнеслись к претензиям доктора Гааза, если бы не было столь горячей поддержки всех его начинаний со стороны губернатора Голицына. Князь Дмитрий Владимирович, пользуясь особым расположением государя, всячески проталкивал при дворе гуманитарные идеи Гааза. Николай время от времени возмущался и начинал журить губернатора: «Ну, какая тебе, в самом деле, нужда, Митя, до всех этих воров, убийц, мародеров? Они заслужили подобное отношение, ведь мы их в Сибирь, на каторгу отправляем, а не на воды в Карлсбад. И довольно уже носиться с этим Гаазом!» Государь в таких вопросах был тверд и неприступен, как скала. Однако со временем добрейшему московскому губернатору и «святому доктору» удастся переубедить императора, и многие гуманитарные идеи Гааза воплотятся в жизнь.
Федор Петрович не заставил себя долго ждать. У него был очень встревоженный вид, когда он вошел в опустевшую залу, где за накрытым столом в одиночестве сидел князь Голицын.
– У государя обнаружились первые симптомы? – едва поприветствовав генерал-губернатора, спросил он.
– Весьма похоже, – ответил Дмитрий Владимирович, – но вам на этот счет лучше осведомиться у Арендта.
Он провел главного врача московских тюрем в комнату, где придворные лейб-медики совещались с шефом жандармов. При виде Федора Петровича и Арендт, и Енохин, насторожившись, замолчали. Несмотря на то, что они прекрасно знали Гааза по двенадцатому году, сейчас между ними была непреодолимая пропасть. Они денно и нощно заботились о здоровье государя, а Федор Петрович лечил преступников.
– Господа, – обратился к присутствующим князь Голицын, – думаю, вам не помешает консультация доктора, который уже три недели борется с холерой в Москве и у которого на счету первый излечившийся от сей язвы.
Лейб-медики молчали. В самоуверенном взгляде Николая Федоровича Арендта ясно читалось: «Мы и сами прекрасно управимся, без каторжных докторов». Енохин же, напротив, старался не смотреть в лицо Гаазу, чтобы скрыть свой страх и растерянность. Неожиданно вмешался Бенкендорф.
– Благодарю вас, князь, – обратился он прежде всего к Голицыну, – безусловно, нам сейчас пригодится такой опытный врач, как Федор Петрович.
Арендт, перейдя на немецкий, в трех словах описал симптомы болезни государя и сделал заключение:
– Я до конца не уверен, господа, что это холера морбус. Вполне могло быть отравление пищей или нервное переутомление последних дней. Его Величество во время пребывания в Москве спит по два-три часа в сутки. Я назначил ему, как обычно, раствор магнезии…
– Однако если это все-таки холера морбус, дорогой мой Николас, – Гааз сразу же вступил в спор с придворным лейб-медиком, но, как всегда, в очень мягкой форме, – то магнезия не произведет должного эффекта, а зараза эта слишком быстротечна, чтобы мы могли терять время. Дорога каждая минута. Поэтому необходимо начать с Veratrum album…
– Вы в своем уме, Гааз?! – вспылил Арендт. – Предлагаете дать императору яд? И с каких это пор вы сделались гомеопатом?
– Опыт показал, что именно от этого яда, разведенного в незначительной дозе, при первых симптомах болезни мы получаем самый положительный эффект, – настаивал на своем Федор Петрович. – Не стоит, дорогой мой Николас, пренебрегать лекарством, которое спасает людей, даже если оно нам кажется шарлатанским.
– Могу вас заверить, господа, в полной безопасности этого средства, – вмешался в разговор врачей губернатор Голицын. – Я сам каждое утро принимаю его в предупредительных целях и, как видите, до сих пор здоров и весьма бодр.
– Нет, увольте! – после небольшой паузы решительно произнес Николай Федорович. – Я не могу дать императору яд…
Будучи еще главным врачом артиллерийского госпиталя в Санкт-Петербурге, Николай Федорович Арендт провел более восьмисот труднейших операций с ничтожным количеством летальных исходов и был признан всем мировым медицинским сообществом выдающимся хирургом своего времени. Кроме того, во время войны двенадцатого года он одним из первых в Русской армии начал применять антисептическое лечение. Лейб-медиком Его Императорского Величества Арендт стал совсем недавно, в апреле тысяча восемьсот двадцать девятого года, после того, как быстро вылечил государя от затянувшейся инфлюэнции, которую уже начали называть новым модным словечком «грипп», в то время как другие доктора оказались бессильны. Вступив в новую должность, Николай Федорович почти полностью отказался от хирургической практики. На протяжении полутора лет он постоянно был при императоре, следовал за ним во всех путешествиях. И вот теперь, перед лицом страшной неизвестной болезни, он, врач с мировым именем, должен был идти на поводу у шарлатана Ганемана, к которому всегда относился с презрением?
Тем временем Федор Петрович открыл свой саквояж и достал оттуда порошок с белой чемерицей.
– Даже не могу поверить, Фридрих, что вы мне это предлагаете! – взволнованно воскликнул Арендт.
Установилась довольно неприятная, напряженная пауза. Гааз так и держал в руке пакетик с порошком, не решаясь протянуть его Николаю Федоровичу, потому что тот демонстративно скрестил руки на груди.
И опять пришел на помощь шеф жандармов, обратившись к личному доктору государя спокойным, ровным голосом:
– Хорошо, если вы не хотите рисковать, тогда поручите это дело мне.
– То есть? – не понял Арендт.
– Очень просто, – улыбнулся Бенкендорф, – Федор Петрович составит лекарство, а я подам его государю-императору, предварительно растолковав ему о полезности сего порошка.
– Яда, вы хотели сказать, – поправил его Николай Федорович.
– Не беспокойтесь на сей счет, – убрав с лица улыбку, строго заявил начальник Третьего отделения, – я ничего не скрываю от моего государя.
Гааз попросил стакан кипяченой воды и, комментируя каждое свое действие, сделал разведение.
Александр Христофорович неспроста взял ответственность на себя. В мае двадцать восьмого года в Молдавском княжестве, под Браиловом, императора свалила с ног жесточайшая горячка, и Николай тогда соглашался принимать снадобья только из рук своего «милого друга», как он иногда в шутку называл шефа жандармов. Больше император никому не доверял. Он знал прекрасно, что Бенкендорф будет следить за каждым движением врачей и требовать от них досконального отчета о составленных лекарствах. Так случилось и на этот раз. Начальник Третьего отделения взял из рук доктора Гааза стакан с разведением и направился в кабинет императора, который одновременно служил и спальней. Николай предпочитал спать на походной раскладной кровати и всегда брал ее с собой в путешествия.
– Что это, Алекс? – слабым голосом спросил государь, едва приподняв тяжелые веки и сосредоточив взгляд на стакане в руке Бенкендорфа.
– Яд, Ваше Величество, – с усмешкой произнес «милый друг», ставя стакан с чуть мутноватой жидкостью на маленький прикроватный столик.
Бледные, потрескавшиеся губы Николая расплылись в улыбке.
– Я ценю твой юмор, Алекс, однако мне сегодня не до шуток…
– А я и не думал шутить, – признался начальник Третьего отделения. – В этом стакане разведена белая чемерица – яд, который в небольших пропорциях может служить лекарством и даже, как утверждает Гааз, противоядием.
– Снова Гааз! – раздраженно воскликнул Николай. – В Москве шагу ступить нельзя, чтобы не услышать это имя.
– Потому что губернатор Голицын во всем ему потакает и тем самым славу Гааза множит. Впрочем, я тебе уже об этом докладывал. – Бенкендорф по обыкновению перешел с императором на «ты», оставшись с ним наедине. – Вот и сегодня Дмитрий Владимирович привез к нам Гааза, и тот дал для тебя этот яд как самое верное предупредительное средство от холеры. Сам Голицын принимает его каждое утро, оттого здоров и весел…
Других аргументов не потребовалось.
– Ну, если Митя каждое утро заправляется ядом, – со смешком перебил шефа жандармов император, – то и мы не побрезгуем. – Он приподнялся, взял со столика стакан с разведением и залпом выпил. – Передай Мите, что я жду его к ужину, на чай.
– Ты уверен, что сможешь сидеть за столом? – осторожно спросил Бенкендорф.
– Мне некогда разлеживаться, Алекс, – стиснув зубы, борясь с лихорадкой, произнес государь. – Сегодня я должен сидеть за столом, а завтра – в седле…
Дальнейшая беседа касалась насущных политических дел и вскоре была прервана Арендтом и Енохиным, которые пригласили императора принять травяную ванну. Доктора хотели, чтобы слуги несли Николая на руках, но он наотрез отказался, посчитав подобную заботу слишком унизительной для себя. «Я не падишах, дойду пешком! Ноги, слава Богу, пока еще не отнялись!» Даже Бенкендорфу он запретил поддерживать себя под локоть.
И ванна, и лекарство благоприятно подействовали на государя: лихорадка исчезла, рвота прекратилась. Он сам попросил Арендта через некоторое время по возможности все это повторить.
К ужину Николай потребовал крепкого чая. Как он и обещал Бенкендорфу, целый час просидел за столом, беседуя с губернатором Голицыным. Обсуждали все насущные московские дела. За неделю пребывания в городе император открыл еще несколько больниц и два приюта для сирот, потерявших во время эпидемии родителей.
– Много ли поступило детей за эти дни? – интересовался он.
– Около двух сотен, – отвечал князь, – и они еще продолжают поступать.
– Направь туда толкового доктора, чтобы, не дай бог, там не распространилась зараза, – наказывал государь. – И возьми под свою ответственность питание детей, чтобы наши ушлые купчишки не вздумали поставить в приюты яблоки с арбузами и прочие фрукты, так сказать, «гостинцы для сирот». Надо туда подобрать неподкупных людей, которые смогут устоять от купеческой мзды.
– Студентов из университета попрошу, – решил Дмитрий Владимирович, – этих ничем не проймешь! Представь себе, взяли под свою опеку всю хозяйственную часть московских лечебниц и не дают ни чиновникам, ни купцам нажиться на холере. Визг стоит, не приведи Господи!
Губернатор говорил о студентах восхищенно и вновь упомянул о совсем еще юных университетских врачах, бросивших вызов страшной болезни, достойно с нею справляясь. Николай при этом, казалось, думал о чем-то своем. Когда Дмитрий Владимирович закончил хвалебную речь студенчеству, государь с горечью и одновременно с иронией произнес:
– Весьма радостно узнать, Митя, что на просторах нашей необъятной Отчизны есть хотя бы небольшая общность людей, не берущих взятки, их пока еще не коснулась сия моровая язва…
Князю нечего было ответить императору. Сам он слыл бессребреником, и даже собственные деньги часто жертвовал на нужды города, но среди чиновников мздоимство процветало с незапамятных времен, и никто не умел побороть эту стоглавую гидру.
Федор Петрович Гааз, до позднего вечера пребывавший в комнатах докторов и ни разу не показывавшийся на глаза императору, негласно руководил всем процессом его лечения: сделал еще одно разведение, приготовил еще одну ванну и, перед тем как покинуть Архиерейский дом, посоветовал Арендту:
– Если ночь пройдет спокойно, утром повторите Veratrum album и травяную ванну, а вечером дайте государю настой из коры хинного дерева. – И, перекрестившись, со вздохом заключил: – Дай бог, чтобы все обошлось начальной стадией болезни!
– Извините, Фридрих, за то, что был с вами резок, – пожал ему на прощание руку Николай Федорович.
– Ничего страшного, дорогой мой Николас, – дружески похлопал его по плечу Гааз, – ведь это наша с вами работа. Результатом медицинских споров часто бывают спасенные жизни людей. Как видите, коллега, и метод Ганемана на что-то сгодился. Нельзя ничего отрицать окончательно и навсегда, потому что на все воля Божья…
Арендт готов был пуститься с ним в длинный научный спор, но Федора Петровича ждала губернаторская карета, и князь Дмитрий Владимирович, несмотря на поздний час, торопился в наместнический дом, чтобы отдать еще кое-какие поручения своим подчиненным.
Уже сидя в карете, Голицын сообщил доктору:
– Император сильно обеспокоен состоянием сиротских приютов, которые он открыл в Москве. Просит направить туда толкового врача и обеспечить его всем необходимым. Что скажете, Федор Петрович? У вас есть какая-нибудь кандидатура?
– Глеб Ильич Белозерский, – не задумываясь, ответил Гааз и тут же добавил: – Только Иоганн его без боя не отдаст.
– Думаете, справится? – засомневался генерал-губернатор. – Ведь опыта у него маловато.








