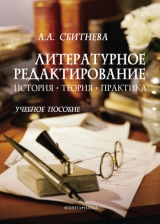
Текст книги "Литературное редактирование: история, теория, практика"
Автор книги: Анна Сбитнева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
При отборе произведений для публикации Короленко прежде всего оценивал актуальность содержания, правдивость показа жизни, наличие в произведениях элементов критического реализма. Не случайно на страницах «Русского богатства» появились произведения ярких представителей критического реализма, которых Короленко привлек к работе в журнале, – Г.И. Успенского, K.M. Станюковича, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.В. Вересаева, А.И. Куприна, Н.Г. Гарина-Михайловского. Это были единомышленники Короленко, благодаря публикациям которых журнал имел единое общественно-политическое и литературно-художественное направление.
У Короленко было особое отношение к редакционному труду. Прежде всего он признавал бесспорным право каждого начинающего автора на внимание опытного сотрудника редакции или просто литератора. К выполнению своих редакторских обязанностей Короленко относился с большой ответственностью. Он считал, что простая невнимательность со стороны редакции способна внушить автору мысль о предвзятом отношении к его труду, обидеть его и сделать невозможной дальнейшую совместную работу автора и редактора.
Еще один принцип Короленко-редактора: никакого снисхождения в оценке произведений, критерии которых у писателя были весьма строги. Кроме того, вызывала протест с его стороны привычка снисходительно «похлопывать по плечу» «писателей из народа».
Для Короленко не имело существенного значения, что тот или иной автор – представитель «народа», простой крестьянин или малограмотный человек. Он даже ввел своеобразный термин «снисходительное поощрение», которое, по его мнению, ничего, кроме вреда, не принесет литературе. Отступление от принципа объективности при оценке сочинения порождало у творчески беспомощных людей ложное представление о том, что дело не столько в достоинствах произведения, сколько в связях, знакомстве, покровительстве, без чего в литературу якобы не пройдешь. В редакторских книгах и в переписке писателя остались следы его упорной борьбы с этим опасным заблуждением[83]83
См.: Сикорский Н.М. Указ. соч. М., 1971. С. 98–99.
[Закрыть].
В работе с начинающими писателями Короленко постоянно подчеркивал, что достижение литературного мастерства доступно не каждому и связано с большими трудностями. Он знал из собственного богатого опыта, что лишь немногие из поступавших в редакцию сочинений публикуются в журнале. Так, в 1896 г. из 150 прочитанных рукописей пригодными к изданию редактор признал пять, в 1900–1901 гг. из 400 рукописей – 30, в 1902–1903 годах из 950 – также 30 рукописей. Это соотношение не менялось и в последующие годы[84]84
См.: Летов Б.Д. Короленко-редактор. Л., 1961. С. 51.
[Закрыть].
Короленко постоянно стремился воспитывать у своих подопечных высокое уважение к литературному труду. «Так работать нельзя, – замечает он в письме Е. Костромской, – у Вас все торопливо, лихорадочно и спешно – начиная с почерка»; «… Это нехорошо и, повторяю, так работать нельзя. Нужно самообладание и сдержанность, нужна работа над собой и над своим произведением…»; «… Я пишу уже много лет, но я никогда не дал бы никому прочесть свою рукопись в таком виде – просто даже из сожаления к своему рассказу. А Вы не потрудились даже отделить как следует разговоры, разбить рассказ на периоды, как это делается в печати…»; «…Что-то намечено, но не додумано, не додержано, не дорисовано… В таком виде рассказ напечатать нельзя…»[85]85
Короленко В.Г. О литературе. М., 1957. С. 516.
[Закрыть].
На своем многолетнем редакторском поприще Короленко встретил много талантливых людей, которым помог войти в большую литературу. Среди этих людей был и М. Горький, который называл себя учеником Короленко. Но встречались на его пути и люди бесталанные, невежественные, попросту графоманы. В некоторых своих статьях Короленко задумывается над причиной этого явления и находит ответ.
По мнению одного из исследователей редакторского творчества Короленко Б.Д. Летова, причиной графоманства является мнимая доступность литературного труда. Если в музыке, живописи, ваянии технические трудности мастерства ясны даже для неискушенного человека, то в литературе как будто нет таких явных препятствий. Но литературная техника, подчеркивал писатель, хотя и скрыта от людей некомпетентных, не менее, а даже более сложна, чем в области других искусств. Представление о простоте и доступности литературной техники обманчиво и глубоко ошибочно[86]86
См.: Летов Б.Д. Указ. соч. С. 64–66.
[Закрыть].
Безусловно представляют интерес взгляды Короленко-редактора на взаимоотношения формы и содержания произведения. Достоинства литературного произведения он определял «прямо пропорционально… цельности между формой и идеей». Это было, по его мнению, задачей не только автора, но и редактора. В то же время всякую приглаженность изложения писатель считал бедствием для литературного творчества. По его твердому убеждению, язык, лишенный индивидуальности, противоречит самому характеру литературной работы. Обезличенность языка писателя ведет к обеднению содержания произведения. Истинное литературное мастерство немыслимо без разнообразия и красочности языковых средств автора. Разнообразие языковых оттенков, отмечал писатель, должно быть подчинено идейной и художественной направленности произведения[87]87
См.: Сикорский Н.М. Указ. соч. М., 1971. С. 111–113.
[Закрыть].
Многолетняя редакторская работа В.Г. Короленко безусловно имеет не только исторический интерес, но сохраняет свое практическое значение и в наше время.
Для развития теории и практики редактирования важное значение имеет литературно-издательский опыт А. П. Чехова. Он основательно занимался редакторской работой. В конце 80-х – начале 90-х годов Чехов руководил беллетристическим отделом журнала «Русская мысль». Именно через периодику Чехов пришел в литературу, здесь впервые ощутил силу печатного слова. В практике оперативной журналистской работы вырабатывался краткий и необычайно емкий чеховский литературный стиль. Нет почти ни одного жанра журналистского труда, в котором бы он не работал. Чехов писал статьи, рассказы, театральные рецензии, репортерские заметки из зала суда, делал надписи к рисункам, сочинял анекдоты, пародии и т. д.
Путь Чехова в большую литературу, в лучшие журналы был нелегким. Он сотрудничал в газете Суворина «Новое время», где напечатал множество рассказов, путевые очерки «По Сибири», ряд публицистических статей. Затем работал в журналах «Русская мысль», «Всемирная иллюстрация», «Северный вестник», где писатель прочитал немало рассказов, повестей, очерков начинающих литераторов. В письмах Чехова тех лет отразились меткие наблюдения тонкого и тактичного редактора, вытекающие из характера его реалистического метода, высокие, истинно чеховские требования к литературному языку.
Очень интересны его советы начинающим писателям, в частности, молодому Горькому, которому он советует: «Красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как «зашло солнце», «стало темно», «пошел дождь…».
В другом письме Горькому Чехов рекомендует: «Читая корректуру, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву», это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, не удобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь»… Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду»[88]88
Чехов АЛ. Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 18. М., 1948. С. 221.
[Закрыть].
«Краткость – сестра таланта» – знаменитое утверждение Чехова. В многочисленных письмах он настойчиво и методично ведет борьбу за точность и сжатость языка.
В частности, в письме к брату Александру Чехову, за литературной деятельностью которого Антон Павлович внимательно следил, он пишет: «И сократи, брате, сократи! Начни прямо со второй страницы. Ведь посетитель магазина в рассказе не участвует, зачем же отдавать ему всю свою страницу? Сократи больше, чем наполовину».
А вот что Чехов пишет В.М. Лаврову: «Прочел «Без догмата» с большим удовольствием. Вещь умная и интересная, но в ней такое множество рассуждений, афоризмов, ссылок на Гамлета и Эмпедокла, повторений и подчеркиваний, что местами утомляешься, точно читаешь поэму в стихах. Много кокетства и мало простоты». А в письме к Л.А. Авиловой рекомендует: «Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи»»[89]89
Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 14. С. 110; Т. 16. С. 62, 99; Т. 17. С. 168.
[Закрыть].
Все письма редактора Чехова к авторам пронизаны теплотой, участием, свидетельствуют о бережном, вдумчивом отношении к редактируемым им произведениям.
1.10. Редактирование в издательском деле России в начале XX века (1900–1917 годы)
Начало XX века ознаменовалось сложной внутри– и внешнеполитической обстановкой в России. Русско-японская война, обнажившая многие социально-экономические противоречия в стране, последовавшая за ней революция 1905 г. не могли не отразиться на особенностях развития книгоиздательского дела.
Главное, что необходимо отметить, – это резко возросшие масштабы издательской деятельности. Так, только за один революционный 1905 год количество выпущенных изданий возросло до 30 тысяч, по сравнению с 14 тысячами, вышедших в 1904 г. Вплоть до Первой мировой войны ежегодно количество печатной продукции в России увеличивалось. Если в 1908 г. было выпущено 23,8 тысяч названий тиражом 93,2 млн экземпляров, то 1913 г. – 34 тысячи названий, тираж которых составил 118,8 млн экземпляров[90]90
См.: Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Указ. соч. С. 163.
[Закрыть].
Революционная ситуация 1905–1907 гг. значительно изменила тематику издаваемой литературы. Возник огромный читательский спрос на произведения социально-экономической и общественно-политической тематики. Появилось более 350 новых издательств, выпускающих литературу только этого направления. Учитывая небывалый читательский спрос, также книги выпускают и другие крупные, серьезные издательства. Уже в начале 1905 г. «беллетристы и поэты как бы вымирают и уступают место другим, более сознательным и культурным течениям. Публицистика заменила поэзию, а экономическая литература беллетристику». Читателями были востребованы произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, Ф. Лассаля, В. Ленина, М. Ольминского, Л. Мартова, Н. Аксельрода и др.[91]91
Ямчук К.Т. Редактирование в издательском деле России в XX веке. М., 1998. С. 6.
[Закрыть]
На редакционно-издательское дело оказывал влияние процесс концентрации и специализации книгоиздания, в результате которого на поприще производства книги преобладали мощные издательские предприятия A.C. Суворина, А.Ф. Маркса, И.Д. Сытина, продукция которых пользовалась большим спросом читателей.
Особое место среди издателей занимало «Товарищество И.Д. Сытина и К°», которое выпускало примерно столько же книг, сколько восемь крупнейших петербургских фирм вместе взятых (в том числе издательства Вольфа, Риккера и Девриена). Массив изданий Сытина отличался тематическим и типологическим разнообразием. Кроме лубочных изданий, которыми особенно славился Сытин, а также книг и брошюр, он издавал газету «Русское слово», выходившую таким же тиражом в 1915 г., как все остальные ежедневные газеты Москвы вместе взятые, журнал «Вокруг света».
Учебники, учебные пособия, энциклопедические издания, научно-популярные серии, массовые издания собраний сочинений известных русских писателей, практические пособия для крестьян и кустарей – вот далеко не полный тематико-типологический перечень сытинских изданий. Вполне естественно, что подобное книжное многообразие делало особенно востребованным высококвалифицированный редакторский труд. Ведь редакторы, готовя к печати, к примеру, «книги для народа», которые Сытин издавал массовыми тиражами, должны были учитывать адресность этих изданий и соответственно находить новые формы «подачи материла» для данной категории читателей.
Особенность начала XX века для издательского дела в России заключалась еще и в создании крупных специализированных издательств, выпускавших специализированную литературу как по тематике, так и по типам. Среди них были издательства А.Ф. Девриена, П.П. Сойкина (книги по сельскому хозяйству, естествознанию, географии), К.Л. Риккера (медицинская литература), Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, братьев А.Н. и И.Н. Гранат (энциклопедические издания).
Постоянное привлечение к редактированию и подготовке изданий научной и научно-популярной литературы видных ученых и специалистов различных областей знаний стало характерной чертой издательской деятельности. Например, в издательстве Брокгауза и Ефрона, когда готовился к изданию «Энциклопедический словарь», в качестве редакторов были приглашены выдающийся ученый-химик Д.И. Менделеев, философ Вл. С. Соловьев, известный библиограф и историк литературы С.Ф. Венгеров, а также уже тогда хорошо известные ученые, в будущем российские знаменитости – биолог М.И. Мечников, историк Е.В. Тарле. А крупный издатель А.Ф. Девриен, специализировавшийся на выпуске сельскохозяйственной литературы, пригласил на работу в качестве своего главного помощника и редактора знаменитого русского агронома-почвоведа П.А. Костычева.
Все это значительно повышало уровень выпускаемой литературы самого разного тематического содержания, закладывало основы научного редактирования. Прогрессивные издатели стремились сделать достижения науки конца XIX – начала XX века достоянием самого широкого круга читателей. И это обстоятельство было причиной выпуска большого числа научно-популярных изданий самых разных видов. Среди периодических изданий огромный интерес у читателей вызывал журнал «Природа», где публиковались работы В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, H.A. Рубакина. В журнале «Природа и люди», издаваемом знаменитым русским издателем П.П. Сойкиным, печатались Я.И. Перельман, К.Э. Циолковский и др. Из известных научно-популярных журналов следует отметить ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для самообразования «Мир Божий». Он стремился дать читателю возможность приобретать систематические знания в области естественных, исторических и общественных наук. Другим не менее читаемым и известным изданием был «Вестник знания», основанный издателем и просветителем В.В. Битнером. И хотя он назывался литературным и научно-популярным журналом, беллетристика в нем не имела большого значения. Лицо журнала определяли научно-популярные публикации, знакомящие с состоянием всех областей знания. В нем сотрудничали такие выдающиеся деятели науки и культуры, как В.М. Бехтерев, H.H. Мечников, М.М. Ковалевский, В.А. Вагнер, H.A. Рубакин.
Деятельность Н.А.Рубакина составляет целую эпоху в истории популяризации науки. Его называли летописцем научных и технических открытий своего времени. А время это было особенное. «Он видел рождение века электричества, появление первых автомобилей, первых самолетов, беспроволочного телеграфа, радио, телевидения и многих сотен других изобретений, выражавших человеческий гений и разум, которые прославлял Рубакин»[92]92
Лазаревич Э.А. С веком наравне. М., 1984. С. 227.
[Закрыть].
Трудно переоценить вклад Рубакина в практику отечественного редактирования. Работая в Товариществе И.Д. Сытина, он все свои знания и умение вкладывал в то, чтобы малоподготовленные читатели, часто даже не получившие школьного образования, понимали содержание издаваемых им книг. Для этого Рубакин выработал особые приемы объяснения, особый стиль изложения, строго ориентированный на понятийно-словарный состав своей аудитории. Он писал, что не только иностранные, но и русские слова могут быть неизвестны читателю и разрушить его контакт с автором. Рубакин искал и находил сравнения, безусловно близкие каждому. Вот почему, рассказывая об увеличительном стекле, он уподобляет его чечевице, вот почему он вкрапливает в изложение народные, разговорные слова и обороты[93]93
Там же. С. 230.
[Закрыть].
В издательстве Сытина по предложению Рубакина выпускалась «Библиотека для самообразования». С его участием был начат выпуск «Народного календаря», тираж которого вскоре достиг 2 млн экземпляров. Участие Рубакина в изданиях, сначала издательницы О.Н. Поповой, а затем у Сытина гарантировало их высокий научный уровень, хотя они и предназначались отнюдь не для высокообразованных людей. Анализируя научно-редакторскую деятельность H.A. Рубакина в начале XX века, можно смело утверждать, что в этот период в издательском деле складывается своеобразная издательская школа научной популяризации знаний.
Одним из основателей такой школы считается великий русский и советский ученый К.А. Тимирязев. Он обладал редким для ученого талантом писателя, редактора, переводчика и рецензента.
С первых шагов своей научной деятельности К.А. Тимирязев поставил перед собой две задачи: работать для науки и писать для народа, т. е. популярно. Именно К.А. Тимирязев первым увидел в популяризации науки возможность отчета ученого перед народом, а с другой стороны – важное средство развития личности самого ученого. В качестве разносторонне одаренного литератора он активно сотрудничал на протяжении своей творческой жизни с такими издательствами, как «Общественная польза», издательство О.Н. Поповой, а в советское время с издательством «Новая деревня».
Деятельность Тимирязева отражала все направления современной ему популяризации. Он сочетал чтение публичных лекций с сотрудничеством в качестве автора и редактора в журналах «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русское слово» и др. Он редактировал лучшие произведения зарубежных ученых.
Темы популярных сочинений К.А. Тимирязева необычайно разнообразны. Они освещают выдающиеся достижения того времени в области ботаники, биологии, физики, химии. Всю свою жизнь ученый посвятил проблемам создания научной и научно-популярной книги, которую он рассматривал в качестве инструмента формирования духовно богатой личности. Крупнейшие его работы – «Жизнь растений», «Чарльз Дарвин и его учение», «Растение и солнечная энергия», «Земледелие и физиология растений» – вошли в золотой фонд отечественной научно-популярной литературы. Как автор он знал, каким критериям должна соответствовать книга, в популярной форме разъясняющая читателям суть научных открытий. И этими критериями он руководствовался в своей редакторской практике.
Для развития редакционно-издательского дела в России в начале XX столетия большое значение сыграл Манифест 17 октября 1905 г. под названием «Об усовершенствовании государственного порядка». Этот манифест, буквально вырванный у царского правительства в ходе революции 1905 г. восставшим народом, впервые за всю историю русского самодержавия провозгласил гражданские свободы, в том числе и так долго ожидаемую свободу печати. И хотя провозглашение в Манифесте свобода печати было актом формальным, тем не менее в России начали складываться условия для появления легальной рабочей печати.
За 1905–1907 гг. в России сформировалась сложная многопартийная политическая система, в которую входили более полусотни партий самого различного направления. Соответственно сложилась такая же сложная система издательств, продукция которых пропагандировала взгляды и деятельность своих партий. Легальной стала и печать большевиков, которые в период революции организовали издательства «Вперед», «Зерно», «Прибой», «Знание» и др., социалисты-революционеры легализовали издательства «Земля и воля», «Сеятель», «Народная мысль» и др. Широкую сеть издательств имели кадеты, октябристы и другие политические партии.
Таким образом, и издатели, и редакторы получили возможность выбора своей гражданской позиции и выражения ее с помощью печатного слова. В печати того времени получает развитие политическая полемика. Произведения общественно-политического содержания характеризует публицистический стиль, экспрессивность лексики и фразеологии, что, конечно же, формирует и редакторское восприятие литературного произведения.
Искусство полемики, находившее свое отражение в литературе, требовало помимо специфических черт языка и стиля четких представлений об особенностях восприятия читателя. В этой связи представляют несомненный интерес даже некоторые заголовки структурных частей работы юриста П.С. Пороховщикова, носивших обобщающе методический характер – «Чистота слога», «Богатство слов», «Знание предмета», «О внимании слушателей» и др. Особое внимание уделялось действенности речи с позиций ее восприятия читателем или слушателем: «Мысль, вполне сложившаяся в мозгу, легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления… Только точное знание дает точность выражения. Послушайте, как говорит крестьянин о сельских работах, рыбак – о море, ваятель – о мраморе; пусть будут это невежды во всякой другой области, но о своей работе каждый будет говорить определенно и понятно»[94]94
Ямчук К.Т. Редактирование в издательском деле России в XX веке. М., 1998. С. 15.
[Закрыть].
Для данной эпохи, когда появилась бесцензурная рабочая печать, были характерны такие виды изданий, как массовые политические брошюры, листовки, прокламации, агитационные бюллетени. Все эти издания имели своего читателя – рабочего, крестьянина, мелкого предпринимателя.
В период начала века редактор-издатель самостоятельно определяет направление своего издания. Естественно, что выбор тем для воплощения их в изданиях носит субъективный характер.
В этом отношении представляет несомненный интерес деятельность издательства «Знание». Созданное в 1898 г. по инициативе К.П. Пятницкого, оно формально не принадлежало социал-демократической партии, а было организовано с целью ограждения писателей от эксплуатации издателей-коммерсантов и на первых порах выпускало научно-популярную литературу.
В 1900 г. в издательство пришел A.M. Горький, который привлек для работы в нем крупных писателей демократического направления – И.А. Бунина, А.И. Куприна, A.C. Серафимовича, Н.Д. Телешова, С. Гусева-Оренбургского, Скитальца и др. И профиль издательства стал меняться. Новое направление было определено вскоре после прихода Горького в издательство – подготовка и выпуск избранных произведений и сочинений русских писателей реалистического направления.
С 1904 г. «Знание» начало выпускать литературно-художественные «Сборники товарищества “Знание”», которые приобрели широкую популярность. Можно с уверенностью сказать, что именно Горький, в ведении которого находилась организационно-творческая сторона деятельности, изменил направление издательства. Он сконцентрировал в этих сборниках лучшие силы художественной литературы. Первый сборник вышел с огромным для того времени тиражом – 41 тысяча экземпляров, в дальнейшем тираж доходил до 65 тысяч экземпляров. В течение 1904–1913 гг. вышло 40 томов. Следом за «Сборниками» издательство приступило к выпуску политических брошюр в серии «Дешевая библиотека», доходы от которой шли в партийную кассу РСДРП.
В этой серии были изданы некоторые произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, П. Лафарга, Ф. Меринга и других деятелей мирового коммунистического движения. Таким образом, буквально за несколько лет после прихода в издательство М. Горького оно было перепрофилировано практически полностью.
Подавление первой русской революции, наступление реакции отразилось на всей духовной жизни общества. После революционного подъема начала века через 7–8 лет начался духовный спад в обществе. Это, конечно же, отразилось и на сотрудниках издательства «Знание». Часть их, в том числе уже тогда известные русскому читателю И. Бунин, А. Куприн и другие, в соответствии со своим идейно-политическим и художественно-эстетическим кредо покинули «Знание» и перешли в другие издательства. Этому предшествовало полное идейное размежевание М. Горького и К. Пятницкого. Горький считал, что порою совершенно недопустимое безразличие Пятницкого к авторским рукописям делает их дальнейшее сотрудничество невозможным. Вскоре после этого разрыва издательство «Знание» прекратило свое существование.
Полоса политической реакции определенно сказалась на издательской деятельности. Бурный рост числа издательств, выпуска книг и периодики сменился застоем. Из обращения удаляется передовая политическая, экономическая и естественнонаучная книга. Конфискуется изданная в годы революции художественная литература социального направления. Сотни и тысячи книг и брошюр уничтожаются. На издателей, выпускавших в годы революции книги «явочным» порядком, обрушиваются цензурные и судебные преследования. Поражение революции и политическая реакция вызвали страх, апатию, растерянность у многих представителей русской художественной интеллигенции, в том числе литературной.
Поражение революции привело не только к восстановлению старых цензурных порядков, но и к дальнейшему ухудшению условий печати. В конце апреля 1906 года был принят указ о цензуре, предписывающий Судебной палате возбуждать уголовное преследование против лиц, виновных в издании «преступных» книг. Этот указ систематически и неуклонно проводился в жизнь судебными и административными органами.
Книжный рынок в это время наполняется литературой разных тематических направлений, кроме прогрессивно-политического. А между многими представителями философской и литературно-художественной мысли легла глубокая пропасть, в основе которой было различное представление о значении социального и индивидуального начал в развитии общества. Выразителями противоположных точек зрения на этот вопрос были, с одной стороны, сотрудники сборника «Вехи» (H.A. Бердяев, П.Б. Струве и др.), проповедовавшего мистицизм, смирение перед властями и призывавшего русскую интеллигенцию на службу «власти предержащей». Им горячо оппонировали такие литераторы, как A.M. Горький, В.В. Боровский и др., выражавшие свои взгляды о необходимости революционного преобразования в России в сборниках «Литературный распад».
Вполне естественно, что сложившаяся социально-политическая ситуация способствовала возникновению в литературе различных школ, направлений, течений. И снова, как и несколько лет назад, редактор стал знаковой фигурой издательства, способствуя появлению одних произведений и препятствуя выходу в свет других. Морально-нравственное кредо редакторов, как правило, служило той идейной основой, на которой строили свои программы многие издательства. Так, издательство «Шиповник», основанное в 1906 г. художниками-карикатуристами З.И. Гржебиным и С.Ю. Копельманом, начинает выпускать одноименные альманахи под редакцией Л. Андреева, страницы которых были наполнены произведениями писателей-символистов A.A. Блока, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова и др. На том этапе их идейно-художественные взгляды были противоположны тем, которые исповедовали руководители издательства «Знание».
А вот «Книгоиздательство писателей в Москве», созданное по инициативе В.В. Вересаева в 1912 г., в известной мере продолжило традиции «Знания». В сборниках «Слово», выпущенном издательством в 1913–1918 гг., печатались представители «нового реализма» (А.Н. Толстой, И.С. Шмелев, Н.Д. Телешов и др.). Идейно-художественную программу издательства четко определял редактор В.В. Вересаев: «… в сборниках наших не должно найти место даже самое талантливое произведение, если оно идет против жизни, против необходимости борьбы за лучшую жизнь, за перенесение центра тяжести в потусторонний мир, за отрицание красоты и значительности жизни»[95]95
См.: Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Указ. соч. С. 117–178.
[Закрыть].
Конечно, это был самый настоящий идеологический диктат редактора над художественным творчеством автора, что вызывало протесты ряда писателей – членов паевого книгоиздательства, у которых был свой творческий почерк, свой взгляд на средства художественной выразительности.
В этот период в издательском деле усиливается внимание к художественной стороне книги, и в редакторском деле развивается новое направление – художественное редактирование.
Первым художественным редактором в России стал в 1912 г. известный русский график и театральный художник М.В. Добужинский, член русского художественного объединения «Мир искусства». Издательство «Грядущий день» не случайно поручило ему эту работу. Члены группы «Мир искусства» – А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст и другие – уделяли особое внимание декоративной стороне рисунка как составной органической части книжной полосы. Выдвигая новый принцип оформления книги, художники из этой группы расценивали его как декоративно-графическое единство, все типографские и графические элементы которого неразрывно связаны между собой по стилю и ритму, подчинены архитектонике книги.
Сам Добужинский прославился как блестящий оформитель книг «Станционный смотритель» A.C. Пушкина и «Тамбовской казначейши» М.Ю. Лермонтова. В этот же период прославился своими знаменитыми иллюстрациями к книгам И.Я. Билибин («Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке A.C. Пушкина, русские сказки), Е.Е. Лансере («Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого), В.М. Васнецов («Песнь о вещем Олеге). В результате в сознании читателей прочно утверждается мысль о книге, как едином продукте духовной и материальной культуры, а имя художника-оформителя увязывалось с именем автора книги.
Безусловное влияние на теорию и практику редактирования оказало возникновение новых литературных направлений, объединявших писателей разных взглядов и убеждений. Это была своеобразная реакция на меняющееся жизненные условия – осознать необходимость революции, пережить последовавшую политическую реакцию и вновь почувствовать приближение революционного подъема и грядущей Первой мировой войны. По воспоминаниям писателя И.Н. Потапенко, близкого друга А.П. Чехова, тот считал необходимыми новые подходы в осознании действительности: «Никаких сюжетов не нужно, – говорил он, – в жизни нет сюжетов, в ней все перемешано: глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое с смешным… Нужны новые формы, новые формы…»[96]96
См.: Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Указ. соч. С. 191.
[Закрыть].
Писатели решал вопрос о читательском восприятии новых литературных произведений, которые не вписывались в старые рамки традиционных литературных форм. В те годы возникли литературные течения символистов, акмеистов, футуристов. Каждый представитель какого-либо из течений, будь то символист (В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок), акмеист (Н. Гумилев, О. Мандельштам), или футурист (В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский) в своих произведениях старался разрушить, на его взгляд, условность литературных жанров и стилей, лучше использовать неограниченные возможности слова.
Совершенно понятно, что такое разнообразие художественных форм ломало привычные редакторские стереотипы, заставляло редакторов смотреть на содержание произведений, выраженное в необычной манере, как бы глазами их создателей и с трудом находить оптимальные варианты необходимой редакторской правки. Далеко не все издательства принимали для издания рукописи литераторов, шокировавшие публику своими формами, далеко не все редакторы делали над собой усилие проникнуть внутрь этих форм, чтобы понять, стоит ли содержание данных произведений этих усилий.
Некоторым издательствам потребовалась изрядная доля смелости, чтобы дать дорогу молодым дарованиям. Так поступили, в частности, в издательстве «Парус», организованном в 1915 г. в Петрограде A.M. Горьким, А.Н. Тихоновым и И.П. Ладыжниковым. В 1916 г. они издали поэму В. Маяковского «Простое как мычание». Реакция была бурная, одна из газет, в частности, посчитала, что «отныне на душе издателей большой грех», поскольку работать под девизом «Сейте разумное, доброе, вечное» и издавать Маяковского – вещи несовместимые. Однако редакторы «Паруса» остались верны своим убеждениям и в 1917 г. выпустили другую поэму Маяковского «Война и мир»[97]97
См.: Антонова С.Г., Соловьев В.И., ЯмчукК.Т. Указ. соч. С. 198.
[Закрыть].






