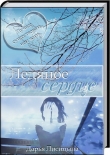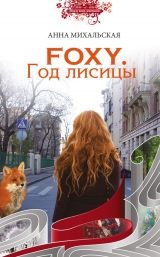
Текст книги "Foxy. Год лисицы"
Автор книги: Анна Михальская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И, остановясь, вдыхала морозную прозрачную свежесть, и поднимала глаза к глазу луны, и смотрела – смотрела с вызовом, смотрела с торжеством.
Что, луна? Ты удивлена? Что ж! И я! Надежды у меня больше нет. Зато у меня есть кое-что получше. Эта ночь. Этот миг. Это счастье.
II. Мост (весна)
1. Вода со льдом (март).
Мужчины делятся на две категории: те, кто водит машину, и остальные. У первых это в крови: они прирожденные вожаки. Водители. Предводители. В сущности, настоящие мужчины только они. Остальные бывают разные. Но если выбор есть, машин сторонятся, хоть и говорят, что вот-вот пойдут на курсы. Это «вот-вот» длится всю жизнь.
Первые рвутся выйти в море на своем корабле. Пусть это опасно. Даже глупо. Проще ходить пешком и таскать рюкзак на спине, пока не свалит старость или немощь. Спокойнее, да и дешевле сидеть на скамеечке в электричке и посматривать в окно: что там, за стеклом? Здесь не встретишься один на один с другими капитанами, а то и корсарами. И никакой ответственности: кто там, за штурвалом, в чьих руках твоя жизнь, и не знаешь. Зачем? Легче зависеть от расписания. Кто его придумал, бог весть. А мы подождем на перроне.
И так понятно, что властных женщин, которые вовсе не рвутся водить машину гораздо больше. Только бесхитростные, очень прямые или очень тщеславные женщины сами хотят сесть за руль. Женщина есть женщина. Водить лучше чужими руками. Руководить – это так по-женски.
Странно, что мои мужчины машину не водили и не водят. Руководить же не прочь. Ох, как не прочь: хитрее любой женщины, так хитро, что и сами не замечают. Или замечают, но не признаются? Даже себе никогда не признаются, а уж другим… Мужчины-водители их слегка презирают, но больше жалеют: по бабьей воле живут, бедолаги. Ах, знали бы они да ведали…
Так думала я, сидя рядом с водителем маленькой и юркой серебристой машинки, в народе прозванной «Шевронивой». Она с шумом поднимала с асфальта фонтаны искрящихся на солнце брызг, проносясь мимо полей, еще покрытых осевшим ноздреватым крупитчатым снегом, в сторону Звенигородской биостанции. Коллега согласился подвезти меня из дома прямо на ЗБС. Вместе с девочкой – ей было полезно побыть пару дней на воздухе. Собака лежала на заднем сиденье. Свернулась, примостив голову ей на колени. Уже скоро. Вот мы проезжаем мимо дачи. Где-то близко, совсем близко Трехдубовый лес. Фокси…
Вдруг – мат, и резко по тормозам. Что это?
Неторопливой рысцой, с достоинством крупного зверя, прямо перед замершей машиной дорогу пересекает лис. Матерый, в зимнем еще роскошном меху, он спокойно поднимается на отвал снега над обочиной и на мгновение замирает, глядя – нет, не на нас, – на простертое перед ним поле. Алый в лучах заката, он будто горит, а на снег ложатся синие тени.
Миг спустя он далеко на поле – как это может быть? Но вот видна только темная точка. Все ближе она к фиолетовой кромке леса – вот уж нет и ее. Пропала. Исчезла.
Водитель, еще ругнувшись, с досадой рвет вперед – но как же он восхищен! Какой зверь! Как великолепна жизнь! Вот она, весна! Пришла все-таки!
Да, пришла. Пришла моя весна. Мой первый после детства настоящий март. И все я вижу словно впервые: крупинки ноздреватого снега сверкают звездами, стволы придорожных ив уже не серы – они зеленеют, ожив от двинувшихся под корой соков, ветви лип фиолетовы, орешник розовеет, словно под темным загаром струится теплая кровь… И этот сырой, свежий ветер, и вот уже сумерки, и в темноте плывет над биостанцией, над оврагом, над верхушками елей страстный призыв сов: неясыти в брачном полете, и воздух бьется и вибрирует от совиного клича, будто кто-то колышет его ударами огромного веера…
Высоко стоит Орион, но в прозрачной тьме небес царит Венера. Она огромна, и свет ее чист, юн и безмятежен, словно это говорит с миром сама Любовь.
Спиной прислонившись к шершавой коре сосны, я смотрю на звезды – такие близкие, такие далекие – и не думаю ни о чем. Только тоскую и, тоскуя, радуюсь тебе: издали, издалека… Что за счастье! Какое горе! Какая судьба!
И этот лис – вдруг это был ты… Конечно, ты, кто же еще!
Нет, если серьезно, то это странно: сильный и красивый, немолодой уже, матерый зверь – куда он шел? В Трехдубовый лес, к Фокси? Неужели и она больше не одна?
И все же удивительно, что он появился так издалека. Откуда? Этого я не знала. Только одно я знала точно: зачем. И, может быть, еще: почему.
* * *
Автобус от железнодорожной станции в райцентре неторопливо шел по лесной дороге от деревни к деревне. Спешить ему было некуда. Остановок на маршруте до Макарьева – некогда оживленного торгового города на судоходной Унже, основанного насельниками древнего монастыря на крутом берегу, – становилось все меньше. Деревни вымирали, и некого было высаживать подле черных опустевших изб, в чьих подслеповатых глазах стекла так и застыли непролитыми старушечьими слезами.
Митя встал, легко поднял на плечо почти пустую сумку – надолго не закупишься, да не особо что и надо – и пошел к передней двери, на выход.
Северное утреннее солнце светило по-весеннему застенчиво, да и час был ранний. Чуть розовели шишки на зеленых верхушках елей, и с высоты слышны были чистые металлические звоны малиновогрудых, золотом горящих северных попугаев – клестов. Небеса неярко голубели, и нежными ветрами влажно вздыхали снега.
Митя вышел на дорогу к базе и вспомнил первые строки своей новой жизни:
Стоят влюбленные березы,
Лежат влюбленные снега…
Но прежнего экстаза не было. Был страх.
Одиночество – настоящее, невыдуманное, полное – оледенило лоб. А может, это был свежий утренний ветер. Привычно читая звериные следы на дороге – заячий малик, поверх него – нарыск лисьей пары, а вот комок снега, сбитый с упавшего ствола круглой куньей лапой, – Митя стал думать. Думать о жизни он не умел. Не привык. Тем более о своей. Но полнота, абсолютность одиночества требовала именно этого. А неторопливая ходьба по долгой дороге к брошенной деревне, где его ждали как родного: отца, брата, друга – но ждали волки, – впервые позволила сосредоточиться. Ведь он не спешил. Странное это было для него чувство: вот я и не спешу. Вот и я не спешу… Некуда. Звери кормлены – перед отъездом запустил в вольер взятого в охотхозяйстве кабанчика. Вот и не спешу…
Так как же все это со мной случилось? Все, что было? То, что есть? А дальше что будет? Кто он, я?
Эта уехала. Не думать, не вспоминать. Нет – и не было.
А Лиза? Неужто она мне и впрямь не нужна? Вправду? Довзаболи, как местные говорят? Довзаболи…
Нет, не нужна. А ведь было время… Да было ли? Нет, не было.
Только однажды, двадцать лет назад, было время. Мое время. По-настоящему мое, как могла бы быть моей та женщина. Но не стала. Стала не моей.
Что ж, было и у меня четыре года жизни. Два последних класса школы да еще в универе два первых курса. Время первой любви – и последней. Много это для одной судьбы? Мало? За сорок лет – четыре года. Одна десятая.
Вот и вся моя жизнь. Та, прекрасная, когда все – свет или тьма. Опаляющее пламя или ночной мрак.
Тьма, мрак и ночь моей настоящей жизни – ведь и это была она. Но и во мраке клейкие листья распускаются, и ты вдыхаешь их запах, гладишь пальцами полную соков, влажную, истекающую дурманом почку, как гладил бы ту женщину в самом ее сокровенном естестве – обонял бы, целовал, наконец проникал бы – долго, невыносимо долго, и до конца, до самого конца… Но срывал беззащитную в темноте верхушку побега, вдыхал терпкий запах весны, мял, рвал – и под ноги, прочь. Прочь? А сам весь в ее глазах – матовых черных глазах покорной – но не мне, мне непокорной – самки. Не отойти. И эти тягучие разговоры, и эта ревность, и эти ее неумеренные, не по заслугам хвалы: «Митя, ты – гений! Гениальный мальчик! Обаяние интеллекта!»… Все это – ночной мрак, весенние сады, бесконечные встречи и провожания – кроме «Третьей» школы, она зачем-то работала еще в рабочей вечерней, на окраине, и была вовсе не против провожатых из любимых третьешкольников. То одного, то другого, а то и третьего… И каждый, каждый считал себя избранным. А был всего только званым. Много званых, да мало избранных. Один всего. И не я. Но это была жизнь. Моя жизнь.
Та жизнь, в которой сияло одно солнце – она. Одна она. Я-то и был тем зеленым беззащитным побегом, что сам срывал в темноте. Калечил, чтоб уничтожить. И некому было удержать мою руку. Мать уже два года до моей встречи с Адой лежала под гранитной плитой. И чудесным своим профилем, таким живым, таким нежным очерком проступавшим из серого камня, легкой улыбкой в углах изогнутых губ – мать что-то пыталась сказать мне, но я не услышал.
Отец ушел. Дед деканствовал. Старик, с его умом и знанием людей, все понимал. Догадывался, что не простая это юношеская любовь, а такая ломка, из которой живыми не выходят. Его Митя, сын милой ушедшей дочери, больше жизни любимой, – вот и Митя тоже… По каплям, день ото дня вытекает из него, безвозвратно уходит главный дар матери. Не интеллект, нет. Прирожденное счастье бытия. Радость видеть свет. Редкий дар, лишь немногим данный – Богом ли? Дед был атеист. Родителями? Кто знает… Но у Мити он был. И вот…
Интерес к делу, к научной проблеме, – знал дед, – возникает лишь в годы юности. Или не возникает никогда. В научных терминах думал об этом старый декан биофака: доминанта может быть лишь одна. Здесь – страсть. Неутоленная, неосуществленная, губительная. Наука для мальчика останется навсегда закрытой. Да, будет подобие какой-то работы, – так, возня какая-нибудь. Томительная возня на всю жизнь. Не более.
Второе, – рассуждал дед. – Так восстанавливал Митя мысли этого лобастого человека с пронзительными и печальными глазами из-под нависших бровей, давно похороненного рядом с дочерью и любимой – на всю жизнь любимой – женой. Да, дед умел сосредоточиваться.
Итак, второе. И тоже еще не главное. Мальчик на всю жизнь обречен искать женщину, которая бы его мучила. Но рядом с теперешней умелицей прочие покажутся манной кашей, которая притворяется, что она сахарный сироп (дед любил думать образами). Все будут слабее. Хотя бы потому, что возраст у него сейчас особый – острота чувств, какой больше не будет. Такие страдания не повторяются. Значит, искать будет все новых и новых. И не даст ни одной счастья. И сам будет несчастлив. Чем взрослее, тем несчастливее. Тем тоскливее.
И вот тут-то мы подходим к главному (смотри, Митя, вот как это делается, – слышал он голос деда, – вот как полагается думать и говорить о предмете). Что же главное? Главное, как мы с тобой предположили, и не без основания, чуть раньше, – это дар твоей матери. Светлой, веселой, чудесной, доброй. Дар быть счастливым.
Что же мы имеем тут? Компанию диссидентов, которые не просто собираются уезжать. Уехать – это их главная цель и мечта. И проблема. Но твоя ли? Они уедут, ты будешь жить здесь. С чувством, что живешь в клоаке. В Империи зла. В канализации. А где-то далеко, в небесах демократии, у самого солнца свободы – все они. И как настроение? Как настроение у опарыша глубоко в дерьме, вечно не удовлетворенного физически и духовно? У опарыша, лишенного шанса взлететь к небу даже навозной мухой? Как настроение? Как наш дар быть счастливым?
Дед все предвидел. Ада уехала. За ней последовал Рубин – Рыжий, мой одноклассник, друг и ее любовник.
Что ж, дальше все сложилось, как думал дед. После второго курса меня и впрямь чуть не выгнали – несмотря даже на деда. За обыкновенную неуспеваемость. Органическая химия и прочие учебные предметы в голову не лезли. Тут была совсем другая химия. Голова была занята Адой. То она уезжает. Ночь. Мрак. Общий траур. То она решила остаться. Солнце. Свет. День. Это повторялось и повторялось, пока все не кончилось отъездом. Я остался. Все во мне умерло.
Так мне казалось, и первые жизненные движения – робкие, вялые, смутные – я ощутил нескоро. И все было не так. И все было не то. Любить… Любить я не мог. Не могу. Не смогу. Трахнуть женщину и потерять к ней интерес – мог. Теперь и этого не могу, как выяснилось. Потому что сам себе неинтересен.
Да, дед… Что же ты меня не вытянул из этой паутины, если так все понял, так все увидел? Кому же еще-то было?
Прости, ответ я знаю. Прости. Я помню твои глаза, скорбные, потухающие… Как ты взглядывал на меня! Все надежды, память о единственной дочери – все гибло со мной. Но ты знал: бессилен. Знал пределы своей власти. Перед нею, этой женщиной, ты – опытный, умудренный и битый жизнью, прирожденный победитель – и ты был бессилен. И знал это.
Но одно ты сумел – любить меня. Глупого, влюбленного, несчастного. И моей любви не потерял. Как ты страдал, мой любимый, мой бедный, мой сильный в бессилье, мудрый и страстный старик… Теперь-то я знаю. Узнал, как ступил на свою дорогу, с первых шагов по оставшемуся мне пути – от людей к зверям. В безлюдный, прекрасный лес. В новую одинокую жизнь.
Но Лиза… А что – Лиза? Какой я ей муж? Где моя о ней забота? И не припомню… Так вместе с Сашкой и прожили они с краю моего сознания все двадцать лет. На обочине. На периферии зрения. А последние пять лет – и вовне. Пять лет, что я провел в погоне за крупной и мощной девахой с каштановой косой, столь же недоступной, как Ада… Нет, не она – это юность моя звала меня и манила…
Но вот Лиза… Как же она? Да и смогу ли я без нее? Один, совсем один… Она-то сможет: привыкла.
А вдруг это она, Лиза, – та самая? Единственная? Лиза, моя незримая опора все двадцать лет. Лиза, мать моего единственного сына… Хранительница университетского очага и дачной печки… Но что могу я ей дать? Леса, поля, небо? У нее они есть и без меня. Она богатая, Лиза. Несчастная только. И счастливая… Нет, ведь это не разрыв. Просто поживу тут пока. Идет работа, растут волчата. Тут так прекрасно… И никто мне не нужен, зачем притворяться! Нельзя. Не хочу ее обманывать. Да она и сама все правильно понимает. Лучше меня. Без меня, без меня…
Дорога вывернула из леса. Митя остановился, снял вязаную шапку и зажмурился. Солнце ласковой теплой ладонью накрыло его голову. Он постоял так и снова пошел, громко скрипя сахарным снегом.
Вольер был еще еле виден, а волчата призывным хором, взлаивая, визжа и подвывая, уже приветствовали отца. Черная изба смотрела на приезжего жильца пристально: да неужто хозяин будет?
* * *
В аэропорте Шарля де Голля Алиса Деготь в нетерпении приплясывает в очереди на паспортный контроль и вертит в руках свой загранпаспорт. До сих пор он был девственно чист, чего нельзя сказать о его владелице. Теперь в нем появилась всего одна виза, но какая!
Наконец все линии пересечены, и Надин – бывшая московская стриптизерша, а ныне скромная жена молодого лицейского учителя, обитательница социального жилья, журналистка и студентка Сорбонны – заключает Алису в объятия. Знакомый аромат – Nina Ricci, «Premier Jour» [12]12
Нина Риччи, «Первый день». (фр.)
[Закрыть]. Первый день в Париже!
– Сразу в Сорбонну? Не получится, дорогая! – Парижанка Надин выкручивает руль желтого «Рено», выезжая со стоянки. – Сорбонну расформировали в 1968-м.
– Ты что тупишь? Все в Сорбонне, а ее нет!
– Ну, она как бы есть… И я в ней, но для меня, например, Сорбонна – это «Университет 8», он в Сен-Дени. Там изучают французскую литературу. На основе психоанализа, дорогая. Представляешь? Все равно что делать наши профессиональные па вокруг шеста. Тут для всех гуманитариев один шест – психоанализ. До сих пор, да. Смешно! Хочешь, поедем к нам в Сен-Дени?
– А исторические здания Сорбонны сохранились? Ну, средневековый университет? Первое, что мне нужно видеть. Ты писала, что Сорбонна в Латинском квартале и что ты там неподалеку где-то. Все равно ведь к тебе.
Желтая «реношка» вырулила и понеслась по шоссе. Дорога ничем не отличалась от того серого унылого пути, что ведет в Москву из Шереметьева. Но один плакат был ярким. Собственно, яркой была надпись. И не цвета ее, а сами слова под огромным портретом футболиста, и вовсе не француза. Это был Пеле, бразилец, а из мужских разговоров обе женщины знали, что именно его команда была некогда главным противником прекрасной Франции. «ИНОГДА И МАГИ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ»… Вот они каковы, французы! Сильны ребята, – удивилась Алиса. Наконец Надин остановила машину, вышла и, обойдя автомобильчик спереди, широким жестом распахнула пассажирскую дверь:
– Champs Elisee, s’il te plait! [13]13
Елисейские Поля, пожалуйста! (фр.)
[Закрыть]
И вот тут начались чудеса. В многоязычном людском потоке никто никого не толкает и не торопится. Радостное солнце, старые деревья, давно изведенные на улицах Москвы, блики веселья на лицах – или блики мартовского света? Прекрасные дома… Город радости – вот что такое Париж, – решила Алиса. Она вспоминала и Москву родную – город окраинных рынков в предместьях, Текстили, Печатники и Люблино – свой крысятник. Вспоминала она и Москву чужую – город площадей и музеев, блестящей роскоши и уныния, тот город, ради завоевания которого она и отправилась в столицу милой Франции, словно юный Растиньяк из провинции. Вспоминала и сравнивала.
Надин жила неподалеку от российского посольства. Оказалось, что, куда ни захочешь, всюду недалеко. И всюду можно пешком.
К Сорбонне они шли по улицам, окрашенным оранжевым солнцем в цвет радости, и Алиса все вздыхала от облегчения, будто с нее спадали какие-то вериги, о которых она и не подозревала, вес которых прежде не ощущала, как не чувствует черепаха груза своего панциря.
И когда Надин повела рукой, указывая на невысокие корпуса университета – тот же классицизм и модерн музеев и учебных зданий, к которому приезжая завоевательница привыкла на Пречистенке и Пироговке, в переулках вокруг Воздвиженки и Арбата, Алиса Деготь поняла, что это уже не она смотрит. Не она думает. Другая.
Я думаю так же легко, как иду. Да разве я иду? Нет, лечу. Невысоко пока. Но привыкну и скоро взлечу выше. Так высоко, как позволит мне это небо – небо Парижа. Просто я стала птицей.
В Сен-Дени они отправились на метро. Усыпальница древних королей соседствовала с новым зданием из стекла и бетона – это и был «Университет 8».
Надин прошлась по коридорам – некоторым встречным кивая, с большинством целуясь. И наконец Алисе удалось сделать то, ради чего она и была здесь сегодня.
Надин открыла для нее свою университетскую почту, и с адреса настоящей Сорбонны по эфирным сетям полетело письмо. Ни Marie de France, ни ее переводчица Мария Люблинская-Талбот на этот раз совсем не трудились – тесня друг друга, строки сами укладывались в размер и рифмовались сами:
Глаза небес струят тепло,
И пусть сейчас нам нелегко,
Мечты сплетая, жить и ждать,
Когда весны златая рать
Обрушит дождь лучистых стрел
К земле, чтоб вновь зазеленел
Боярышник шатром и лег
Ковер фиалковый у ног, —
Мы вступим на него вдвоем
И не мечты – тела сплетем!
Этот фрагмент воображаемого лэ «Боярышник» сложился по дороге в Сен-Дени. Алиса была довольна. Все шло по плану. И даже… Даже как-то иначе. В этом городе, в самом его воздухе, в прозрачных тенях голых еще ветвей платанов – серых ветвей, на ветру тихо постукивающих друг о друга, – веяло волшебство.
Утро настало внезапно. Алиса вскочила, будто кто-то позвал ее – громко выкликнул с высоты, откуда-то из-под низкого неба, из быстро несущихся облаков, – и бросилась к окну. И не увидела ничего, кроме солнца. Оно слепило глаза, привыкшие к серому сумраку московских рассветов. И все же что-то заставляло глядеть прямо на солнце.
Не мигая, как хищная птица, она задрожала. Это была дрожь волнения, предвкушения, начала. Крупная и сильная дрожь сотрясала все тело – напрягшееся, устремленное ввысь.
Алиса еще подалась к свету, распахнула окно и, грудью чувствуя ветер, взмахнула руками – раз, другой, еще и еще. Дрожь не утихла, даже усилилась, и от восторга перехватило горло. Птица, ожившая в этом молодом женском теле, радовалась утру. Ликовала и рвалась на волю. Клекочущим звонким кличем, оглушившим слух, ответила она небесному зову.
Мгновение – и все кончилось. Алиса затворила раму, тихо отошла от окна и задумчиво направилась к двери.
Завтракали в кафе – совсем по-парижски. Далеко от дома, проголодавшиеся и свежие. Надин что-то говорила, но Алиса не слышала. Она смотрела.
На веранде, за плетеным столиком неподалеку от них, сидела женщина. Очень старая женщина. Не старуха – Алиса уже поняла: в этом городе старух нет.
Она была прекрасна. Годы – не старость – отсекли все лишнее, случайное от ее прежнего, юного, а затем зрелого облика. Резец времени прорисовал до чистой ясности совершенства все линии. Глаза увеличились и заблистали из глубоких темных глазниц весенней синевой неба. Губы, утратив плоть, стали рисунком пережитой страсти, ее знаком, ее иероглифом.
Алиса вспомнила мумию головки Нефертити – обугленная пламенем тысячелетий, она была воплощенной красотой. Ни одна живая женщина не могла бы с ней сравниться. Этот маленький череп, плотно обтянутый истончившейся темной кожей, был красивей всего, что Алисе довелось видеть.
Женщина в плетеном кресле не двигалась. Закинув руки за голову, она смотрела в небо. Облака неслись, пропадали и исчезали, а она смотрела на них неподвижно. В чашке перед ней кофе давно остыл и подернулся пленкой, а она все смотрела и смотрела в небо, в это низкое близкое небо – кажется, подними руку – и дотронешься…
Вечером, вернувшись к Надин, Алиса сказала:
– Слушай, подруга, а у тебя тут первых романов нет? Хотя бы парочки текстов?
– Каких первых романов?
– Ну, первых. Таких, чтобы автор была женщина, чтобы это был ее первый роман и чтобы он ее сразу прославил.
– А, – ответила бывшая стриптизерша, а ныне студентка Сорбонны по специальности «современная французская литература». – Вот ты что задумала. Есть. Сейчас.
И, не глядя протянув руку, достала с полки две тонкие книжки.
– Саган? Какая сексуальная, – сказала Алиса, разглядывая фотографию на задней обложке. – И девочка совсем. «Bonjour, tristesse». «Здравствуй, грусть»… Название ничего, но сегодня не прокатит. По-русски есть? А это что? «Под сетью»… Айрис Мердок… Читала ее что-то, «Черный принц», кажется. У нас в программу входит. Мура чудовищная. Ну, может, этот первый получше. И название ничего.
Больше Алиса из квартиры не выходила. Ни Надин – крупная мощная блондинка, – ни ее по-галльски изящный, даже хрупкий, темноволосый и синеглазый муж-учитель – почти не видели свою постоялицу и даже как-то забыли о ней, вернувшись к своей повседневной жизни и радуясь ей, как они привыкли радоваться всему: вечеринкам и покою, шумной толпе на улицах и одиночеству в работе, Булонскому лесу при свете солнца, в лучах которого невинные детки играют на траве, и Булонскому лесу под луной, когда правят бал извращенцы и проститутки…
Прошло две недели. Алиса поднялась с широкой тахты, отставила в сторону ноутбук, который держала на коленях, подложив под него подушку, чтобы приблизить к глазам, – зрение она укрепляла тем, что каждое утро смотрела прямо на солнце, но помогало как-то не очень, – и потянулась. Сладко, устало, довольно потянулась, заломив руки за голову и обхватив запястья.
И пошла на кухню – выпить кофе. Вдруг оказалось, что она голодна – есть хотелось нестерпимо. В холодильнике обнаружилась банка бобов в томате, немного сыра, в плетеной корзинке – хлеб.
Вошла Надин.
– Ну вот, – сказала Алиса просто, даже как-то обыденно. – Спасибо тебе. Мне пора в Москву. Вот, почитай, – она протянула стопку листов, компьютерную распечатку страниц на двести, – давай ты будешь моим литературным агентом. Согласна? Только название надо обсудить.
– Господи, – обрадовалась Надин, – конечно, согласна. Это что, роман?
– Ну да, – ответила Алиса. – Роман, а что же еще?
– Так, – сказала Надин. – Ну, посмотрим… Это про что?
– Про нас. В смысле, про стриптизерш. Девочек из предместий. Про мужиков. Про секс. Понимаешь, Набоков написал свою Лолиту, Генри Миллер – всякие тропики, а мы что, хуже? Это моя «Лолита», только от лица Лолиты, а не профессора этого долбаного. Там у меня, кстати, и про профессора есть. Знала я одного такого. Хуево-задумчивого.
– А, – рассмеялась подруга, – помню, помню это твое словечко. Хорошо. А название?
– Ну, название… Не знаю пока. Давай вместе. Например, такое: «Между ног: шест, помело или единорог?»
– Круто, – засмеялась Надин. – Только длинно что-то. И при чем тут единорог? Мы что, невинные девы?
– А там и о детстве тоже. Ведь и мы были когда-то невинными, правда? – Алиса вспомнила об отце. Опять вспомнила об отце. И сердце ее сжалось. Она почувствовала усталость. Тяжелая, пригибающая к полу усталость заставила пошатнуться, и молодая женщина прислонилась к дверному косяку. Постояла с минуту, опустилась на стул, подперла голову рукой, приняла у Надин чашку кофе.
Пришел из лицея Жак, и они выдвинулись в кафе – отмечать последнюю ночь в Париже, роман и новую жизнь. В кафе придумывали название.
– «Мармозетки», – предложил Жак. – Мило, правда?
– А кто это, мармозетки? – удивилась Алиса.
– Обезьянки такие. Маленькие обезьянки, их держали знатные дамы.
– А при чем тут мы?
– При том, что у нас так называют стриптизерш. Потому что они крутятся вокруг шеста и как бы пытаются на него залезть. Как мармозетки, понимаешь? Все время вокруг шеста.
– Мило, но у нас не поймут. Я ведь и в Москве буду публиковать. Надин все согласует.
– Хорошо, пусть пока будет твое. Условно. Издательство само предложит. Они это умеют.
Роман приняли. Приняли крупные издательства, без оговорок, сразу – и в Москве, и в Париже.
Алиса решила обойтись без псевдонимов. Это было ниже ее достоинства. И потом, ей нравилось ее имя. И фамилия нравилась. Кроме всего прочего, фамилия была самая подходящая – лучше любого псевдонима. И по-французски выглядела великолепно – ее только чуть подправили, и неожиданно вышло значительно: ДЕГОТЬ – DIEUGOTT. Dieu – по-французски «Бог», Gott – по-немецки…
Алисино, то есть теперь уже авторское, название тоже приняли, только разделили: «Между ног» стало названием, а «Шест, помело или единорог» – подзаголовком.
В Шереметьеве автора будущего бестселлера никто не встречал. Девушка села в автобус, закинув за плечо полупустую сумку, как суму переметную, и стала смотреть в окно. Серые перелески, серо-желтая трава, словно шкура бездомной собаки, сбитой на сером асфальте и брошенной в кювет… Посеревшие от зимних снегов и весенних дождей рекламные постеры… Неподвижные мглистые тучи над городом. Наступал апрель.
Идя от метро «Текстильщики» через рынок к Четвертому Пионерскому проезду, Алиса курила. Это была ее последняя сигарета. Так она решила.
Пришла, приняла душ, что-то съела и поспала.
Проснулась, заварила чаю, включила компьютер и начала новый роман.
* * *
Сиреневый туман… Наверное, это моя любимая песня. А как это иначе назвать – лучше слов нет. Как назвать это марево над тающим снегом, под еще не зажженными фонарями, эту печальную дымку навек погасшего и все же медлящего весеннего дня, как назвать это облако напрасных надежд и несчастной, обреченной любви: она все еще здесь, все медлит, но уже уходит, уходит…
Так думала я, пока мы шли по не просохшему еще асфальту узкого тротуара, бок о бок пробираясь у самых стен домов на Суворовском бульваре: слева – лаковые бока тесно припаркованных «Мерседесов», сверху – сталактиты сосулек.
Мы шли от Арбатских ворот, и сиреневый туман плыл вокруг и кружил нам головы, а запах кофе и шоколада дурманил, вырываясь из приоткрытых дверей кофеен, клубов и баров… За их зеркальными стеклами, словно в аквариумах, мерцал неяркий свет и медленно, неторопливо, как тропические рыбы, двигались в густой воде роскоши какие-то люди. Туда нам было нельзя.
Собственно, нам никуда было нельзя. В «Шоколаднице» мы уже посидели, в музее было полно знакомых, и оставалось только идти по Бульварному кольцу куда глаза глядят.
Вот еще один освещенный подъезд и несколько старинных каменных ступеней… Мы переглянулись и с трепетом поднялись к тяжелой дубовой двери с начищенной бронзовой ручкой и такой же табличкой: «Музей Востока».
А вдруг там есть кафе? Или скамейки в залах по крайней мере? И нет знакомых?
В здании не было ни души. То есть посетителей не было. А вот гардеробщица была. И в залах – ровно по одной смотрительнице. Для нее и предназначался единственный в каждом зале стул.
И кафе не было. Стоило сдать пальто, как пристальный взгляд гардеробщицы передал нас не менее внимательному надзору смотрительницы первого зала, которая для верности даже поднялась со своего стула и проводила нас, следуя на шаг позади, до двери следующего помещения, у которой нас с нетерпением поджидала новая бдительная пожилая дама, столь же иссохшая, как и ее предшественницы.
Мы поняли, что попались, но уйти немедля было как-то неловко. Делая вид, что соглядатаев нет, но стараясь не смотреть друг на друга так, как нам этого хотелось, мы шли из зала в зал медленно и вглядывались в сокровища за стеклянными витринами.
Восток дышал расплавленным солнцем, манил немыслимой роскошью, обещал счастье. Нам – счастье! «Жестоко, – подумала я, и на глаза навернулись слезы. – Как жизнь жестока!»
И остановилась, чтобы незаметно для него и для старушки смахнуть со щеки каплю. Блестящими глазами, словно немая старая птица, искривленная годами женщина пристально следила за моим лицом. Я отвернулась к витрине.
В этой были халаты. Их полы были прикреплены под стеклом расправленными, словно крылья тропических бабочек. Бухарские шелка переливались ярчайшими пятнами, линии с беспощадной точностью сплетались в странные узоры – то ли совсем простые, то ли невообразимо сложные. «Рисунки судеб», – подумала я.
– Тебе нравятся? – спросил он. – Хочешь, подарю? У меня на даче таких много. Я их когда-то коллекционировал, потом бросил.
– Нет, – ответила я сразу, не думая. Почему? Ведь я и мечтать не могла о такой вещи. Проходя мимо витрины японских нэцке, я почувствовала на себе чей-то взгляд. Так бывает, когда на тебя смотрит мышь из норы или паук из угла – кажется, никого нет, а вот взгляд есть. На этот раз это были раскосые глаза таинственной лисицы с семью хвостами, вырезанной из чьей-то кости, – такой крошечной, что ее саму было еле видно. Но ее взгляд сказал мне, почему я ответила «нет».
Дачи, дачи… С кем он ездил на свою? Кому набрасывал на плечи восточные халаты из своей коллекции? Жарким ли летом? Томительной ли весной? Теплой ли осенью? Кого коллекционировал, чтобы потом бросить?
Раскосые глаза фигурки нэцке смотрели мудро и смело. Бесхитростно. К чему хитрость, когда так прекрасна жизнь? Ее не перехитришь. И себя тоже. Так думала маленькая лисица с семью хвостами, вырезанная из чьей-то кости. Сколько лет смотрела она сквозь стекло? Искала, кому это высказать. И вот нашла наконец…