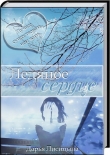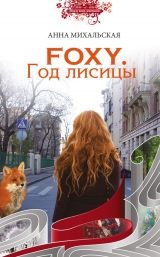
Текст книги "Foxy. Год лисицы"
Автор книги: Анна Михальская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
4
Пробка от шампанского, с шумом вылетающая и немедленно падающая вниз, – вот изрядная картина любви.
Козьма Прутков
Этот разговор тоже был в феврале. Но в самом начале. Со дня телефонного звонка – дня святой Татианы – прошло семь дней.
– Ты даешь нам год? – Он смотрел мне в глаза. – Год? Только год? – Черные зрачки расширились и заблестели, словно камешки в прозрачной воде. Мне не показалось. Это действительно были слезы. Семь дней нашей новой жизни. Семь дней творения. Боже мой! Неужели это он? Неужели я? И все это со мной? С нами?
Подошел официант, поставил на стол пепельницу. Холодный металл стукнул о гладкий гранит, и я очнулась. Мне стало страшно, но я засмеялась:
– Да нет, я о другом… Просто сказала, что хочу описать год из жизни лисы. Одной лисы. Давно хочу, материал почти собрала. Буду рассказывать о ней, месяц за месяцем. Начну с декабря. Я ведь много лет наблюдаю. Живет на берегу Истры, в Трехдубовом лесу. Ну да, рядом с дачей.
– Рядом с твоей дачей?
– Не моей. Огнева. Точнее, его стариков. Дед купил давным-давно, в пятидесятые, и достроил. Вырыл в песке еще один этаж, полуподземный, почти нору. Там стены кирпичные, прохладно и темно, как в погребе. А у меня никаких дач нет. И не было никогда, ты помнишь… Дачи – это у вас.
– Да. Я помню… – Он замолчал, прикрыл глаза рукой. И слава богу…
– Ну хорошо. Лиса, – сказал он наконец и снова взглянул на меня. – Год из жизни лисы. Замечательно! Что за лиса? – Он улыбался, глаза лучились. Мне было тепло от них. Как он смотрел! Я была не просто красива. В нашей науке это называется «суперстимул». Я была для него суперстимул. Релизерный суперстимул, вот! Как моя лисица для всех окрестных лисов. Забавно чувствовать себя суперстимулом. Весело. Счастливо.
– Знаешь, какая она… Удивительная! Я ее назвала Фокси. Лисичка.
– Это ты удивительная. Фокси. Лиска… Нет, но год… – И он взглянул в окно. Темнело, мимо, по Октябрьской площади один за другим плыли троллейбусы, и снег будто еще сильнее бился с улицы в стекло, к теплу и свету, словно птица.
– Год – особый срок. Разве нет?
– Да, – сказал он. – Ты права. Особый. «Ах, барин, барин, добрый барин… Уж скоро год, как я люблю…» Смешно. Да нет, страшно. Какой там год… Тот наш год, да еще девятнадцать. Двадцать лет! Я люблю тебя двадцать лет.
– Нет, – сказала я неуверенно. – При чем тут девятнадцать? Двадцать? Мы же не виделись. Ни разу. Ну, почти. Издали… Это не в счет. Да и тот год… Разве ты меня любил? Нет, конечно. Иначе так бы не кончилось. Раз – и все. Так не бывает.
– Видно, бывает.
– Ну, перестань. Это тебе сейчас кажется.
– Кажется? Ну нет! Это другое казалось. А то, что сейчас, вовсе не кажется. То, что сейчас, было всегда. Я тебя полюбил раньше, чем встретил.
Слова, которых в жизни не слышала. И уже не ждала. А вдруг – правда?
– Но ведь ты тогда говорил, кого любишь. И повторял, повторял все время… Ее, а не меня. Свою юную американскую девушку. Одну из тех, что Ада присылала в Москву. Одну из ее стэнфордских учениц. Верно? Объяснял, что это безнадежно, что она никогда здесь больше не появится, а если появится, то жить не будет. Что ты не можешь обеспечить ей то, к чему она привыкла. Что нельзя из Штатов привезти все, даже капусту. И я поняла: для меня ничего нет и не будет. Только боль… Но честно сказал с самого начала. Двадцать лет назад, здесь. В «Шоколаднице» на Октябрьской… Чтобы я не надеялась. Я и не надеялась. Это ведь на ней ты женился? В конце концов? Ну что ж, росла в Америке русская девушка и выросла, а тут и перестройка наступила. С капустой. Правда, сначала – без.
– Нет, все не так. Так – и не так. Я ведь тебя совсем не знал. И так и не узнал тогда. За год. За целый год… Ты была такая… Сдержанная. Такая гордая. Закрытая.
– Я думала, что люблю Митю. Только это была обида, не любовь. Я не понимаю предательства, все думаю, что это ошибка. Что такого не может быть. И ждала его, чтобы он пришел и оказалось, что предательства не было. А просто ошибка. Но видишь… ошиблась сама. Думала, эта мука – любовь. А была – обида.
– Можно, я задам тебе очень личный вопрос?
– Личный? А до сих пор мы о чем говорили?
– Да ладно, это я по привычке… Ну, просто когда речь об интимных вещах… Ну, ты понимаешь…
– Ах, глупости. Можно, конечно.
Он отвернулся к окну. И мне показалось, что я опять одна. Как всегда. Нет, не всегда, конечно. Как последние десять лет. Или восемь? Точно я не могла вспомнить. Полное одиночество началось, когда Митя стал жить в заповедниках не просто подолгу, не в экспедициях, а постоянно. Психологически постоянно. Безвременно – так, что было неизвестно, когда он приедет. И когда снова уедет. И пока он вынужденно пребывал в городе, судорожно пытаясь переделать массу накопившихся дел, его здесь как будто и не было. Уеду завтра… В крайнем случае послезавтра… Через недельку… Сегодня вечером… Сейчас… Уезжаю! Ну, пора выдвигаться. До свиданья, Лиска. Все, пошел.
И я привыкла. Привыкла всегда оставаться на месте: в Москве или в Звенигороде, на биостанции. Или на даче. Далеко и надолго уезжать не требовалось: жизнь лисиц в пригородах можно было изучать и тут. Сын учился. В «Третьей» школе, кстати. В моей. То есть в нашей – математической, хотя древние языки, литература, история – все это было его надежным духовным домом с раннего детства. Но он нуждался и в доме физическом. И во мне. Мы были большие друзья, так мне казалось все годы. Но в школе Сашка был совсем ребенок, а студентом сразу повзрослел, внезапно и быстро. Так что всего три года назад я жила еще «одна с ребенком», а потом вдруг оказалась просто одна. Странно, что все это пришло мне в голову только сейчас, странно, что я стала вспоминать и думать только здесь, за столиком из темного полированного гранита, над чашкой давно остывшего шоколада, напротив человека, с которым я разговаривала в седьмой раз за девятнадцать лет (первый раз был семь дней назад, на святую Татиану, по телефону).
– Ну, так я спрошу? – Он снова взглянул на меня, слишком прямо, так, что стало трудно дышать от жара, как случается у костра, если ветер внезапно переменится. Но блестящие зрачки узких серых глаз уже скрылись за косыми лучами ресниц. Черных, как прежде. И я успокоилась. Кивнула.
– Мне почему-то кажется… Я почему-то уверен, что… Что у тебя кроме Мити за все эти годы никого не было. И сейчас никого нет. Ну вот, сказал. – Он опять смотрел в упор, зрачки расширились и скрыли серую радужку, как тонированные стекла. – Я прав?
– Да. – Я ответила слишком быстро, как отвечаю всегда. И часто, слишком часто за это себя потом ругаю. Но с ним? Здесь? Сейчас? О чем тут думать? Чего бояться? – Да, ты прав. – И взглянула в снежную тьму за стеклом. Февраль… Опять февраль… «Никого не было» – как странно звучит. Я не привыкла говорить о таких вещах. И слова эти едва помню на книжных страницах. Сколько же лет я не читаю романов? Только научные публикации, все о зверях… У нее «никого не было»… «Никого нет»…
«Человека не имею» – вот, врезалась же в память строка евангельской повести. Тридцать восемь лет – это вдвое, ровно вдвое дольше, чем девятнадцать, – лежал недвижимый больной у входа в пещеру, и глубоко, глубоко внизу напрасно ждала его целебная родниковая вода. Темная вода на дне пещеры. Не было у него никого, кто бы взялся снести по ступеням вниз, исцелить. Или хоть дать надежду. «Человека не имею» – так он сказал…
В февральской мгле розово-желтыми шарами висели вокруг фонарей облака воспаленного света.
– Что ты? – сказал он и взял мою руку. – Ну, улыбнись. Посмотри на меня. Ну, вот. Какая ты красивая… Ты потрясающе красивая, Лиска, знаешь? Ты это знаешь?
I. По следу (зима)
…Каждая хорошая пороша – праздник для следопыта-охотника.
А.Н. Формозов
1. Умереть… Уснуть… (декабрь)
Собака замерзала на земле, чуть припорошенной снежной крупой. Ночь старый кобель проспал в доме, на снотворном. Утром стал стонать. Митя открыл дверь, и пес, волоча зад, из последних сил напрягая мощные прежде плечи, покрытые как-то внезапно свалявшейся и посеревшей белой шерстью, выполз наружу. Хотел, как всегда, встать мне навстречу – и завалился на бок. Тусклые впалые глаза сказали: «Не могу. Прости». Чуть шевельнулся обрубок хвоста – едва заметно двинулся султан длинных белых волос на конце, почти не потревожив редкий снежный нанос на обледеневшей хвое. За всю долгую жизнь этот воин не проиграл ни разу. Не только не поджал хвост – даже не опустил султан. И сейчас прямо смотрел мне в лицо, смотрел не мигая. Молча.
Сомнений не было, но Митя все старался отложить. Жизнь медлила, уходя. И самое страшное, что это видела девочка.
Ведь и за ее спиной стояла смерть – все еще близко, так близко, что веяло холодом. Ощутимо – словно декабрьским ледяным ветром, словно сквозняком из разбитого окна. Так для нее сложилось, для этой четырнадцатилетней девочки: месяца не прошло, как умерла мать: боли, больница, анализы – смерть. На все – едва полный месяц. И неделя, как запил отец. А больше у нее никого и не было. У нее никого не было…
Только мы – соседи, из другого даже подъезда, не знакомые даже, а просто – всегда здоровались. И пришли на похороны матери – такой молодой. Такой милой – и еще совсем, совсем недавно, всего какие-то недели назад, совершенно здоровой. И живой.
Митя зашел и на поминки – какие-то люди там собрались, и, казалось, немало. Но месяц спустя она нам позвонила – эта девочка. Тогда и выяснилось: одна – и никого. Вот и пришлось взять ее с собой, хотя мы знали, что ничего хорошего там не предвидится. Саша остался с ее отцом – выводить из запоя. Круто, конечно, для девятнадцатилетнего студента, но другого выхода не было. Мы ему объяснили, что и как делать. А собака прожила с нами столько же, сколько было девочке. И вот уже второй день пес ждал нас на даче. Один. Но мы все-таки надеялись: не сейчас.
Сейчас она стояла за моей спиной. Я смотрела в глаза собаке. Девочка стояла тихо и смотрела из-за моего плеча. Я обернулась. Она даже не пошевелилась – не заметила.
Мы обе знали, на что смотрим.
«Да, – подумала я. – Смерть у нее за спиной. И она же тускло глядит ей в лицо из впалых глаз моего пса. Но эта девочка, ровесница умирающей собаки, смотрит на смерть в преддверии жизни. А я?»
Я смотрю на смерть в преддверии смерти. Дальше – угасание. Всего через пару лет я уже не смогу родить ребенка. Дать новую жизнь. Никогда. Никогда – вот что главное. Вот чего не понять. А что тебе, собственно, непонятно? Просто все уже было. Новой любви тоже не будет. Пусть сейчас я жду, подкарауливаю ее, словно незнакомую птицу, бродя по лесу. По лесу своей земной жизни, а ведь забрела я уже куда дальше половины – да что там, каких-нибудь пятнадцать лет и осталось. Если взять щенка, может, ему горевать придется – не мне. И если думать ясно, так я уже умерла. Смотрю с той стороны, уже издалека, как мой бедный отважный пес. Мы с ним и сейчас вместе. По одну сторону.
Позвонил Сашка. Соседу удалось добраться до транквилизаторов, оставшихся после смерти жены, и принять восемь таблеток. Он уснул. С минуты на минуту Сашка ждал нарколога: телефон нашелся в записной книжке спящего. Приедет с капельницей, – объяснял мне сын, – чтобы сначала вывести из тела соседа все лишнее, а потом ввести что-то такое, от чего он пить не будет. А если выпьет – умрет. Как выяснилось, процедура под названием «кодирование» в этой семье была не новостью: бедная умершая женщина, казавшаяся нам такой счастливой, за свою короткую жизнь вызывала этого врача уже дважды, и оба раза помогало года на три. Теперь это придется делать нам.
А пока, замерзая, я гладила по голове девочку и ждала. День едва брезжил сквозь низкие еловые ветви у самых стекол.
Ветеринар приехал быстро. Шум двигателя я расслышала издалека… Издалека. И девочку увела подальше, поглубже в дом. Мы с ней сидели вместе. Молчали. Никогда себе не прощу – предала собаку. Передала Мите на руки в последний час. Отвела глаза, убрала теплые руки с холодеющего, костенеющего тела. Ушла: оправдалась девочкой и слабым сердцем. Вот уж точно – слабое у меня сердце. Зато у пса, моего умирающего пса – сильное… Он бы не оставил. Но теперь что вспоминать… Через час все было кончено. Собака лежала у дорожки, мордой в лес. Недавно живой пес, казалось, спал. И все же, стоило мне его увидеть, серого на снегу, а еще так недавно – белейшего любой белизны… Умереть… Уснуть…
И я – замерла. И замерзла.
Мерзла, пока жгла на костре собачью подстилку, грязную от последней борьбы со смертью, мерзла, пока Митя рыл могилу.
И чай казался ледяным, хотя от него поднимался пар и он обжигал рот.
Снова позвонил Сашка.
– Привет, – сказал он устало, – ну, на этот раз тени, кажется, отступили. Все будет хорошо, вообще. Врач уехал. Что? Как пациент? Он-то в порядке, чего ему будет! Вот только злюсь на него очень. Да знаю, что зря. Но не могу. Ох, и вымотал меня – вконец. Пойду спать, не звони. И не говори мне ничего. Держись сама-то. Но только имей в виду: у тебя теперь есть дочка. Вот так.
– Пойдем, Лиска. Пройдемся вокруг Трехдубового. А то тяжело как-то, – сказал Митя.
Мы вышли в сумерки – он, я и девочка. Моя дубленка пропиталась смрадным тяжелым дымом того костра.
Вокруг стояли недвижные темные ели старинного лесного участка Митиной дачи. Скрипнули калиткой, но прикрыли за собой тихо, будто боялись разбудить того, кто остался.
За серым снежным полем темнел Трехдубовый лес. Позади, где-то в глубине елок, резко крикнула неясыть, вылетая на охоту. Друг за другом шли через поле к лесу, а я привычно смотрела под ноги. И вот наконец обок тропинки появилась ровная строка лисьего нарыска: по пороше цепочка круглых темных отпечатков, задняя лапа точно в след передней… Это была она – моя Фокси. Недавно прошла, почти перед нами.
И тут мы встали – все трое сразу, как вкопанные. Как дикие звери на тропе.
Вдалеке, под серым давящим небом, у мутно-синей, почти черной полосы ракит, вдоль реки медленно и уверенно двигалось что-то белое. Лыжник в маскировочном костюме. А вот и ствол за спиной. Охотник!
– Вот гад, – сказал Митя. – Зайцев стрелять собрался. Попадет еще! Малика [2]2
Малик – заячий след.
[Закрыть]и так мало, год от году все меньше. Охотник крутой нашелся… Еще бы в Москве, в парке пострелял. Тут до Кольцевой всего тридцать верст. Нет, какой гад! У своей же дачи зайцев лупит…
А может, и лис твоих…
Лыжник скрылся за лесом. Мы побрели вперед.
Резко хлопнул выстрел. Еще один, из второго ствола.
Все смолкло. Север сыпал снежной крупой, задувал лисий нарыск. Круглые темные следки бледнели и пропадали.
* * *
Малый Левшинский переулок короче декабрьского дня. И сумеркам стоило только шагнуть, как он уже кончился – этот день. И переулок тоже, вместе с ним.
Но телефон все звонит и звонит в новом доходном доме, выстроенном в странные годы нового тысячелетия – годы, которые русский народ с меткостью, присущей ему даже в пустоте времен, назвал «нулевыми».
Звонок все не стихает. Кто-то очень настойчив. Деятелен. Молод, наконец.
Дом, не слишком высокий, приземистый и вместительный, даже в сумерках смущает блеском латуни – ярким золотом карнизов, оконных рам, дверей и настенных украшений. Конструктивизм и модерн, сталинский ампир, арт-нуво и нечто иное, церетелиевское, образовали лужковский стиль нувориш и придали очертаниям целого такую выразительность, что у метро «Кропоткинская», на Арбате или Пречистенке вы легко можете найти этот дом по его местному имени – «Золотой унитаз». «Унитаз», короче. Любого спросите…
Наверное, только женщина в джинсах и дубленой куртке, опустившая у квартиры на шестом этаже пакеты из супермаркета и второпях отпирающая тяжелую дверь, чтобы успеть к телефону, – звонок еле слышен, но тревожит, – только она одна не знает имени своего дома. Потому что она иностранка, хоть и русская. Родилась в Калифорнии, в семье потомков русских эмигрантов первой волны, а в Москве прожила целых шестнадцать лет. Потому что детство ее прошло в пригороде Сан-Франциско, и ей так не хватает широких стеклянных стен, за которыми, как в витринах, садятся в восемь часов вечера за общий стол американские родители и дети, демонстрируя соседям нерушимость семейного очага…
Но говорить с людьми на улицах этого города она до сих пор не может. Privacy [3]3
Право на личную жизнь.
[Закрыть]– обратная сторона внешней открытости. Замкнутость – в глазах и складке губ, еще мгновение назад растянутых вверх и в стороны, чтобы показать белизну зубов, первый символ благополучия, и бодрое дружелюбие – второй знак успешной, состоявшейся, полноценной жизни.
Она встревожена настолько, что сразу проходит по коридору в кухню, где, забытый на столе под скомканным полотенцем, звонит телефон. Звонит настойчиво, среди немытых тарелок и кружек из-под кофе, словно взывая о помощи – или, напротив, угрожая и требуя?
Что это может быть? Что случилось? Кому придет в голову звонить в пятом часу по домашнему? Что-то в школе, куда она утром отвезла дочь? Но, судя по грязной посуде, та уже возвращалась домой. И, кажется, Ло с приятелями (нет, вероятно, с одним бойфрендом) только что ушла. Что-нибудь с Сашей? Но он еще после завтрака вышел в музей… Или сегодня у него день лекций?
– Алло, – привычно-приветливо обращается она к неизвестности в трубке. И смотрит в окно. С самого верхнего этажа своего удивительного дома, такого причудливого, так непохожего на калифорнийские – за это она его и выбрала, и потому что отсюда Саше совсем недалеко до Музея – в синих сумерках она видит громадную темно-золотую луковицу русского храма, прикрытую нежной кисеей мелкой снежной крупы.
– Здравствуйте, – отвечает ей тот самый голос. Странный голос – юный и старый, сильный, режущий слух, как зубчатый край жестяной банки, как крик крупной тропической птицы, невидимой среди лиан. Скрытой где-то там, в проводах.
Молчание. Она ждет.
– Здравствуйте, – значительно повторяет голос. Он произносит слова неторопливо и тщательно, будто внушает что-то маленькой девочке. Или инвалиду, – думает она, вспомнив о своей матери – там, в Америке. – Это Алиса Деготь, – голос звучит сверху, будто с высокого белоснежного потолка просторной кухни или даже из поднебесья. Странно – ведь он исходит из трубки, прижатой к уху. – Я будущая аспирантка Александра Григорьича. – Слово «аспирантка» голос произносит, окружив его паузами и выделяя придыханием: «А-а-х… спи…рантка». – Он вам, наверно, обо мне говорил.
– Простите, – замечает она, – если не ошибаюсь, недавно вы представлялись как его студентка.
– Ну-у-у… – да, – соглашается голос. – Но теперь – будущая А-а-ах-спи-рантка. Могу я услышать Александра Григорьича?
– Жаль, но его нет. Извините. – И она нажимает на кнопку отбоя. Невежливо, конечно. Но не хватало еще вступать в беседы с этой девушкой. Та явно этого хочет. Иначе зачем звонит по домашнему? Саша предупреждал, что дает своим студентам номер мобильного. Не всем, но многим. А уж будущей А-а-ах-спи-рантке… За шестнадцать лет супружеской жизни Александра Даль успела кое-что понять. И сомнений у нее не было.
Она помнила, как, услышав впервые ее фамилию, Александр Мергень усмехнулся, так что на левой щеке появилась детская ямочка, и, глядя прямо в юную душу, спросил: «Даль? Однофамилица словаря?» Молодой московский интеллектуал, мальчик из хорошей семьи – так о нем говорила ее учительница русского, Ада, эмигрантка второй волны. Ада была тогда самый авторитетный для нее человек. Ада и дала ей его телефон в Москве. Ей и ее подругам. Сразу несколько телефонов, все – Адиных бывших учеников из какой-то особой привилегированной школы. И вот он сидит перед ней – идеальный мужчина-мальчик, обаятельный, сильный, капризный…
Она не поняла, он стал объяснять… Потом он писал ей в Сан-Франциско. Он так любил письма. Писал, что пошел на курсы английского языка, что это курсы для тех, кто хочет эмигрировать в USA. Александра была тогда еще Сандра, а не Аликс. Аликс она стала в Москве, когда приехала пять лет спустя. Все эти пять лет она думала о нем. Писала письма. И читала письма.
И все пять лет учила русский язык и читала русские книги – со своей учительницей, той, что учила Александра в школе. В Калифорнии Ада окружила себя юными девушками. Ада завораживала их. Привораживала. И время от времени посылала в Москву. И каждая знала, что в Москве ее встретят русские мальчики. И любовь.
Ада и послала Сандру Даль к Саше Мергеню, и в первый раз еще в восемьдесят шестом. Она знала, которую из учениц направить к каждому своему ученику. Сандра прилетела в Москву в июле, в жару. Он встречал Сандру в Шереметьево. И в тот же июльский вечер, в пустой квартире друзей, где остановилась Сандра, он впервые назвал ее Аликс. Как русскую императрицу, – сказал он. – Ведь у нас с тобой даже имена одинаковые: Александр и Александра. Но Сашей я тебя звать не хочу… Саша – это все-таки мое имя, и оно такое тихое, шепчущее. А ты – ты такая яркая… Блистательная. Свободная…
Вечер длился – солнце медлило у края жаркого неба, а потом внезапно скатилось за крыши. Ночь оказалась мгновенной.
Сразу же в предрассветной мгле защебетали воробьи на карнизах, и вот уже солнце – неутомимый и неумолимый соглядатай – смотрело в комнату.
Она уже знала, что лучше не будет никогда. Что такого, как он, уже не встретить. Что с этого утра нужен ей только он – мужчина-мальчик, страстный самозабвенно, сильный и нежный, как сказочный принц.
Он открыл глаза и произнес именно те слова, которые она, как все шестнадцатилетние девушки, мечтала услышать. И даже такие, каких она и вообразить не смела.
Но как он может взять на себя ответственность? Как обеспечить ей в России ту жизнь, к которой она привыкла в свободном мире? В этой стране все другое – квартиры крохотные, продукты несъедобные… Или их вообще нет. Здесь ответственность за нее, девочку из другой вселенной, не просто тяжела, это было бы счастьем. Но она непосильна. Очереди… Тоска… КГБ… Безнадежно!
Все это было по-русски драматично и завораживало, затягивало, захватывало… И бороться с этим было невозможно… Безнадежно… Она и не боролась.
И через пять лет, после путча 91-го года и победы демократии в этой стране, приехала. Прилетела во второй раз – и снова с письмом от Ады. Учительница поздравляла в нем всех своих питомцев, выдержавших гнет тирании и низвергнувших иго. Благодарила. Воздавала должное их мужеству. Обещала, что скоро будет сама. Предвкушала встречу…
И снова он встречал Аликс в Шереметьево. Она видела, как дрогнули его губы, как расширились, раскрылись, засветились ей навстречу те же серые глаза из-под мужественно сдвинутых широких прямых бровей, из-под черной густой челки… Тогда, пять лет назад, она не могла ошибиться – и не ошиблась.
Сосредоточенно-скромная, замкнутая, жесткая – такой она стала за эти годы. Но радость преображает. А это была даже не радость – счастье.
Не зря! – думала она в такси, мчавшем по широким московским проспектам. Его рука, тяжелая и сильная, легла ей на плечи. Сжимала. Стискивала. Нежно отпускала и вновь обнимала. Защищала.
Не зря! Не напрасно она учила русский и читала, читала романы. Достоевский, Толстой, Тургенев. Чехов и Пастернак… Булгаков… Не зря читала письма, верила и отвечала.
И – награда. Счастье. Победа. Такси мчится, в России – Свобода. Кто бы мог подумать! Но ведь сбылось, исполнилось.
Сбылось и не только это. Сбылось все.
И вот она у окна этого странного дома в фешенебельном московском районе. Ее дитя – Крошка Ло, Лолита, Лилибет, Лизбет, Лиза – на репетиции школьного театра. Всерьез думает об актерской карьере. Ее муж Александр в Музее – или говорит, что в Музее. Она Аликс, ей тридцать семь, и она смотрит в серые сумерки сквозь снежную пелену шестнадцатого московского декабря. Одна. Но они, ее любимые, ее семья – все время рядом. Так говорит Саша. И она это чувствует. Вот что самое главное. Да, он сумел создать дом для нее. И для себя. Для них обоих. А что до остального – какая чепуха… Пусть звонит эта дикая, несчастная девушка… И пусть звонят другие – нищие дети московских окраин. Спальных районов. Пригородов. Пусть вылезают из труб старинных переулков, крадутся вдоль элитных бульваров – ближе к ночи, в сумерках, словно бродячие кошки. Драные, заразные, голодные… Только бы не СПИД, кстати… Но Саша хорошо защищен. И очень, очень осторожен. Флирт, не более того. Так говорит Саша, и она верит. Потому что он знает – стоит случиться чему-то большему, и она уедет. Вместе с дочкой. А квартиру продаст. Вот и все.
Ведь она свободна. Она чувствует свободу постоянно, ежеминутно. Свободна уехать или остаться. Работать, как сейчас, в журналах, или заняться домом – собственной квартирой в переулке. «Элитной» квартирой в «элитном» переулке. Так здесь говорят. И внизу, под окном, из которого она видит сейчас светящийся во мгле золотой шлем русской церкви, тихо спит ее собственная машина. Вон она, черная на белом. Саша не водит – и прекрасно. В этом есть что-то изысканно сексуальное: женщина ведет автомобиль, а мужчина, беспомощный и неспособный, обездвиженный ремнем безопасности, кротко сидит рядом, целиком во власти подруги, хозяйки… Насильницы… Мысли о свободе, чувство свободы – лучше любого шампанского. Условие любви. Условие счастья. Как можно жить без этого? Как живут эти паршивые котята московских подворотен? Эти бесенята в своей Империи зла? Аликс не понимает… Свобода – это деньги, безопасность и права человека. А у них нет ничего – ни того, ни другого, ни третьего. Вообще ничего…
И он свободен. Благодаря ей. И ее стране. Он под защитой обеих – днем и ночью, в Музее и в своих поездках… Свободен смотреть на картины, читать лекции – не сколько надо, а сколько хочет, не больше. Заболеет – вылечим, здесь или там, в Америке. Везде, где понадобится. Зубы должны быть в порядке. Обследование – полное и квалифицированное – каждый год. У всех местных русских после сорока зубов нет, а к врачу они идут только перед крематорием. Непосредственно. Да и как может быть иначе? Денег-то нет. Даже после краткого предсмертного визита к медикам на похороны уже не хватает. Нет, пока Саша живет здесь и с ней, пока он создает это чудо своего присутствия, чудо полной жизни, чувство дома – он в безопасности. А значит, свободен. Конечно, у него есть свои обязанности. Но о них он знает. И, кажется, ему это не в тягость. Напротив! Он очень сексуальный мужчина. Ей повезло.
Свое любимое и единственное дитя Аликс назвала Елизаветой по собственной воле, в честь матери, и волю пришлось проявить изрядную, даже настоять: Саша почему-то противился… Елизавета превратилась в Лилю, а когда Крошка подросла, они стали называть ее Лола. С тех пор, как в каком-то парижском музее Саша показал им обеим одну картину. Это был Мане, полотно называлось «Лола из Валенсии». Танцовщица смотрела Аликс прямо в глаза. Из-под густых черных бровей – точно таких, как дочка унаследовала от Саши, – сверкал темный огонь. Так Лиза стала Лолой, Лолитой, Ло.
Так что эта… Ах-спи-рантка… Пусть ее звонит. Аликс отошла от окна и опустила трубку на стол, с трудом найдя для нее место среди немытых кружек и блюдец со следами крема и крошками торта… Крошка Ло слишком любит сладкое. Аликс привержена культу здорового тела. Оплывшая фигура, дурные зубы – незаслуженное оскорбление для окружающих. Бассейн, фитнес, природная еда, доступная здесь, в России, – натуральные продукты, напитки – все это так помогает быть в форме. Но нужна и дисциплина. Мера. А Крошка Ло… сплошная проблема. Иногда это все же обременительно – постоянно следить, чтобы дочка не располнела.
Лиля-Лолита, любимое шестнадцатилетнее дитя… И она свободна. Какое счастье. Гражданка Америки – этим все сказано. Здесь, в Москве, – лучшая школа – колыбель Сашиных прогрессивных взглядов и даже сегодня, во мраке неясных времен, светоч демократии. Через год-два, в Европе, – хороший университет. Возможно, Сорбонна… Как она любит Париж, крошка Ло…
От одной из многих Сашиных приятельниц, давно затерявшихся во тьме времен, осталась забавная фраза. Точнее – mot, довольно остроумное замечание. Его любил повторять Саша, вспоминает иногда и сейчас, когда нужно кому-нибудь пояснить, как обстояли дела со свободой в Союзе. В Советском Союзе. «Луну я вижу, – сказала как-то Саше эта особа. – А Париж – нет. Так что Луна ко мне гораздо ближе. И, по крайней мере, я точно знаю, что она существует».
А Крошка Ло свободна. И Париж для нее – знакомое удовольствие. Да, Сорбонна, конечно, Сорбонна.
Аликс снова взглянула в окно. Совсем стемнело, но круглый шлем храма едва различимо светился сквозь метель. Снег то несло мимо, то бросало в стекло.
Странная земля. Непонятная страна. Храм – оплот и святыню – то низвергают в прах, опускают ниже земли, так, что будто из преисподней вздымается пар в морозное небо, а то вновь воздвигают, и снова навеки… Кто дерзнет проделать такое с той, что нас защищает – нашей Свободой? «Добро должно быть с кулаками» – еще одна любимая Сашина фраза. Добро – конечно. И Свобода – тем более. Аликс вспомнила мускулистую руку, подъемлющую факел-светоч над Гудзоновым заливом. Вспомнила острые, мощные лучи вокруг головы статуи. Не то что слабый, еле мерцающий нимб русского Спасителя, нежный и тающий в дымке иконы, будто диск слабого, бледного осеннего солнца.
Вот она какова, ее Свобода. Ее Империя добра. Добра с кулаками. С золотыми лучами-копьями света, разящего мрак.
Но все-таки…
– Боже, – неожиданно для самой себя говорит Аликс, обращаясь к темно-золотому шлему храма, чудом выросшему на странной земле ее далеких предков, у этой черной реки, – Боже! Ты видишь: я страдаю. Ты дал мне все, кроме одного, – и вот я страдаю. Дай мне это и отними все. Верность – вот что мне нужно. Не откровенность, а доверие. Не правила, не свобода – но вера. Не внешняя, не условная – глубокая, подлинная, полная. Преданность – вот как это по-русски. Подари мне ее – только ее, Господи!
А эта Ах-спи-рантка… «Алиса-которая-часто-звонит» – вот как она ее прозвала. Так ее называет и Саша – принимая у нее из рук трубку домашнего телефона и посмеиваясь над обеими. Довольный: приятно быть в центре внимания двадцатидвухлетней девушки с голосом Пиаф… Приятно, что жена чуть напрягается, передавая трубку. И вообще все приятно…
* * *
К восьми – часу семейной вечерней трапезы – Саша полулежал на диване в кухне, под окном, уютно подложив руку под свою крупную тяжелую голову и поглядывая то на стол, то на плиту, как ленивый домашний кот. Он нежился в тепле, в облаке запахов доходящего в духовом шкафу мяса и наслаждался букетом согретого красного вина – сухого, конечно. Крошка Ло, как всегда, заставляла себя ждать.