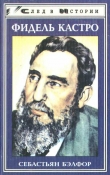Текст книги "Голев и Кастро (Приключения гастарбайтера)"
Автор книги: Анна Матвеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Голев тоже хотел проехаться в трамвае, но у него осталось всего пятьдесят долларов и нужно было экономить. Хорошо бы, работа началась в ближайшие дни, думал Голев, спускаясь по Алфаме к набережной реки Тежу, широкой, будто море. Ее уже сверху хорошо было видно.
Алфама – старый бедняцкий район: давно не ремонтированные, трущобного вида домики, из окон доносятся близкие полязгивания кастрюльных крышек и тихое бормотанье телевизора; бабушка в домашних тапочках идет из магазина с бутылкой воды в руке.
Cудя по всему, в городе заканчивался многодневный карнавал – на траве клубились зеленые и сиреневые змейки серпантина, а по улицам шагали детишки, наряженные принцессами, пиратами, клоунами, а чаще всего – Зорро и Суперменами. На одном из балкончиков Голев приметил среди выстиранного бельишка черно-желтый костюм Бэтмена, а из соседнего окна вы-глядывала смуглая девочка. Помладше Поли. Мать кричала ей с улицы что-то строгое, уходя. Малышка улыбалась белозубо, потом увидела Голева. Окно было чуть выше его роста.
– Хеллоу, – старательно сказал Голев. – Вот из ё нэйм?
– Жоана.
Девочка Жоана скрылась в квартире, и Голев уже хотел уйти, но она через секунду вернулась и показала ему рисунок – обычные детские каляки-маляки, но Голев, разумеется, восхищался. Потом Жоана действительно ушла, и он начал спускаться ниже, улицы петляли, кружили, речка скрылась из виду, она была теперь слишком близко, всего лишь несколько домов отделяло ее от Голева, так что вскоре он уже стоял на набережной, и ветер, знакомый с да Гама и Магелланом, трепал ему волосы.
На вокзале Санта-Аполлония он попытался обменять доллары на местные эскудо, но безуспешно – обменного пункта здесь не было. У выхода встретился очень толстый мальчик в костюме Супермена, он жадно ел поп-корн из бумажного пакетика под влюбленными взглядами точно таких же по толщине родителей. Голев пошел вверх по набережной, слева послушно плескалась Тежу.
Он еще с детства научился стоически принимать испытания, особенно, если они были бытовыми. Подумаешь, пройти пол-Лиссабона пешком! Надо всего лишь найти тему для обдумывания, и долгий путь окажется легким и доступным, будто стометровка. А сейчас и тему искать не надо было – Голев думал о Таньке.
Если бы она была здесь, с ним! Голев знал, как жена мечтает о путешествиях, помнил, как она мрачно выслушивала хвастовство Руфины Круглянко, которая не бывала разве что на Огненной Земле... Танька бы сейчас прижалась к его руке, щурилась на солнце, говорила всякие неважности...
Голев думал о том, что Танька для него – единственная пара на всей земле. Его половина, потому что они вместе будто один человек. Он не знал, что думает об этом сама Танька, как-то неловко было ее спрашивать, нетипично для Голева вдруг проявлять такой романтизм. А вот у Вити Круглянко единственной пары не было: возможно, он был задуман как некая универсальная половина, подходящая одновременно многим женщинам. Что ж, наверное, это очень удобно.
Через пару часов ноги у него гудели, как у старика. Справа открылась большая площадь с памятником и фонтанами, а позади нее – огромная арка, за которую убегала широкая улица. Голев свернул к площади и оказался в Байше причесанном, приличном районе Лиссабона. Пешеходные мощеные улочки, постук каблучков, вылощенные туристки с бумажными пакетами выходят из стеклянных дверей бутиков... Здесь нашелся и обменный пункт, где Голеву обменяли наконец-то его мятно-зеленую бумажку на четыре – травянистого цвета. Десять тысяч эскудо. Скорее бы началась работа!
Голев спрятал в нагрудный карман деньги и зашагал в сторону еще одной центральной площади, мелькнувшей в межуличном просвете.
Он увидел красно-желтую букву "Макдоналдса" на левой стороне площади и перешел туда, потому что на часах было уже три, хотелось есть.
Прямо у входа сидел нищий, и, глянув на него, Голев застонал от ужаса и свернул в ближайшую улицу, потому что ничего страшнее он в жизни не видел. Вместо лица у нищего была гроздь набрякших красно-синих мешочков, делавшая его похожим на черный виноград. Между мешочками виднелись щели глаз и рот – нищий запихивал туда жареную картошку... Запущенный псориаз, но Голев этого не знал, да и не полегчало бы от знания, поэтому он приходил в себя, ужасаясь увиденному, и, конечно, забыл о всякой еде.
Вскоре он очутился напротив прекрасного здания – двойной полукруглый вход, мавританские окна, часы, колонны... Интересно, что это такое? Музей? Старинный дворец? Театр?
Оказалось, вокзал. Голев машинально зашел внутрь, там все было заплевано и занюхано, как, наверное, на любом вокзале мира, поднялся к кассам, потом вышел к железнодорожным путям. Здесь томились два поезда – современный, остроносый, походивший на хищную птицу, и старенький, один к одному советская электричка, только красного цвета. В один из вагонов выстроилась очередь из хмурых, плохо одетых людей. Руководил очередью, указывая направление и оттаскивая за рукава невнимательных, смутно знакомый человек. Приглядевшись, Голев узнал Лешу, того самого проводника, который вез их автобусом из Москвы. Открыв рот и заулыбавшись, Голев двинулся было к Леше, но тот нахмурился, сделал сложное лицо и быстро запрыгнул в вагон. Видимо, не узнал и не запомнил Голева...
Поесть ему удалось только к вечеру, вернувшись в Алфаму. До этого он решил посетить какой-то храм – на диво современный, почти эпатажный, больше походивший на свежеотстроенный отель.
Поднимаясь по ступеням, Голев заметил молодую черноволосую (а других тут почти и не было – где ты, Танька?) женщину в нарядном костюме. Женщина тащила за руку мальчишку лет десяти, тоже празднично одетого. Голев посторонился, чтобы пропустить их вперед, и женщина одарила его улыбкой и быстрым "обригадо". Надо запомнить, как на португальском "спасибо", подумал Голев и пошел вслед за нею.
Церковь – игрэжа – была полностью занята прихожанами, Голеву не нашлось свободного места, и он тихо встал в проходе. Шла месса – это к ней боялась опоздать хорошенькая португалка. Святые отцы в белых, непривычных православному взгляду, одеждах стояли пред алтарем: один что-то говорил в микрофон, другие стояли недвижно, склонив головы. Потом вдруг вся церковь вздохнула, обратившись в общий звук:
– Амен!
Священник продолжил проповедь, и Голев заслушался его красивым голосом, незнакомыми звуками португальского языка; потом он начал потихоньку озираться по сторонам, внутри здесь тоже все было очень современно, и даже статуя, изображавшая одного из апостолов, оказалась наряжена в серый костюм-тройку.
Прихожане слушали пастыря, кивали, многие на время проповеди ушли в себя, закрыв глаза, будто слушали проверенную временем музыку. У некоторых в руках были листочки с молитвами.
Голев вдруг осознал, что это первая католическая церковь в его жизни, тот факт, что португальцы страстные католики, совсем недавно освежил сиреневый том Цвейга, оставленный в захудалом пансионе на краю Лиссабона. Лишбоа – так звучит по-португальски.
Сам он – нехристь, некрещеный, потому что мама Юля не верила и даже под старость не стала религиозной, как другие старушки, что чувствуют кожей ледяное дыхание смерти и торопятся заручиться божественной поддержкой. Конечно, Голев бывал в русских и украинских православных храмах, но никогда не чувствовал желания остаться в них навсегда – именно это острое чувство покрыло его с головой, как морская волна; теперь он вдруг понял, что больше всего на свете ему хочется подойти к священнику в белых одеждах и попросить, чтобы ему, Голеву, тоже дали листок с молитвами и разрешили остаться в этом храме, наверное, надо бы сказать проще: он захотел принять католичество. Как будто это так просто: взять и принять веру, словно таблетку.
Он разглядывал чужие, непривычные византийскому взгляду иконы до окончания мессы. Потом народ резко встал и отправился к выходу, а Голев занял освободившееся, еще теплое место на скамье.
Через час он вышел из церкви, оказалось, что солнце и не думало покидать Лишбоа. Голев запрыгнул в подъехавший трамвай.
Трамвайные пути кружили по узким улицам, ребятишки играли в футбол на площадях... В конце Алфамы Голев вышел из вагона, он приметил недорогую с виду закусочную.
Ему дали жареных сардин, хлеба и треску под маринадом. Умяв перечисленное в рекордные сроки и расплатившись, пьяный от сытости, Голев снова вышел к лязгавшим трамвайным путям и пошел пешком к своему пансиону – эскудо испарялись с каждой секундой.
В окончательной темноте он признал синюю неоновую надпись и почувствовал, что ноги его разбухли, будто их неделю вымачивали в воде.
Мужички все еще не ложились, опять были пьяные, видимо, не только Александр прихватил с собою "самое необходимое". Трезвого Голева встретили неприязненно, выпить не предложили. Голев снял ботинки и носки с распухших ног, увидел водянистые белые мозоли на пальцах.
– Новостей никаких? – поинтересовался у Семена, наименее пьяного из всех троих.
– Нет, – махнул тот рукой, – ребята говорят, что раньше чем через неделю и ждать нечего. Им кто-то рассказал из тех, кто уже долго здесь работает.
Вот с кем бы пообщаться, подумал Голев и пошел в душ. Выстоял длиннющую очередь, потом долго искал в кабинке свое мыло, выскользнувшее из руки розовой стрелой. Когда вернулся в комнату, мужички уже спали.
Новостей не было две недели. Нина Васильевна, правда, заглядывала пару раз, но ничего другого, кроме своей любимой фразы "Это не курорт!", не сообщила. У мужичков кончились запасы водки, а Голев открыл последнюю пачку сигарет. За две недели он выучил Лиссабон наизусть, прошел его по диагоналям и периметру. Он знал теперь каждый черепичнокрасный домик в Алфаме, видел, как плещутся рыбки в уличных фонтанах на Авенида Либертаде, задирал голову, чтобы поглядеть на маркиза де Помбаля, застывшего на высоченном постаменте рядом с величественным львом, он гулял по Шиадо и Байру-Алту, слушал, как часами общаются пожилые португальщики и португальщицы, перекрикиваясь друг с другом через улицу, он обошел кругом Монумент мореплавателям и дочитал Цвейга, сидя под статуей Магеллана. И все равно, больше всего ему нравились католические храмы. Их было здесь так много, что некоторые смотрели друг другу в цветные витражные окна. Португальцы всегда славились своей набожностью и, как ни странно, именно из-за нее и пострадали, лишившись несметных богатств, которые принес им век открытий. Все тратилось на строительство церквей. Каждый богач хотел отметиться в этом, поэтому Португалия покрыта храмами, как летний луг цветами. Строительство обходилось недешево, тем более, что португальцы имели поголовную слабость к украшательству храмов золотом и драгоценностями, вот и разорились – не вкладывались ни в производство, ни в развитие. Теперь эта страна – самая крайняя и западная в Европе – выглядела обветшавшей и трущобной, даже неизбалованному возможностью сравнивать Голеву было видно, что местные живут небогато.
Хотя по сравнению с ним они, конечно, были богачами. Он уже привык есть один раз в день – утром – и несколько раз позволял себе чизбургер с картошкой в "Макдоналдсе". С ужасом ждал, когда кончатся сигареты.
Странно, но тоска по Таньке и детям немного притихла, ее перебила сине-белая страна Португалия, или это он был таким черствым? Решил не копаться в себе – вот-вот найдется работа, он получит тьму денег и вернется к своим победителем. Купит Таньке какой-нибудь хорошей косметики, Севе – игровую приставку, он давно просит, Поле – Барби... Голев мечтал, разглядывая витрины, штаны на нем болтались, будто были чужими, но есть ему не хотелось: желудок сжался и привык.
Мужики страдали больше, особенно хохлы, исторически предрасположенные к питательной пище.
Женщины тоже прочно сидели в комнатенках, ждали информации. У Жени, как сообщил общительный хабаровчанин Александр, завелись близкие отношения с одной из соседок – сорокалетней Ольгой, которая приехала сюда из Сыктывкара. В очереди в душевую Голев несколько раз встречал артритную тетку, которая все-таки осталась в пансионе – за нее заплатили в складчину, в расчете на скорый заработок и отдачу долга.
В первое утро третьей недели в пансионе появился всеми уже крепко забытый Леша и велел срочно собираться.
– Работа? – радостно спросил одуревший от голода и безделья Семен. У других тоже загорелись глаза.
– Переезжаем к месту работы, – бесстрастно уточнил Леша и загадочно сверкнул очками. Голеву показалось, что Леша куда-то торопится.
Почему-то в этот раз забрали только мужчин (как в концлагерь, шепнул Голеву Александр), Женя отказался ехать и остался с Ольгой, хотя Леша сказал, что теперь ему работы точно не будет, во всяком случае он, Леша, и пальцем не пошевелит. Женя влюбленно смотрел на Ольгу, а она, крупная, будто волгоградская Родина-Мать, кричала Леше, что она Женьку сама прокормит, пусть не беспокоится! Леша махнул рукой и устало, без выдумки, выматерился.
Уезжали с вокзала Россиу, того самого, где Голев уже видел однажды Лешу за работой. В кассу выстроилась очередь с Лешей в начале и Голевым в конце.
– Приготовили по триста эскудо! – сказал Леша, и мужики послушно полезли в карманы.
– Леш, а нам долго ехать? – заискивающе спросил кто-то.
– Сейчас сами все увидите! – отрезал Леша.
За Голевым пристроилась какая-то парочка. Девушка или, вернее, молодая женщина, сейчас не разберешь, в ярко-зеленой курточке и с тяжелым фотоаппаратом на шее держала под руку высокого парня в серой майке, который тоже повесил себе на шею видеокамеру. Они напоминали бы утопленников с камнями на шее, если бы не радостные лица.
– Обратный билет брать? – по-русски спросила девушка, и ее спутник сказал "да". Тоже по-русски.
Голев внимательно вслушивался.
– Видишь эту группу? – громко прошептала девушка. – По-моему, это очередные украинские гастарбайтеры, помнишь, мы фильм смотрели? Бедолаги...
– Маша, смотри, в соседнюю кассу вообще никого нет! Не забудь, два билета до Синтры и обратно!
Девушка перебежала в другую кассу и на беглом английском объяснялась теперь с работницей вокзала, одетой в строгий темно-синий костюмчик.
Потом Маша вместе со своим спутником (она подгоняла его на ходу: "Саш, давай порезвее!", и фотоаппарат прыгал на ее шее, как гигантский медальон) вскочили в поезд, который будто бы только их и ждал – чу-чухнул прощально и поехал в любимый город Байрона. А Голев очень удивился, когда подошла его очередь: Леша cказал взять билет до Синтры – только в один конец...
В Синтре, на вокзале Леша снова пересчитал их по головам, купил (на этот раз сам) новые билеты и усадил в другой поезд.
От Синтры, знаменитого туристического центра, у Голева осталось только одно впечатление: все пропитавший, вкусный запах выглаженного на свежем воздухе белья, неизвестно откуда взявшийся, сильный и стойкий, как благовоние...
5
Город, в котором их ожидала работа, назывался Мафра (всем немедленно захотелось поменять буквы "ф" и "р" местами). Ничем, кроме большого паласио, не примечательный, маленький, аккуратный город – и жили здесь, судя по всему, старички и молодые матери, по крайней мере, по дороге в общежитие (это Леша сказал – общежитие, и все приободрились: звучало серьезно, по-рабочему) им встретились представители и той, и другой породы. Один старичок, интеллигентного, но при этом злобно-очкастого вида, начал махать тростью вслед гастарбайтерам весьма агрессивно. Удивительно, что Леша смолчал – по всему было видно, что ему страстно хочется ответить.
Леша вывел их к реке, потом группа пересекла парк, в котором беззащитно цвели розовым какие-то непонятные деревья (в памяти всплыло слово "сакура" и немедленно утонуло заново), повел дальше, какими-то задворками, мимо бурно текущего строительства. В зеленых робах и касках здесь трудились иссиня-чернокожие, баклажанного цвета люди. Миша и Семен завистливо вытянули шеи, но непреклонный Леша, так и не снявший свои черные заслонки с глаз, не давал останавливаться – вел все дальше и дальше, пока перед глазами неудачливых гастарбайтеров не появился барак.
Вот уж не думал Голев, что ему придется увидеть в буржуазной стране Португалии настоящий барак, притом изрядно обветшавший и неопрятный. В Свердловске, в тот свой единственный постармейский приезд, он видел точно такие же бараки на улице Белореченской, по соседству с Танькиной девятиэтажкой. Под окнами висели оцинкованные тазы, на лестницах, сказала Танька, бегали мыши и крысы, и еще тут часто случались пьяные драки до первой смерти.
Леша остановился перед обшарпанной до первоначально деревянного цвета дверью и сказал:
– Это ваше новое житье.
Наверное, он имел в виду жилье, но оговорился весьма симптоматически. Мужики зароптали, у них наконец-то кончилось терпение:
– Сколько можно?
– Почему такая халупа?
– Когда будет работа?
– Верните деньги!
Леша выставил вперед ладони.
– Так, спокойнее, спокойнее!! Все будете работать! Через три дня край! А жить придется в этой общаге, потому что в Лиссабоне дорого. Вы нам все очень дорого обходитесь! Понятно?
Мужики вздохнули, примиряясь, и пошли понурым гуськом внутрь барака. Внутри, надо сказать, было значительно хуже, чем снаружи, и все двена-дцать человек оказались в одной комнате, где стояло шесть кроватей.
– Спать будете по двое, – пояснил Леша, подзывая к себе крайне несимпатичного человека непонятной национальности, смуглого и юркого, как дождевой червь. Они о чем-то пошептались, и Леша сообщил всем:
– С утра будут давать чай и хлеб. Теперь все, отдыхайте, располагайтесь. Ждите информации.
Душевой здесь не было – только колонка во дворе.
Мрачный Александр огляделся по сторонам и сказал:
– Ну и влипли мы с вами, пацаны! Конкретно попали!
Он достался Голеву в соседи по койке. Ночью мало кто из двенадцати спал: среди новых соседей оказался профессиональный храпун, с таким удовольствием оглушавший всю ночь разнообразными звуками – от громких хрипов до сложных подсвистов, что его хотелось придушить.
В это утро Голев выкурил последнюю, из привезенных с собой, сигарету.
Денег у него оставалось пятнадцать долларов. Голев промучился без курева несколько часов, а потом решил бросить. Ну а что еще было делать – подбирать чинарики?
До вечера держался, гуляя по Мафре, потом почувствовал, как его грызет изнутри голод, который прежде заглушали сигареты. Теперь есть захотелось с новой силой. Курить было дешевле, и Голев, стиснув зубы, решил стрельнуть сигарету у полненькой розовощекой дамы, читавшей газету за столиком в уличном кафе. Дама, к удивлению Голева, не только дала ему сигарету, но и, порыскав в сумке, достала оттуда нераспечатанную пачку и вручила ее Голеву вместе с бумажкой в тысячу эскудо.
– Мерси, мадам, – отчего-то по-французски сказал Голев, взял подаяние и потом, закурив и свернув за первый же угол, разглядывал себя в зеркальной витрине, свои запавшие глаза, грязные волосы, небритые щеки, засалившуюся рубашку и худые, освенцимные, руки, на которых даже волос как будто стало меньше...
Три обещанных Лешей дня прошли, за ними потянулась новая неделя. Голодные, озверевшие мужики пытались самостоятельно устроиться на соседнюю стройку, но чернолицый прораб – или как это здесь у них называется – даже не стал разговаривать с худосочными грязными людьми, одетыми в старенькие спортивные костюмы.
У Семена совсем сдали нервы, он плакал, как девочка, а между всхлипами колотил в и без того хлипкую стену барака.
Голев держался только благодаря самодисциплине и... подаяниям, которые случались время от времени. Он не стоял с потертой кепчонкой в руках на центральной площади, зато ему отчего-то везло на сердобольных дамочек постбальзаковского возраста. Одна такая тетенька, в седеньких локонах и золотых сережках, оттягивавших уши к плечам, даже всплакнула, глядя, как Голев уписывает недоеденный ею бифштекс, и, к неудовольствию вылощенного официанта, заказала for poor boy рюмку портвейна "руби" с изюмным, протяжным вкусом.
Если б Голеву показали эту сценку полгода назад, он бы не поверил, что способен на такое. Но вечный, пожирающий внутренности голод не считался с моральными установками и гордостью, которая, как ни странно, никуда не делась – именно она, наверное, и подкупала добрых богатых дамочек, обедающих в открытых ресторанах. Голев выглядел не жалко, а трагически, и сердобольные, недолюбленные дамочки это чувствовали. Та, с портвейном, потом дала ему пятитысячную бумажку, и он несколько дней питался как человек.
На работу уже никто не надеялся. Леша пропал, в Мафре они жили целый месяц.
– Хорошо, что хоть паспорта они у нас не забрали, – заметил как-то вечером Александр. Голев вдруг схватился за голову и начал вытаскивать паспорт из кармана. Потом отшвырнул книжечку в сторону.
– Ты чего? – вяло спросил Семен.
– Виза заканчивается через день! Нам отсюда не выбраться ни при каких обстоятельствах! И работать нас никто не возьмет с просроченной визой!
На этих словах в комнату вошел комендант барака и сказал на крайне скверном русском – казалось, что ему нравится его коверкать:
– Ви должать деньги за проживание. Через завтра ви ехать аут! Ваш босс платить половина и не платить еще половина. Андестуд?
Все посмотрели на Голева, и он кивнул, что понял. Все поняли.
– Но я иметь вам дать работа, – у коменданта вдруг заблестели глазки, – ми можем купить ваша хорошая почка для наших плохих больных! Очень дорогая почка! Хорошая питания, отдыха, потом ми купаем ваша почка, и вы ехать аут! Росия! Руски почка – карошая!
Голев так и сел.
– А сколько стоит это, если я вам продам почку? – угрюмо спросил Семен.
– О-о! – обрадовался комендант. – Я только связую вас с интересными в этом вопросе людьми, это можно завтра! Кто хотеть продавать почка?
Семен поднял руку, как в школе, в первом классе. За ним – Миша, его земляк.
На другой день они оба исчезли, зато появился Леша.
– У нас кончилась виза, – вежливо сказал Голев, хотя его покрыли боязливые мурашки.
– Завтра выходим на работу. – Леша прошел к опустевшей кровати друзей-харьковчан. – Сблызнули? Ну ладно, вам теперь больше достанется... Так, слухайте сюда! Работа на стройке, два раза кормят, зарплата идет первый месяц за жилье.
– Чего? – взвыл Александр.
– За жилье, – повторил Леша, снимая в первый раз свои очки, и все убедились, что лучше бы он этого не делал – глаза у Леши были желтого цвета и цеплялись с двух сторон к переносице. – Мы должны много денег местным представителям. Приехала еще одна группа, шесть человек, вам придется потесниться. Все, завтра подъем в семь ноль-ноль.
Как только за Лешей закрылась фанерная дверь, мужики потянулись во двор курить, а Голев начал запихивать свой скудный скарб в рюкзак. Запасные штаны, смена белья, носки, зажигалка, Цвейг, конверт с Танькиными и детскими фотографиями, куртка, часики мамы Юли... Некурящий Александр смотрел на него измученными глазами:
– Ты куда?
– В Лиссабон. В посольство пойду наше.
– Нужен ты там кому-то. У этих все повязано.
– Ну и что!
– А домой ты с чем приедешь? – Александр взял в руки Цвейга и взвесил на ладони. – С книжечкой? Дети твою книжечку кушать будут?
Голев отобрал у хабаровчанина Цвейга, сунул обратно в рюкзак. Через минуту он шагал к железнодорожному вокзалу города Мафры и думал о том единственном, что может помешать ему вернуться. Долг Ишмуратову... Семьсот долларов с процентами.
Билет до Лиссабона с пересадкой в Синтре стоил почти пятьсот эскудо. Спасибо очередной доброй туристке, Голев мог себе это позволить. Поезд опаздывал, на здании вокзала, целиком одетом в бело-синие изразцы, часы показывали уже семь лишних минут. Люди толпились на перроне – обычная толпа в ожидании, Голева уже совершенно не интересовало, кто тут португальцы, кто туристы. Наконец примчался поезд – старый, маловагонный, и Голев запрыгнул в вагон второго класса.
В Синтре нужно было переждать час, и Голев просидел все это время в вокзальном буфете, где наедались какие-то шумные немцы – ели сандвичи (Голев сглатывал слюну, представляя себе бочок батона, повлажневший
от близкого соседства ветчины, и тонкий привкус сыра, и нежно-зеленый салатный лист), пили белый портвейн – густой на вид, бледно-желтый, маслянистый. Немцы причмокивали языками, я-якали, иногда поглядывали на смурного Голева, уронившего голову на руки, – они не догадывались, что этот черноволосый мужчина с дешевеньким рюкзачком под мышкой – не опустившийся наркоман, а русский океанолог, отец семейства, катастрофически голодный неудачник-гастарбайтер Николай Александрович Голев. Путешествует из Мафры в Лиссабон. Голев на минуту задремал, и тут же, по всем подлым законам, явился поезд.
Прямо напротив него уселась старушка с венозными бледными ногами и отец с сыном: без сомнений, отец с сыном – абсолютно одинаковые внешне, правда, сын преображен модой: неровно подстриженные волосы, в отличие от аккуратного отцовского "ежика", узенькая майка, в отличие от свободной отцовской рубахи... Сидят и мирно читают один журнал с голой теткой на обложке. У них все нормально.
До последнего года у Голева тоже все было нормально. Обычно. И даже неплохо. Он ел несколько раз в день, принимал душ, когда хотелось, у него была Танькина любовь, дети, ему нравилось писать статьи для газеты и читать разные книжки. Конечно, тому, прошлогоднему Голеву, не все нравилось в его жизни честно скажем, почти ничего не нравилось, особенно докучала своя роль, роль слабака, неспособного прокормить слабую самку и детенышей...
Зато теперь он наломал таких дров, что может и не увидеть никогда ни детенышей, ни Таньки. Вдруг его посадят в тюрьму за нарушение визового режима? И что он отдаст Ишмуратову, ведь денег даже на веревку с мылом не хватит...
Все равно пойду в посольство, мрачно думал Голев, пойду и все расскажу, как есть. Должны же они как-то бороться с преступниками: ведь Леша, Нина Васильевна и севастопольская турфирма – они натуральные преступники, собирают деньги, потом доводят людей до скотского состояния и тут уже продают как дешевую рабсилу без права возвращения. А продавать почку отчего-то не хотелось...
Он снова задремал и уронил во сне рюкзак, так что старушка, сидящая напротив, испуганно вскрикнула:
– Сан-Антонио!
Он брел уныло по вокзалу Россиу и на одном из лестничных пролетов услышал вдруг явственно:
Реве та сто-гне Днипр широ-окий,
Сердиты ве-етер завива-а...
Голев остановился, перекинул рюкзак на другое плечо.
– Ну че вылупился? – спросил его исполнитель украинских песен, грязноватый крепыш в красной рубашке, он сидел на куске картона, крепко сжимая обеими руками старую шляпу, в которой тускло блистали самые мелкие сентаво. На всякий случай певец сказал еще "фак ю", но Голев уже подошел ближе:
– Я Коля из Севастополя.
Довольно глупая фраза, а, плевать! Чем проще, тем лучше.
Крепыш вскочил, быстро всыпал монетки в карман, шляпу нахлобучил на голову и только потом подал Голеву коричневую руку в мелких, набухших ссадинах.
– Вовчик. Из Львова. Садись!
Они уселись на картон, Вовчик снова положил перед собою шляпу и начал рассказывать Голеву свою историю, перемежая ее куплетами украинских и русских песен в те моменты, когда мимо проходили хорошо обутые туристические ноги. Звучало это так:
– Я уже год туточки. Привезли как на работу, держали в загоне, будто скотину... Ой, да не вечер, да не ве-е-чер, ой, да мне малым-мало спалось! Суки жадные! Потом перевезли на другой конец Португалии, тама еще держали по пятнадцать человек в комнате.
– Как звали провожающего? – быстро спросил Голев.
– Ой, да не помню. Леха, кажись. Леха он и есть леха... По Дону гуля-е, по Дону гуляе-е, по До-ону гуляе казак молодой! (У Вовчика получалось казах молодой.) Потом, – Вовчик сглотнул слюну, вызванную чрезмерно старательным пением, – сказали, будем херачиться на стройке за жратву, ну как рабы, короче. Виза к тому времени накрылась, и мы с корешем рванули сюда, в Лиссабон этот, мать его... Матушка, матушка, что во поле пыльно, сударыня-матушка, что во поле пыль-но!!
Вовчик мог подобрать песню под любое свое настроение.
– Я в детстве в ансамбле участвовал, – признался он, заметив уважение в голевских глазах. На дне шляпы засверкали уже новые сентаво, а кто-то бросил даже пятиэскудную монетку. – Эскуда-паскуда, – пошутил Вовчик, – тут и без нас нищеты полно.
– А в посольство ты не пробовал? – спросил Голев.
Вовчик искренне рассмеялся:
– Ты че, нет конечно! Нас же и обвинят в незаконном пребывании и всякое такое. Вообще говорят, что надо в ихнюю тюрьму попасть. Из колымского белого аду шли мы в зону в морозном дыму, я увидел оку-урочек с красной помадой и рвану-улся из строя к нему! Обригадо, адьёш!
Вовчик успевал даже поблагодарить за подаяние.
– Зачем в тюрьму? – ужаснулся Голев.
– Ну как! Ты сначала живешь в тюрьме – говорят, там три раза кормят горячим, чисто, уютно, телек смотришь, а потом тебя высылают из страны обратно, в Украину. Ро-одина моя – Бе-елоруссия, песни партизан, сосны да тума-ан!
– А ты где тут обретаешься?
Вовчик помрачнел:
– На улице, где ж еще. Раз в неделю хожу в ночлежку, тут есть такая, бесплатная, но там народу много, не всегда попадешь. Веселится и ликует весь наро-од! Веселится и ликует весь наро-од! Зато можно поесть на халяву и помыться. Я тебе щас скажу, как найти.
Ночлежка располагалась недалеко от Россиу, и Голев решил отправиться туда немедленно.
– Запомни, надо в тюрьму! – крикнул Вовчик вслед уходившему Голеву, а тот даже на выходе с вокзала слышал протяжное Вовчиково пение.
Ночлежка оказалась чистенькой, не в пример опрятнее барака в Мафре. Но Вовчик не обманул и насчет очереди – Голеву пришлось ждать больше часа, пока его пропустили наконец в душ. А потом отправили к парикмахеру, который с непроницаемым выражением лица обрил Голева наголо. С армейских времен Голев не видел свою голову такой беззащитно лысой, но без волос действительно стало удобнее – не надо было их мыть хоть раз в неделю! Потом – столовая, где сидели человек двадцать и хлебали суп, жадно заедая его хлебом. Голев предвкушал, что сейчас наестся до отвала, но долгое голодание сыграло с ним свою любимую шутку: он насытился уже после первой тарелки, в него ничего не лезло.
– У меня так же было, – сказал сидящий напротив человек. – Долго не жрал, а потом – не могу и все. Отвык.
– Коля, – представился Голев. – Из Севастополя.
– Новая жертва? – спросил человек. И представился: – Сергей. Из Москвы.
– А хоть кто-то нашел себе работу по этим их объявлениям?
– Если только сам искал. Тут, брат, все продумано до мельчайших тонкостей. Смотри.