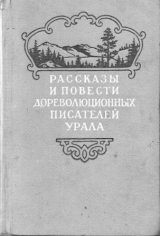
Текст книги "Как жили в Куморе"
Автор книги: Анна Кирпищикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
XV
«Злодей! – думал Набатов, сердито шагая к своему дому. – Попадешься ты мне в темную ночь в каком переулке».
Упреки эти относились к Чижову, на которого Набатов перенес свою злобу во время болезни Наташки. Вид ее страданий, которых единственною причиною Набатов считал Чижова, забыв, что сам он своей жестокостью много увеличил их, постоянно поддерживал и разжигал в нем упорную ненависть. С сердцем, полным злобы, весь погруженный в свои мрачные думы, подходил Набатов к своему дому и вздрогнул всем телом, когда увидел, что у ворот его дома кто-то стоял, прислонившись к ним. Скоро он разглядел, что это был Гриша, и сплюнул в сторону.
– Что, дядя, робить? – спросил его Гриша.
– Нет, уволил, – процедил Набатов и, войдя в ограду, сел на нижней ступеньке лестницы.
– Так я ино домой пойду? – сказал Гриша, все стоявший у ворот.
– Зайди, побаем, – пригласил его Набатов.
Гриша вошел и сел рядом с дядей. Несколько минут они оба молчали.
– Что за приказ такой вышел? – спросил Гриша. – Как этого прежде не было?
– А лешак их знает, что они там делают. Приказанье, сказывают, такое пришло, чтобы с вечера в воскресенье фабрику в действие пускать, – сердито проговорил Набатов. – Ишь, варнаки, хомутаются над нами всячески, готовы из нас и жилы-те вытянуть, не то ли что чего.
– Однако! – произнес Гриша в раздумье и потом прибавил, поглядев на дядю: – Что, небось, Чижов ягал на вас во все горло, как вы отпрашиваться пришли?
– Уж ты бы лучше не поминал его, – с гневом сказал Набатов, оборачиваясь к Грише. – Уж так тому не быть, чтобы я с ним за все как есть не рассчитался! Поплатится он мне своими боками за все мое горе и за весь мой срам.
Гриша поглядел на него с удивлением.
– Да что он тебе сделал? – спросил он.
– Как что? А ты думаешь, не срам это моей голове, что Наташка ребенка принесла? Разве это мне не обида? Да повесить его за эти дела мало! – горячился Набатов, вставая с места.
Гриша только теперь понял, в чем дело, и в душе согласился с дядей, что Чижов и в самом деле стоит виселицы.
– Кровь ведь они нашу пьют, – говорил Набатов, стоя перед Гришей, – в работе нас морят, вот словно скотину, да еще и девкам-то нашим житья от них нету. Ведь сам ты видишь, на чего теперь у меня Наташка-то похожа стала. Тень одна осталась от нее. Ох-х! – простонал Набатов, садясь на прежнее место и подпирая голову рукой.
Гриша молчал, не зная, что отвечать на это. Молчал и Набатов. В избе что-то стукнуло; он вздрогнул и, подняв голову, слушал… Но стук не повторился, и все стало тихо попрежнему.
– Не поверишь ты, – сказал Набатов, не переставая слушать, – что я вот только того и жду, что Наташка умрет… хоть и зачала она ходить по избе, а все видно, что через силу. А коли она умрет, – добавил он глухо, – я ему голову сверну, потому всему злу он причиной.
– Полно, дядя, что ты! – сказал Гриша, поглядев на Набатова, и потом прибавил тихонько: – Ведь не силой же он взял?
– А я почём это знаю, может, и силой; от нее ведь теперь ничего не узнаешь. Сперва, может, и силой, а после уж что? После уж и сама пошла… Дурак я был, что бабьему уму поверил, одну девку оставлял по-ночам, вот оно что и вышло, – сокрушался Набатов.
– Почему ты не женился, дядя? Ведь ты еще молодой овдовел?
– Жениться я спервоначалу и думал было, да все боялся, что баба попадет недобрая, Наташку жалел.
И вдруг Набатов замолк, увидев, что в избе отворилась дверь. На крыльцо вышла Наталья и спросила у отца, станет ли он ужинать. Было уж с неделю, как бабушка ушла от них, и Наталья сама принялась за хозяйство, хотя еще и не чувствовала себя совершенно здоровой.
– Пожалуй, изладь на стол, – сказал ей Набатов, – мы вот с Гришей поедим.
– Ты разве не ужинал еще? – удивился Гриша.
– Нет, только было хотел, как прибежали наряжать на работу, я так и ушел.
И Набатов встал и, умыв на крыльце руки, пошел в избу, пригласив с собой Гришу. Перед ужином Набатов выпил сначала сам рюмку водки, потом подал Грише. Тот стал было отнекиваться.
– Пей! – сказал ему Набатов. – У меня выпить можно, ты у другого кого не пей, а у меня завсегда можно.
После ужина дядя и племянник еще посидели на крыльце, толкуя о подступающей страде. Во всех домашних делах Гриши Набатов стал принимать живейшее участие с тех пор, как он обратился к нему с просьбой помочь ему, и советовал, как и что лучше сделать.
– Вот даст бог, женишься на осень, а заведешь хозяйку в доме, так жить тогда тебе не в пример лучше будет, – сказал Набатов Грише на прощанье.
– Как я и женюсь? – печалился Гриша. – Ничего-то у меня нету, ни одежды, ни скота, ни живота.
– Не тужи, это все дело наживное, – отвечал Набатов, сходя с крыльца и направляясь к своим саням под навесом.
Но долго не могли уснуть в эту ночь дядя и племянник, думая каждый о своем.
XVI
Наступила сенокосная страда, и после Петрова дня мастеровым дали две недели времени на страду. Все они пользовались сенокосной землей и спешили, сколько могли, кончить все свои работы в эти две недели. Перестали дымиться фабричные трубы, и Кумор опустел и затих на это время, и только по вечерам он несколько оживлялся песнями возвращавшихся с покосов баб и девок с граблями и косами на плечах. У некоторых из мастеровых делались помочи, и тогда песни и пляски продолжались всю ночь. Груня, давно уже кончившая свою тысячу кирпичей, тоже выпросила у матери помочь и накануне назначенного дня, собираясь идти сзывать на помочь своих подруг, сказала матери, что она зайдет по Наталью Набатову, что Наталья выздоровела и уж сама носит воду.
– Что же, позови, – согласилась Галчиха, – оно хотя и не след бы тебе с ребятницами знаться, да уж грех ее бей, пусть придет. Отца у нее жалко.
Груня в прежнее время была очень дружна с Натальей. Когда же дошли до нее слухи, что Наталья загуляла, и когда Груня, увидавшись с нею, сама стала подозревать, что слухи эти справедливы, она спросила у Натальи, правду ли говорят про нее.
– Пустяки, напраслина одна, – ответила Наталья, отворачиваясь от пытливых глаз Груни. – Мало ли что бают!
– То-то пустяки, а коли правда это, то я тебе больше не подружка, так и знай! – горячо сказала Груня.
После этого разговора Наталья заметно стала удаляться от Груни, не звала ее к себе и сама перестала ходить к ней. Груня же оскорблялась в поведении Натальи не тем, что Наталья загуляла, – девки, уж дело известное, завсегда гуляют, надо же, чтоб было чем помянуть свою девичью волю, – а тем, что загуляла она не со своим братом, да еще и с женатым человеком. Между классом мастеровых и служителей всегда существовал упорный и непримиримый антагонизм, особенно сильный между мужчинами и поддерживаемый кичливостью служителей, получавших большее вознаграждение за свой несравненно более легкий труд, которое давало возможность иметь и лучшие дома, и лучшую одежду, чем могли иметь мастеровые. Предпочтение, оказываемое помещиком служителям, заставляло их думать, что они более полезны, чем мастеровые, и давало им повод гордиться и кичиться перед ними своим мнимым превосходством. Мастеровые же, завидуя в душе огромным, по их понятиям, привилегиям, какими пользовались служители, платили им за их пренебрежение и кичливость затаенной, но тем не менее упорной ненавистью. Антагонизм этот был отчасти присущ и Груне и еще более усилился вследствие наглых требований Чижова. Все это имело влияние на ее отношение к Наталье в последнее время.
Наталья сидела у окна, выходившего на двор, и глядела на воробьев, скакавших под окном по навесу над крыльцом, куда она выбросила несколько хлебных крошек. При входе Груни она вздрогнула всем телом, и кровь на мгновение обожгла ее бледные щеки. Машинально взялась она за чулок, отодвинувшись от окна, и не поднимала глаз на свою сердитую подружку. А та до того была поражена худобой и страдальческим видом Натальи, что забыла даже помолиться на иконы, и, совершенно растерявшись, глядела на нее с выражением участия и сожаления, не зная, как начать разговор. Наконец, она села возле нее на лавку и спросила тихонько:
– Никак все еще хвораешь?
– Все, – ответила Наталья. – Грудь болит, кашель, дышать не могу.
И она опять повернулась к окну и, подпершись рукой, стала глядеть на него. Две слезы медленно покатились по ее лицу; навернулись слезы и у Груни.
– Не плачь, будет уж убиваться-то, – сказала она ласково, – и то уж вся высохла, только кожа да кости остались.
В ответ на это Наталья громко зарыдала и припала головой на колени своей подруги. Та не вытерпела и сама заплакала.
– И что с тобой сделалось? – дивилась Груня, утирая слезы и гладя Наталью по голове. – Ни в речах у тебя, ни в чем ничего такого незаметно было. Как он, варнак, и подошел к тебе, чем тебя и улестил! Задарил-он тебя или что?
– Не брала я от него никаких подарков, – проговорила Наталья, немножко успокоившись и утирая лицо передником. – Так уж я и сама не знаю, что со мной сделалось.
– Да как же так, да с чего же? – дивилась и допытывалась Груня. – Полюбила ты его, что ли?
– И не то, чтоб полюбила, а так вот словно обошел кто меня, увижу где, так даже задрожу вся и слова не могу вымолвить. Вот словно страх меня ошибет, – тихо сквозь слезы припоминала Наталья, припав к плечу своей подруги. – Ходила я к нему в дом полы мыть, ну, он со мной заигрывал все, то по плечу потреплет, то по щеке, а я так и трясусь, так и трясусь. Осенью уж как-то, когда меня от поломоек уволили, сижу я вечером одна, слышу, вдруг кто-то по сеням идет, я так и обмерла, а он вошел в избу, сел подле меня да и говорит: «Здравствуй, Наташа! Я, говорит, вечеровать к тебе пришел».
– А ты бы его в шею! – горячилась Груня. – Да поленом бы!
Наталья только вздохнула.
– Обнял он меня, – продолжала она полушепотом и вздрагивая всем телом при одном воспоминании, – и точно по мне струя горячая пробежала. Отпали у меня и руки и ноги.
На это Груня уж не нашлась что сказать и только покачивала головой, с укором и состраданием глядя на свою подругу. Посидели подруги молча несколько времени, Наталья – глядя в окно, а Груня – оглядывая избу и думая про себя, что она уж слишком долго засиделась.
– А я ведь пришла тебя на помочь звать, – сказала, наконец, она. – Пойдем!
– Нет, какая уж я работница: воды принесу, да и то отдохнуть не могу, силы у меня совсем не стало.
– Ну, хоть не робь, а так походи с нами по лугу-то, хоть траву потопчи. Ягод поберешь, там у нас, на лугу, смородины много, – уговаривала Груня Наталью.
– Нет, и не зови, – ответила та грустно, – у меня и охоты нет. Я бы и на свет не глядела. Умереть бы мне.
– Ну вот, выдумала умирать! Не тужи: все перемелется, мука будет, – сказала Груня, вставая и собираясь уходить.
– Прощай, Наталья, выздоравливай скорее.
– Прощай, Грунюшка, спасибо тебе – зашла, заходи еще, когда удосужишься.
– Ладно, зайду.
И Груня ушла; у ворот она встретилась с Гришей, который шел к Набатову, и велела ему приходить на помочь. В три часа утра уж все помочане были в сборе и веселой толпой отправились на луг.
XVII
В ту ночь в куморской фабрике случилась пропажа: из припасного амбара потерялись медные подшипники. О пропаже их узнали только в полдень, и тотчас же было арестовано несколько мастеровых, которых было, хоть маленькое основание подозревать в краже. В числе арестованных был и сосед Гриши, Семен Жбан. Подозрение на него было очень сильно; все говорили, что это его дело, хотя при обыске, произведенном у него в доме, ничего не было найдено. При допросе он твердил одно, что знать ничего не знает и ведать не ведает, что ночью он не бывал вон из двора. То же показали и все его семейщики. Тщетно кричал Чижов, угрожая рекрутами и Сибирью; Жбан упорно стоял на своем. Чижов решился, наконец, сам ехать к Жбану и произвести вторичный обыск. Жбану он приказал связать руки и отправился в дом к нему с понятыми и полицейскими. Перевернули все вверх дном, обшарили все мышиные норки и опять не нашли ничего. Чижов выходил из себя от злости и несколько раз принимался допрашивать Жбана, не щадя кулаков, как самого убедительного при допросе средства. Жбан стоял на своем – знать не знаю, ведать не ведаю. «Не я один роблю на заводе, – прибавил он, когда Чижов после бесполезных розысков стал опять его спрашивать. – Вот и соседи тоже робят, прикажите и их обыскать, коли так».
– А кто твои соседи? – спросил Чижов.
– Справа Гришка Косатченок, а слева Степан Онучин.
Чижов, не сказав ни слова, пошел из избы. У ворот он остановился и думал, ехать ли ему домой или отправиться с обыском в дом к Грише. Не было причины подозревать его в краже, но злость Чижова на Гришу была еще очень сильна, и он, садясь на дрожки, приказал тщательно обыскать его дом, а сам поехал домой.
Дома он не успел еще выкурить папироски, как к нему, запыхавшись, вбежал полицейский.
– Нашли! – доложил он.
Чижов встрепенулся.
– Где нашли? У кого?
– У Гришки Косатченка в огороде.
– А-а… – протянул Чижов и скорыми шагами заходил по комнате.
– Прикажете его арестовать? – спросил полицейский.
– А разве не арестовали его? – удивился Чижов.
– Да. его дома нет, обыскивали без него, а он на помочь ушел к Василию Галкину.
Чижов помолчал.
– Уж дело под вечер, – сказал он, поглядев в окно, – скоро будут возвращаться с покосов, тогда и взять Гришку.
– Слушаю-с. – И полицейский вышел.
Вечером Гриша, не подозревая грозившей ему беды, весело возвращался с покоса в компании парней и девок, распевавших песни. Поравнявшись с полицией, мимо которой они должны были проходить, Гриша был окрикнут полицейским, караулившим его на крыльце. Он бегом подбежал к крыльцу и, поклонившись, спросил, на что его требовали.
– Дело есть до тебя, войди, – сказал ему полицейский, указывая на дверь полиции.
Гриша вошел.
– Садись-ка, брат, да побеседуй, – пошутил полицейский. – Ты у нас не гащивал, так вот погости, ночуй ночку-другую, клопиков с нами покорми.
Гриша думал, что он шутит, и, отшучиваясь сам, хотел было выйти из полиции. Но его остановили и, объявив ему, в чем дело, заперли в арестантскую. Гриша был до того поражен возведенным на него обвинением и тем, что подшипники нашлись у него в огороде, что даже не заметил, что сосед его Жбан тоже сидит в арестантской. «Это дело Жбана, – думал он, – однако мне беды не миновать: Чижов мне не поверит, потому он рад, случая дождался».
Он сел на лавку и заплакал с горя и досады.
– Ну, чего ревешь? – крикнул на него полицейский. – Умел воровать, так умей и ответ держать.
– Видит бог, не я, и дело не мое! – побожился Гриша, утирая слезы кулаком. – Без вины погибаю.
– Подшипники сами зашли в огород, соседушка! – ядовито подшутил Жбан из своего угла.
Гриша вскочил, как ужаленный, при звуках ненавистного шипящего голоса и, подойдя к Жбану, сказал, сдерживая свою ярость:
– Твое это дело, Жбан, попомни ты мое слово, что я тебе отплачу.
– Что же, я от платы не отпираюсь, – шипел Жбан, скаля зубы. – Я возьму, коли милость твоя будет заплатить мне рублишек десяток, пожалуй, и больше возьму, сколько дашь.
– Так на же, возьми! – крикнул Гриша и, размахнувшись, ударил Жбана по щеке, да так, что тот свалился с лавки и закричал караул.
Гришу схватили, связали ему руки назад и отвели в другой угол.
– Что ты наделал? – говорили ему полицейские. – Беда ведь тебе будет, за две вины тебя тожно судить будут. – Полицейские жалели его и были убеждены, что Гриша не виноват и что кража подшипников – дело Жбана.
– Братцы вы мои милые! – взмолился им Гриша. – Пошлите Христа ради сказать дяде Набатову, чтоб сюда пришел.
От Чижова не было приказа, чтоб никого из родных не допускать к Грише, и потому его просьба была исполнена. Через четверть часа Набатов, встревоженный, торопливо входил в полицию.
Увидав его, Гриша взвыл голосом.
– Что воешь? – спросил тот, пристально глядя на племянника.
– Да вот без вины пропадаю, – заговорил Гриша, насилу сдержав свои рыдания. – Поклёп на меня сделан: бают, я подшипники украл, а я и сном-то своим ничего не знаю.
– А не знаешь, так и выть не о чем, – сказал Набатов уже ласковее и сел на лавку возле Гриши.
– Что это у тебя, никак руки связаны? – удивился Набатов, увидев, что у Гриши связаны руки. – Кто велел связать?
Гриша молчал, полицейские объяснили ему, в чем дело. Тот подробно расспросил их об обыске, о том, где нашли подшипники, в каких местах была примята трава в огороде, и, выслушав рассказ, обратился к племяннику:
– Слепой разве не увидит, что твое дело правое, – сказал он ему. – А вот что ты на Жбана кинулся, так это плохо. Не надо рукам волю давать… Ох, не надо!
Набатов понурился и помолчал несколько времени. Гриша тоже молчал.
– Развяжите ему руки, братцы, – обратился он к сторожам, – он больше драться не станет.
– Не станешь, что ли? – спросил сторож, подходя к Грише.
– Не стану, – уныло ответил тот. И сторож развязал ему руки.
– Ты бы, дядя, к Ермакову сходил, обсказал бы ему все дело, как есть, может, он за меня и заступился бы, – сказал Гриша, тихонько подвигаясь к дяде.
– Схожу беспременно, ты не тужи много, я Чижову ни в жизнь не поддамся, – горячо сказал Набатов. – Ты Жбана не слушай, плюнь на него, да и только, а уж я за тебя постою.
И Набатов встал с лавки. Уговаривая племянника не слушать Жбана, Набатов сам насилу удерживался от того, чтобы не броситься на Жбана и не исколотить его тут же до полусмерти.
– Прощай, утро вечера мудренее, – прибавил Набатов и вышел из арестантской. Он был сильно взволнован и раздражен, и попадись ему Чижов в этот сердитый час, – Набатов вряд ли бы совладал с своим сердцем. Он зашел было к Ермакову, но было уже поздно, и Ермаков спал.
XVIII
Утром Гришу повели на допрос в контору, где его ждал Чижов; повели и Жбана, и тот тотчас по приходе сказал Чижову, что Гришка его избил ночью. Чижов спросил сторожей. Те показали, как было.
– Так ты еще буянить! – закричал Чижов на Гришу. – Мало того, что ты вор, так ты еще бунтовать, в полиции драться? Под арестом? А-а?
И Чижов с сжатыми кулаками подошел к Грише, У того засверкали глаза. Он не спятился ни на шаг, но, смело устремив свои глаза на Чижова, заговорил дрожащим от волнения голосом:
– Я коли Жбана ударил, так ударил за дело, потому что он подшипники украл и ко мне в огород подкинул, да еще стал смеяться надо мной, ну, я и не мог стерпеть. Хотя бы до кого коснись такая напраслина…
– Ты еще разговаривать смеешь? – закричал на него Чижов, топая ногами. – Молчать, подлец!
– Нет, я молчать не стану, Василий Миколаич, – за говорил опять Гриша, – потому я ни в чем ни на волос не виноват…
– Так ты молчать не станешь? – крикнул Чижов и ударил Гришу по щеке. – Так ты сознаваться не хочешь? – И он хотел его ударить по другой щеке, но Гриша схватил его за руки повыше кистей и так крепко стиснул их в своих руках, что кяк ни был силен Чижов, а не мог высвободить своих рук без помощи полицейских.
А Гриша, задыхаясь от волнения и борьбы с полицейскими, говорил:
– Ты меня не бей, Василий Миколаич, ты рассуди сперва, виноват я али нет, а бить я тебе не поддамся.
– Так ты не поддашься? – закричал на него Чижов, когда его руки были высвобождены из рук Гриши. – Розог! Драть его, да так, чтобы он и с места встать не мог!
Полицейские бросились исполнять его приказание.
В то время, как Чижов тешился над своим слабейшим противником, в контору вошел Ермаков. Следом за ним шел Набатов. По просьбе Набатова, Ермаков хотел было заступиться за Гришу, но, узнав в конторе, в чем дело, раздумал. Он понимал, что не должен поощрять в мастеровых буйство и неповиновение властям ни в каком случае, потому, во-первых, что сам был власть, а во-вторых, что был довольно труслив и, несмотря на свою вражду к Чижову, не хотел на этот раз противоречить ему. Чижов, думал он, напишет управляющему, и кто знает, как там взглянут на это дело; лучше подождать, что дальше будет.
А Чижов, насытив свою злость, велел Гришу заковать в кандалы и увести в полицию, угрожая ему ссылкой на поселение.
В это время в контору ворвалась Егоровна и с воплем повисла на шее у Гриши. Истерзанный стыдом, болью и злобой, Гриша сурово оттолкнул ее и пошел из конторы, побрякивая кандалами. Егоровну тоже хотели вывести вслед за ним, но она бросилась в присутствие, куда ушел Чижов писать донесение, и плача ползала у него в ногах, прося за своего любимца, но дождалась только того, что ее велели вывести и не впускать больше. Она села на конторском крыльце и предалась сильнейшему отчаянию. Смотрел на все это Набатов и только кусал до крови свои посиневшие от душившей его злости губы. Выходя из конторы, он сказал Егоровне:
– Полно выть, старуха, вставай-ка лучше да пойдем ко мне.
И, не дожидаясь ответа, он быстро сошел с крыльца и пошел домой. Егоровна встала и покорно последовала за ним.
Придя домой, Набатов сказал дочери:
– Наташка, не отпускай тетку, покуда я домой не ворочусь.
И стал одеваться по-дорожному, ожидая, что Наталья спросит его, куда он. Но Наталья молчала. Вынул он из сундука бумажник с деньгами, привязал его к шнурку, на котором носил большой медный крест, и, взяв шапку, готовился выйти из избы.
– Я пойду в Кужгорт, – сказал он, не глядя ни на Наталью, ни на Егоровну и не обращаясь ни к той, ни к другой в особенности.
– Будь отец родной, – взвыла Егоровна, – заступись за сироту, бог тебе за это заплатит. – И она хотела поклониться Набатову в ноги. Тот нетерпеливо удержал ее рукой и сказал с сердцем:
– Сказано, что иду, так чего тебе еще надо? Что могу, то и сделаю без просьбы. – И он, перекрестившись, пошел к двери.
– Сходи в полицию, скажи Грише, что я ушел начальство за него просить, – прибавил Набатов, взявшись за скобу, – да поживи до меня с Наташкой, пособи ей.
И Набатов вышел. У ворот он встретился с Груней, которая шла к ним с узелком подмышкой. Поклонившись ему, Груня с минуту смотрела ему вслед, спрашивая себя, зачем это он такой сердитый и куда пошел. И потом бегом бросилась на лестницу. Она знала, что Гриша арестован по подозрению в краже подшипников, но и только. Войдя в избу и поздоровавшись с Натальей, она тотчас обратилась к Егоровне с расспросами и узнала от нее все остальные подробности дела.
– В кандалы заковали! – плача, закончила Егоровна свой рассказ. – На поселенье хочет его Чижов в Сибирь послать.
– Да разве он душегуб какой, что его в Сибирь на поселенье? Да за что? Да как он смеет, – горячилась Груня. – У, чтоб ему, проклятому, ни на том свете, ни на этом. Сквозь землю бы ему, в самые тартары провалиться, собаке!
И долго еще она злилась и кляла Чижова, призывая на его голову всевозможные бедствия. А Набатов между тем усердно шагал по дороге в Кужгорт, обливаясь потом. Он снял с себя свой суконный бешмет, связал его опояской и повесил за плечи. Снял и поярковую шляпу и нес ее в руке, подставив свою голову под яркие лучи июльского солнца. Не отошел он еще и пяти верст, как его обогнала ямская телега парой. В ней ехал нарочный служитель, посланный Чижовым с донесением к управляющему.








