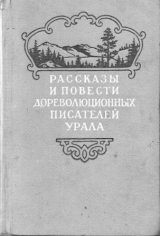
Текст книги "Как жили в Куморе"
Автор книги: Анна Кирпищикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
XI
Придя домой, Гриша нашел дом запертым, матери его не было дома, и он в ожидании ее принялся прибирать и подметать двор. Прибравши и без того чистый двор, Гриша вытащил засунутый в поленницу топор и стал заколачивать ступеньки лестницы, вываливающиеся из покосившихся брусьев. Он любил заниматься хозяйством и улаживать свой дом, но, несмотря на все его старания, дом и все надворные строения, требовавшие радикальной поправки, разваливались и явно клонились к упадку. Не успевал Гриша подпереть одно прясло изгороди, как падало другое, и ему то и дело приходилось починять то то, то другое. Когда он сколачивал ступеньки и оглядывал крыльцо, окно соседнего дома, выходившего в ограду к Грише, отворилось, и в нем показалась всклокоченная рыжая голова его соседа, Семена Шестова, прозванного Жбаном. Гриша не заметил его и продолжал свое дело.
– Ай да сосед у меня молодец! – насмешливо заговорил Семен Жбан. – Как ни погляжу – все-то он по дворику похаживает да топориком поколачивает. Такой-то себе дворец сколотил, что просто на поди! Экова, знать, и в Москве нету.
И Жбан рассмеялся неприятным смехом.
Гриша только оглянулся и, не сказав ни слова, продолжал свое дело.
– А вот что, соседушко дорогой, я тебе посоветую, – заговорил опять Жбан все тем же насмешливым тоном. – Ты шибко-то топором не стукай, пожалуй, еще и уронишь крыльцо-то: вишь, оно у тебя словно живое, так ходенем и ходит. – И Жбан опять засмеялся.
Гриша все молчал; он положил топор иа прежнее место, взошел на крыльцо и, вынув верхний косяк над дверью в сени, просунул туда руку и отворил дверь с защелки.
– Ишь, загордел как, – продолжал подзадоривать Жбан, – с нашим братом и говорить не хочет. Да побай, соседушко, пожалуйста, ответь хоть словечко.
Гриша обернулся и, показав ему кукиш, ушел в избу. Он злобно швырнул на лавку свою шапку и стал глядеть в окно на дом Жбана. Увидев, что Жбан затворил свое окно, Гриша несколько успокоился и стал искать, чего бы поесть. Не найдя ничего в избе, он сходил в погреб и, принесши оттуда каравай хлеба и крынку молока, усердно принялся за завтрак. За этим занятием застала его мать.
– Ты что это трескаешь? – вскричала она, всплеснув руками. – Ведь сегодня пятница!
Гриша положил ложку и обтер губы.
– Неужели? – удивился он. – Как же это я позабыл?
– То-то, позабыл! Бот жалобишься, что бог счастья не дает, а сам что делаешь? Среду и пятницу почитать должно, потому что богом указано, – ворчала старуха, убирая горшок с молоком и ложку.
Мать Гриши была худенькая, тщедушная старушка с очень строгими понятиями относительно соблюдения постов и числа земных поклонов. Всякий день утром и вечером она простаивала перед иконами около часу, усердно отсчитывая по лестовке земные и поясные поклоны и повторяя множество раз иисусову молитву, которую она только одну и знала. Любила она ходить в церковь, и хотя по слабости слуха и потому, что стаивала в церкви около входных дверей, иногда не слышала, что там пелось и читалось, – все-таки молилась усердно, нашептывая все одну и ту же иисусову молитву. Никогда не пропускала она случая поцеловать крест, а также и руку попа.
Все ее земные привязанности сосредоточились на Грише, единственном сыне, которого ей удалось вырастить. Мужа она лишилась рано и с тех пор вынесла много всякого горя и страдания, отбывая тяжелой работой господские повинности вплоть до того времени, когда Гришу, наконец, зачислили в действительные работники, а мать его избавили от господских работ. Рада-радехонька была этому старуха, потому что силы ее уже очень ослабели в последнее время, да и кашель начинал жестоко душить по зимам.
«Хошь бы еще мне годок на другой дал бог веку, – вздыхая, думала старуха, – хошь бы я парня-то женила да поглядела бы, как он жить будет».
Убрав со стола молоко, Егоровна спросила у сына ласковым тоном:
– Хочешь кваску с лучком похлебать? Я принесу.
– Нет, мать, не хочу, – ответил Гриша, угрюмо уставившись в окно, оттого что забыл день и наелся скоромного.
– Я, мать, хочу к дяде Набатову сбегать, – сказал он немного погодя.
– Пошто?
– Да побаять насчет того, как бы мне в кричную робить перепроситься.
Егоровна вздохнула: она не жаловала работы в кричной как потому, что там человек легко подвергался разным опасностям, так и потому, что не под силу ей было стирать пропитанные сажей рубахи Гриши.
– Сам знаешь, дитёнок, – ответила она, – а по-моему, так лучше бы ты себя пожалел, потому работа в кричной тяжкая, огненная, а сила твоя молодая, некрепкая, лучше бы ты силы еще покопил.
– Да ты посуди, мать, – с жаром заговорил Гриша, – что в подконюшенниках-то платят – как мы жить будем? Надо избу перестраивать, гляди, вся она развалилась, а перестраивать не на что – денег ни гроша нету.
– Ну, год-другой перестоит еще, – ответила на это Егоровна, окинув избу глазами.
Гриша нахмурился и почесал голову.
– Всего лучше к дяде Набатову сходить, – решил он, вздохнув, и встал с лавки.
– Что же, сходи, побай, может, он что и пособит, – согласилась Егоровна.
XII
Набатова Гриша застал за обедом. Доходила другая неделя со времени несчастных родов Натальи, а она все еще не вставала с постели, и старуха-повитушка все еще жила у Набатова, заправляя его хозяйством, стряпая ему обед и надоедая своим ворчаньем. Суровый и гордый Набатов присмирел настолько, что не смел даже прикрикнуть на ворчливую старуху, покорно вынося ее каждодневное брюзжанье, и только старался как можно меньше быть в избе. С Натальей он не говорил ни слова и, видимо, избегал смотреть на нее. Правда, она и сама не показывалась отцу и, лежа за занавеской, не подавала признаков жизни, пока отец был в избе. Приход Гриши заметно удивил Набатова.
– Садись, гость будешь, – сказал он в ответ на его поклон. – Бабушка, дай-ка ложку, – добавил он, отодвигая стол и указывая Грише место за столом. – Садись, похлебай ухи-то.
– Я уже ел сегодня, – отказался Гриша, однако сел за стол.
Пообедав, Набатов тотчас же вышел на крыльцо. Гриша вышел за ним.
– Я, дядя, к тебе пришел об деле побаять, – сказал он, остановившись перед Набатовым, севшим на лавку.
– Какое же твое дело? – опросил тот, несколько удивившись и внимательно поглядев в лицо Гриши. Оно было озабочено и печально.
– Садись, – добавил Набатов, – что стоишь? В ногах правды нету, садись да расскажи, какое твое дело.
Гриша сел и подробно рассказал Набатову свое горе, не утаив и того, за что особенно невзлюбил его Чижов. Нахмуренное и печальное лицо Набатова оживилось при этом рассказе, глаза засверкали злостью. Он отвернул лицо, стараясь скрыть от племянника свое волнение.
Кончив свой рассказ просьбой помочь ему перепроситься в кричную, Гриша уж давно ждал ответа, а Набатов все молчал, отвернувшись от него.
– Знаешь пословицу? – спросил он, наконец, обернув к Грише свое изменившееся лицо.
– Какую? – спросил тот, удивившись и растерявшись от неожиданного вопроса.
– А вот какую: кобыла с медведем тягалась, один хвост да грива остались, – сказал Набатов, мрачно устремив глаза на Гришу.
Тот понурил голову и молчал. Последняя надежда начинала покидать его. На глазах у него навертывались слезы, губы судорожно передергивались.
Набатов тоже опустил голову.
– Этот Чижов хуже мне ножа острого, – проговорил он вполголоса, не глядя на племянника и будто рассуждая про себя. – Легче бы мне с лютым зверем в лесу сойтись, чем с ним проклятым. Он всему злу причиной.
Гриша удивился и слушал внимательно. Он не знал, кто был причиной позора Натальи, а потому не мог понять злобы Набатова. А Набатов, облокотившись руками на колена и положив на них свою голову, думал. Гриша ждал с замирающим сердцем, что еще скажет ему дядя.
– Вот разве что мы сделаем, – проговорил, наконец, тот, подняв голову. – На Чижова нам надеяться нечего: его не проймешь ни крестом, ни пестом, а вот разве Ермакову Степану Ефимовичу мы поклонимся. Он с Чижовым не в ладах, а потому, может, и примет нашу сторону.
– Да еще у меня поклониться-то нечем, – тоскливо проговорил Гриша.
– Ну, на это я тебя ссужу, на это немного надо, – сказал Набатов. – Сегодня у тебя день свободный?
– Свободный, – ответил Гриша, несколько приободрившись. – До вечера свободен буду.
– Вот и ладно, – оказал Набатов, вставая. – Дам я тебе целковый, и ступай ты сию минуту на Усть-Кумор, спроси там старика Пантелея, он рыбак, у него в садке завсегда живая рыба сидит. Скажи ты ему, что послал, мол, меня мастер Набатов и велел-де тебе самолучших стерлядей отвесить – на целковый сколько причтется. Он мне старинный приятель и по приятству уступит. Этой рыбой мы и поклонимся Ермакову.
С этими словами Набатов ушел в избу и вскоре вынес оттуда засаленную рублевую бумажку и подал ее Грише. Тот завернул ее в обрывок платка и засунул за пазуху.
– Спасибо, дядя, – проговорил он повеселевшим голосом. – Даст бог, доживем до страды, так я отслужу за все это.
– Ладно, ладно, мне твоя служба не надобна, – ответил на это Набатов. – Ступай-ка лучше скорей на Усть-Куморку, а я тем временем лягу сосну.
Гриша стал спускаться с лестницы.
– Смотри же, чтобы рыба была хорошая, живая, а не дохлая, – наказывал вслед ему Набатов, – потому я с тобой сам пойду, так чтобы не стыдно было.
Гриша ушел, а Набатов, спустившись вслед за ним с крыльца, лег в сани, стоявшие на дворе под навесом, но не мог заснуть вплоть до прихода Гриши – так сильно расходился в нем гнев на Чижова.
– Чтобы ему ни дна, ни покрышки, кровопивец! – мысленно ругался Набатов, ворочаясь в санях. – Не во всяком же разе ему уступать, найдем и на него управу.
И сильно кипела кровь в Набатове, и сжимались его здоровые мускулистые кулаки.
До Усть-Кумора было всего версты две, и Гриша скоро воротился, неся на лычке трех больших и еще живых стерлядей. Услышав, что стукнули ворота, Набатов поднял голову и, увидев племянника, подозвал его к себе. Гриша подошел и показал рыбу.
– Ну, брат, рыба важная, экую рыбу не стыдно и управляющему поднести, – похвалил Набатов, вылезая из саней. – Садись отдохни, а я пойду накину кафтан, да и пойдем, благословись.
И Набатов ушел в избу, а Гриша сел на нижней ступеньке лестницы и ждал. Скоро Набатов вышел в нанковом кафтане и шапке. Гриша, перехватив рыбу из правой руки в левую, перекрестился, и они вышли. Придя к Ермакову, Набатов и Гриша прошли прямо в переднюю, не заходя в кухню, и остановились у дверей. Ермаков, мужчина высокий, плотный и красный, как рак, только что встал от послеобеденного сна и, сидя перед своей красной конторкой, допивал уж вторую кружку холодной браги. Услышав, что скрипнула дверь в передней, он громко спросил:
– Кто тут?
Набатов сделал несколько шагов вперед и, остановившись у дверей в кабинет, поклонился.
– До вашей милости, Степан Ефимович, – заговорил он, – с покорной просьбой.
– Что надо? – пробурчал Ермаков, опять принимаясь за недопитую кружку и не глядя на Набатова.
– Да вот племянника охота бы в кричную перевести, – заговорил Набатов, опять кланяясь. – Покорно прошу, Степан Ефимович, нельзя как-нибудь, не будет ли вашей милости, потому парень-то сирота, охота бы при себе к работе приспособить.
– Какого племянника? – спросил Ермаков.
– Да вот Гришу Косаткина, сына Андрея Косаткина, которого деревом-то в лесу зашибло, может, изволите помнить.
– Забыл я, – пробурчал Ермаков, отдуваясь. – Где он?
– Здесь, со мной пришел, – ответил Набатов. – Гриша, покажись.
Гриша несмело выступил вперед и неловко поклонился, причем стерляди махнули хвостами по полу.
– А, знаю, – на этот раз внятно протянул Ермаков и встал со стула.
– Примите, батюшка Степан Ефимович, – заговорил Набатов, взяв стерлядей из рук Гриши и подавая их Ермакову. – Не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады.
Тот не спеша взял стерлядей за лычко и, взвесив их на руке, с довольной улыбкой спросил у Набатова:
– Сам заловил?
– Нет, батюшка Степан Ефимович, я не рыбак, купил у приятеля.
– Хозяйка, а хозяйка! – крикнул Ермаков. – Степанида Матвеевна!
– Иду, – послышалось из других комнат, и маленькая, сутулая и некрасивая женщина в пестром платье и коленкоровом чепчике на голове вошла в переднюю.
– Возьми-ка вот, мужик стерлядок принес да вели заколоть поскорее, а ему, – Ермаков указал на Набатова, – подай водки рюмку.
– Ладно, – ответила Ермачиха, взяла стерлядей и ушла.
– Так в кричную тебя перевести? – спросил Ермаков у Гриши.
– Уж сделайте милость, – заговорил тот, кланяясь, – заставьте за себя бога молить.
– Да ведь ты уж начинал в кричной робить, зачем перестал? – спросил Ермаков.
– Василий Миколаич приказали на конюшне быть, – ответил Гриша.
Ермаков не сказал на это ни слова, а пошел к конторке и, вынув из бокового ящика лоскуток бумаги, написал на нем несколько строчек, засыпал их песком и, стряхнув песок, подал записку Грише.
– Ступай ты с этой запиской к распометчику, он завтра с переклички пошлет на конюшню вместо тебя другого, а ты выходи робить в кричную. Вот с Набатовым и работай в одной смене.
Гриша низко поклонился, радостным голосом бормоча благодарность. Набатов тоже поблагодарил, выпил рюмку водки, вынесенную Ермачихой, поблагодарил еще раз и вышел.
XIII
На другой день узнал Чижов о переводе Гриши в кричную и страшно разозлился на Ермакова. Злость его увеличилась еще более, когда он увидел, что Гриша работает с Набатовым, а Набатов был один из исправнейших мастеров в куморской кричной фабрике, стало быть, притеснять его было бы большой несправедливостью. Да и кроме того были еще причины, по которым Чижову не хотелось явно ссориться с Набатовым, и он поневоле должен был на время затаить свою злость на Гришу. Преследование Груни тоже остановилось на время, потому что Чижову вскоре понадобилось ехать в курени осматривать заготовленные там крестьянами дрова для выжига угля. Эта поездка отняла у него более недели и привела к весьма неутешительным результатам. Готового и оставшегося от прошлого года угля не было ни в одном из ближайших к заводу куреней; в куренях же более отдаленных уголь хотя и был, но не было возможности провезти его в завод летом, а имевшегося в запасе угля не могло достать до зимы, и, стало быть, фабрики приходилось остановить по недостатку угля. Мысли одна неприятнее другой теснились в его голове, когда он пробирался верхом на крестьянской лошадке по едва заметным лесным тропинкам, проложенным дровосеками. Куренной надзиратель и несколько человек крестьян, тоже верхом, тянулись за ним гуськом. На привалах и ночлегах крестьяне угощали Чижова водкой и ромом. Он пил, чтобы затушить тоску и не думать о последствиях своей оплошности, которая могла переполнить меру гнева управляющего и приблизить тучу, и так уже недалекую. Пьяный в недовольный собой и всеми, вернулся он из этой поездки.
Анна Васильевна, увидав в окно подъехавшего к воротам мужа, с радостным криком бросилась к нему навстречу.
– Васенька, голубчик ты мой! – кричала она, подбегая к телеге, из которой Чижов не имел сил вылезти без посторонней помощи. Он вылез с помощью курешлика, приехавшего вместе с ним. Шатаясь, пошел он в комнаты. Анна Васильевна хотела взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее, чем, впрочем, Анна Васильевна нимало не обиделась, и, проговорив только, что Васеньку сильно растрясло и что пора ставить самовар, пошла велел за мужем.
Войдя в комнату, Чижов тяжело опустился на диван и, отпустив куренщика, попросил чаю.
– А ты, верно, мне к чаю-то медку привез на гостинец? – спросила Анна Васильевна, подсаживаясь к мужу.
– Как же, привез полну телегу, – насмешливо отвечал Чижов. – Ты что же без ложки навстречу-то выбежала?
– Ах, Васенька, что же смеяться-то? – заговорила Анна Васильевна обиженным тоном. – Мне Степанида Матвеевна сказывала, что когда ее муж ездит по куреням, то крестьяне дарят ему и меду, и денег…
Но Чижов прервал речь своей супруги, послав ее к черту вместе со Степанидой Матвеевной, и велел наливать чай.
Вошел служитель с пакетом только что привезенных из Кужгорта бумаг. Чижов, не читая, положил их на стол. Расспросив служителя о том, сколько часов он ехал, здоров ли управляющий и нет ли чего нового в Кужгорте, Чижов отпустил его и принялся за чай, приготовленный Анной Васильевной. Обиженная и приунывшая, сидела она у самовара, отвернувшись от мужа и украдкой утирая слезы. Чижов пил чай, не обращая на нее внимания и тупо смотря на запечатанный конверт. Хмель начинал разбирать его все сильнее и сильнее. Он не допил второго стакана и, отложив чтение бумаг до вечера, пошел и лег спать.
Анна Васильевна убрала чай и села за пяльцы дошивать целующихся голубков, утирая то и дело набегавшие на глаза слезы. Ей было скучно, она сердилась на мужа и кляла свою горькую участь. «Не любит он меня, ничего для меня сделать не хочет, никакого удовольствия мне доставить не хочет, – думала она. – Вон Ермачиха сшила себе новое платье с оборками, сегодня обновила его к обедне, а мне и думать об этом нечего. У Васеньки денег нет, жалованье вперед забрано чуть не за год. – И Анна Васильевна тяжело вздохнула. – А уж как бы мне хотелось на лето кисейное-то платье иметь! Вот скоро семинаристы приедут на вакацию, стали бы у нас собираться, танцевать бы стали, в поле бы с чаем ездить». Но тут Анна Васильевна, вспомнив, что у нее не только на платье, но и на чай денег не станет, расплакалась так, что не могла более шить, и ушла в сад. Но и там не могла отвязаться от своих печальных мыслей и, вспомнив, что ее приглашала к себе Ермачиха, отправилась к ней.
XIV
Соснув часок-другой, Чижов встал и, вспомнив о полученных из главного правления бумагах, пошел прочитать их. В одной из этих бумаг был строгий запрос, отчего выделка железа на куморской кричной фабрике не только не увеличилась, как того следовало ожидать вследствие перестроек и поправок, произведенных на фабрике, но даже уменьшилась. Затем следовал строгий выговор Чижову за нерадение к пользам владельца, за пьянство, за поблажки мастеровым. Оканчивалась эта бумага приказанием начинать в фабриках работу с десяти часов вечера в воскресенье, чтоб не пропадала даром ночь на понедельник. Крепко выругался Чижов, прочитав эту бумагу, и, закурив папироску, крикнул Алешку. Вбежал парень с всклокоченными волосами и заспанным лицом, одетый в сюртук, как видно, с плеч Василия Николаевича.
– Уставщика[7]7
Уставщик – главный мастер какого-либо цеха на старых уральских заводах.
[Закрыть] ко мне! – сказал Чижов, не оборачиваясь и принимаясь читать другие бумаги.
Скоро пришел уставщик. Он был навеселе по случаю воскресного дня и немножко струсил; однако ж, подождав немного, слегка кашлянул, докладывая тем Чижову о своем прибытии.
– Кто тут? – спросил Чижов, не оборачиваясь.
– Уставщик. Изволили требовать…
Чижов обернулся к уставщику вместе со стулом и сказал, ткнув пальцем в лежавшие перед ним бумаги:
– Сейчас получил предписание: велят пускать кричную в действие с десяти часов вечера сегодня. Теперь уже восемь; ступай и вели сейчас наряжать мужиков на работу.
Уставщик выступил на шаг вперед и, переминаясь с ноги на ногу, чесал голову.
– Нельзя ли, Василий Миколаевич, уволить сегодня? – заговорил он несмело. – Сами знаете, день сегодня воскресный, народ весь пьян, посылать его сегодня на работу на одно увечье.
Чижов, рассерженный и без того, рассердился еще пуще и, вскочив со стула, закричал:
– Знать ничего не хочу! Мне, что ли, за вас робить-то? И то вот тут пишут, что даю вам поблажку. Вон! И чтоб сейчас выходить на работу.
Уставщик струсил и проговорил только:
– Воля ваша, как угодно.
Он вышел от Чижова и торопливо направился к старому деревянному зданию, где помещалась заводская полиция; он спешил послать оттуда десятника собирать народ на работу. А Чижов, просмотрев бумаги, выкурил несколько папирос и принялся за «Московские ведомости», которых накопилось в его отсутствие несколько номеров. Он отворил окно и, читая газеты, время от времени посматривал, не задымились ли видневшиеся в окно трубы фабрики, расположенной под горой, недалеко от его дома. Скоро, однако же, он так занялся газетами, что забыл посматривать в окно и был отвлечен от чтения только появлением Алешки, доложившего, что пришли мастера, стоят на крыльце и просят Чижова выйти к ним. Чижов нахмурил брови и скорыми шагами вышел на крыльцо, где толпой стояли кричные мастера, почти все пьяные. В числе их не было только Набатова. Он, тоже подкутивший для праздника, стоял за воротами с опущенной головой и угрюмым взглядом. Ему не хотелось идти с просьбой к Чижову, да не хотелось и отстать от товарищей, решившихся сообща просить Чижова не начинать сегодня работы.
– Зачем? – сердито спросил Чижов.
– Да что, батюшка Василий Миколаич, – заговорил колосс Рясов, выступив из толпы и пошатываясь из стороны в сторону всем своим длинным корпусом. – Показаться пришли твоей милости, каковы мы есть для праздника.
И он обвел глазами своих товарищей, улыбнувшись широкой, добродушной улыбкой. Чижов рассердился.
– На работу вам приказано идти, а не ко мне! – закричал он, топая ногой. – Ведь я не от себя выдумал заставлять вас сегодня робить. Ведь сказано, что я предписание получил. Слышали али нет? Из правления, от управляющего предписание. Понимаете али нет?
– Да помилуй, Василий Миколаич, – заговорил один из мастеров, который был потрезвее других, – ведь мы не знали, что предписание это сегодня придет. Как бы знали, так и не напились бы. А теперь ты что хошь делай, а мы робить не можем, потому все пьяны: и подмастерья, и работники, и мы.
– Вон! – закричал на это Чижов, топая ногами. – Знать ничего не хочу. Пьяницы! Стельки кабацкие! Вон! И чтоб сейчас за работу!
И, заворотив Тимофея Рясова, стоявшего к нему ближе других, Чижов ударил его в спину так, что тот одним прыжком соскочил с лестницы. За Рясовым посыпались, толчки и брань на других, и все испуганной толпой побежали к воротам.
– Что? – спросил Набатов, увидав их.
– Да и слышать не хочет, в толчки прогнал, – отвечали ему.
– Мне такого здоровенного поддал, что инда искры посыпались, – сказал Рясов, опять добродушно оскалиа зубы.
Великан и силач Рясов, хладнокровный и рассудительный в трезвом виде, в пьяном становился кротким и добродушным, как ребенок.
Выслушав, что сказали, Набатов еще пуще понурил голову.
– Что делать? – спрашивали мужики, с недоумением поглядывая друг на друга.
Один из них, не в силах будучи держаться на ногах, сел на подворотню, двое других прислонились к стене, а Рясов стоял перед Набатовым и, качаясь во все стороны, тупо смотрел на него.
– Надо еще просить, – сказал Набатов, помолчав, – не зверь же он, может, и уймется. Ступай, уставщик, проси до утра отложить, скажи, что все пьяны и робить не можем. Пусть только до утра дадут проспаться.
– Вестимо, только до утра, а там мы уж знать будем и будем исправны.
Уставщик почесал голову и нехотя пошел на крыльцо. Вслед за ним пошли еще двое из мастеров. Все другие стояли у ворот и ждали. Скоро послышалась хриплая брань Чижова, и уставщик и мастера опять быстро сбегали с крыльца и шли к воротам. Постояли мужики у ворот еще несколько времени и, толкуя, перешли через улицу к полиции, где и уселись на ступеньках лестницы. Некоторые прилегли и захрапели; другие, потрезвее, все еще советовались между собою и придумывали, что делать. Сидели, сидели мужики на крыльце полиции и решили еще раз сходить к Чижову всей толпой.
– Набатов, иди и ты с нами, тебя еще он не видал, – обратился кто-то из них к Набатову. Тот молча встал и пошел впереди всех. На этот раз мужики не остановились на крыльце и прошли в переднюю. Чижов, еще не успевший успокоиться, скорыми шагами ходил по комнате. При виде толпы мужиков, вошедших в переднюю, гнев его вскипел с новой силой, и он с поднятыми кулаками бросился на них, не дав им произнести ни слова. Набатов, стоявший впереди всех, схватил Чижова за руки и удержал его.
– Уймись, Василий Миколаевич, – сказал он глухим голосом, – молод еще ты толчками-то нас кормить, мы не за тем пришли.
Чижова точно обдало холодной водой от прикосновения Набатова. Он, отдернув руки, спятился назад и сказал, стараясь сдерживать свою ярость:
– Говорят вам, что не от себя я выдумал заставлять вас сегодня робить, понимаете или нет, что предписано мне это из правления? Ведь я за вас отвечать буду.
– Это точно, что ты за нас отвечать будешь, – сказал ему на это Набатов. – А коли кто под колесо попадет или другомя как изувечится, тогда кто отвечать будет? Ведь ты же, Василий Миколаевич. Ну, рассуди ты сам, что за работник пьяный человек? Кои здесь, так те еще потрезвее, а ты вот на тех погляди-ка, кои без чувства-то валяются. Ну что ты с ними станешь делать? Переувечатся все в одну ночь, да и только.
Чижов, казалось, убедился этими словами. Он отошел к окну и, повернувшись к мужикам спиной, молчал.
– Помилуй, батюшка Василий Миколаевич, – заговорили другие мужики, ободренные его молчанием, – делай ты завтра с нами что хошь, а сегодня мы тебе не работники,
– Ну, ступайте, спите до двух часов, а с двух чтоб робить, – сказал Чижов, не оборачиваясь.
– Нет, Василий Миколаевич, не проспаться нам до двух часов, – сказал уставщик, – увольте уж до утра.
Чижов опять не мог совладать со своим гневом.
– Вон! – заревел он, бросившись на уставщика и толкая его в шею. – Сказал, чтоб в два часа выходили на работу. Вон!
Все поспешно пошли из передней вслед за вытолкнутым уставщиком. Пошел и Набатов, крепко стиснув зубы и стараясь спрятать от Чижова свои сжатые кулаки.
Пробило уже десять часов, когда мастеровые вышли от Чижова и разошлись по домам, порешив спать до утра.
– Ведь не станет же он нас всех драть, – рассудили они. – Сегодня он сердит, а завтра ведь уходится же его сердце.








