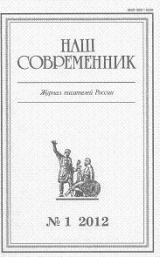
Текст книги "В стране радости"
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Цветущая сложность
Но религиозная палитра Индии не ограничена индуизмом. Больше того: Индия не была бы Индией, если бы в её духовном – как и бытовом – существовании не наблюдалось бы поразительно пёстрой смеси различных культур и религий. Как в настоящем индийском соусе должны обязательно присутствовать все четыре основных вкуса – то есть кислый, соленый, горький и сладкий, так и в духовном пространстве этой страны уживается нечто несовместимое.
Вторая по распространенности религия Индии – это ислам. И, хоть цифра в 12 процентов кажется не такой уж большой – не забудем, что в численном выражении это примерно соответствует населению всей современной России. Ислам – религия, противоположная индуизму. Многобожию, пестроте, женственной мягкости и пассивной созерцательности индуизма противостоит сухая, активная, жёсткая непримиримость арабского монотеизма. Разумеется, два эти мира – исламский и индуистский – не могут мирно сосуществовать; проблема «муслим-терроризма» на сегодняшний день – едва ли не самая серьёзная из политических проблем Индии. Но, с другой стороны, при всей напряжённости противоречий, возникающих между исламом и индуизмом, ислам нужен Индии, как некий противовес – или, можно сказать, как закваска бывает нужна для того, чтоб аморфное, женственно-вялое тесто поднялось и обрело бы в себе самом новые, жизненно важные свойства.
Помимо того, что ислам с индуизмом сложно и драматически сосуществуют, создавая энергетически напряженное поле взаимных влияний, не позволяющее Индии лечь в сонный дрейф абсолютной пассивности – по русской пословице, на то и щука в море, чтобы карась не дремал, – но из союза-вражды ислама и индуизма родилось ещё и дитя: религия сикхов.
Сикхизм – это своего рода прививка активного и молодого ислама на древнее и уже обомшелое древо индуизма. Генетически, по своим корням и основам, сикхизм несомненно вырастает из традиционного индуистского мировоззрения. Но психологически сикхизм стоит ближе к исламу. Это религия воинов, которые не расстаются с оружием и в любой миг готовы вступить в безоглядное и решительное сражение. Для классического индуизма такая воинственность непредставима; но, не будь в Индии сикхов, страна имела бы совершенно другую судьбу и иное лицо.
Кстати о лицах: сикхи очень красивы. Спокойная твердость и чувство собственного достоинства выделяют лицо и взгляд сикха в любой, самой пёстрой толпе. А внешние атрибуты – тюрбан, борода и кинжал или сабля – лишь подтверждают, что ты не ошибся, и перед тобою действительно сикх.
Не успеешь налюбоваться на сикхов – как тебя привлекают вдруг люди совершенно иной энергетики. Через толпу, глядя под ноги – чтоб не наступить, не ровён час, на какого-нибудь муравья, – застенчиво-мелкой походкой движется группа людей в белоснежных одеждах и в марлевых масках на лицах. Если сикхи идут, сознавая себя как бы центром всего мироздания – то люди в белом, напротив, стремятся как бы исчезнуть, стать незаметно-бесплотными: чтоб не обидеть кого-нибудь в этом дивно устроенном мире, не нанести вреда какой-нибудь крошке-козявке, не споткнуться б о камень – ибо камень, он тоже живой, и способен почувствовать боль – чтоб пройти свой назначенный путь от рождения и до нирваны максимально легко, незаметно, подобием облака или дуновения ветра.
Это джайны, и их главный принцип – тот же, что и у медиков: «не навреди». Этот принцип понимается и исполняется ими буквально: скажем, занятия сельским хозяйством, при которых не избежать вторжения в землю, и повреждения там каких-нибудь корешков или червячков – эти занятия джайнам противопоказаны. А правило «ничего нельзя резать» доведено до того, что собственные волосы на голове и на теле джайны не стригут и не бреют, а буквально выщипывают: один волосок за другим.
То, что все джайны вегетарианцы, само собой разумеется. Наиболее продвинутые из них вообще отказались от пищи и питаются только солнечным светом: именно к джайнам относится большинство «солнцеедов». От комментариев к этой теме я воздержусь: не хочется обижать симпатичных, безвредных людей.
Нам бы поучиться у джайнов тому, как можно бережно, трепетно относиться ко всему мирозданию, включая растения, насекомых и даже камни – как можно бояться непоправимо нарушить что-либо в мире, который создан не нами и который поэтому не нам с вами радикально переделывать и «улучшать». Единственное, что в нашей власти, и на что мы имеем моральное право – это улучшить самих же себя. Вот этим-то и занимаются джайны; глядя на их просветлённые, скромные, добрые лица – начинаешь и сам мечтать: вот бы перестать есть мясо, и вообще перестать что-либо есть, скинуть одежду да и бродить себе этакой полубесплотною тенью по пыльным индийским дорогам…
Среди множества вер и религий, сосуществующих в Индии, есть и родное нам христианство. Причём христиан не так уж и мало – около двадцати пяти миллионов. То, почему христианство – религия, столь, казалось бы, близкая духу миролюбивой, уступчивой, аскетически нищей страны – не получило здесь, в Индии, широкого распространения – это тема отдельного размышления. Возможно, что не последнюю роль здесь сыграло долгое владычество англичан: трудно полюбить и принять религию, которую исповедуют жадные, бессердечные и самовлюбленные колонизаторы.
Осталось упомянуть ещё буддизм и зороастризм – чтобы завершить беглый обзор важнейших для Индии религиозных систем.
Буддизм, как ни странно, Индия тоже не приняла. Учение, выросшее из индуизма и рождённое индусом Гаутамой, нашедшее первых поклонников здесь же, в Оленьем парке Сарнатха – учение, которое при царе Ашоке являлось даже государственною религией – тем не менее, Индия вытеснила из себя, как инородное тело. Возможно, важнейшая из причин – это то, что буддизм отрицает кастовое деление. Видимо, Индии, для сохранения своего самобытно-национального образа жизни, кастойность необходима: как структура, организующая хаос текучего, пёстрого социума этой огромной и многолюдной страны. С буддизмом Индия перестала бы быть самою собой – и вот именно инстинкт самосохранения заставил индусов отторгнуть буддизм и как бы выдавить его в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, где он прекрасно прижился.
Религия огнепоклонников, зороастризм – наследие древних иранцев. Любопытно, что наш Аркаим, протогород, располагавшийся к югу от нынешнего Магнитогорска, был колыбелью зороастризма; так что одна из крупнейших индийских религий пришла на Индостан с территории современной России. У огнепоклонников всего интереснее их похоронный обряд. Мёртвых не хоронят и не сжигают, а бросают на растерзание грифам, в священные «башни молчания». Очевидно, что этот обычай сложился среди каменистых, безлесных иранских нагорий, где нельзя ни сжечь мёртвого, ни закопать его в землю. Интересно и то, что современные огнепоклонники связывают со стихией огня повседневную жизнь: так, большинство воротил индийской металлургии – именно зороастрийцы.
Даже самый короткий и беглый обзор тех религий, что существуют в теперешней Индии, представляет картину удивительной сложности и пестроты. И ведь всё это органично живёт, развивается, дышит; любая из упомянутых выше религий имеет миллионы последователей – и существование одних ничуть не мешает, а даже способствует процветанью других. Вот это и есть та цветущая сложность, о которой мечтал и так страстно писал наш «византиец» Леонтьев. Наверное, Индия полюбилась бы Константину Леонтьеву ещё больше, чем Константинополь; ибо трудно даже вообразить страну, которая ярче, чем Индия, могла бы представить весь спектр, всю палитру сосуществующих в бытии человечества религиозных систем.
Природа
С природы, возможно, стоило бы начинать. Во всяком случае, большинство из людей, писавших о национальных образах мира, именно из природы выводили и всё остальное: и душу народа, и его Логос, то есть воплощённое в языке отношение к миру.
Но природа Индии настолько разнообразна, что в ней можно найти сколько угодно посылок для любых умозрительных построений. Тут и горы, и джунгли, и могучие реки с плодороднейшими долинами, и пустыни, и океаническое побережье – словом, в Индии есть почти всё то же самое, что и на всём земном шаре.
Внимательнее всего мне удалось рассмотреть городскую природу. Любая из улиц старого индийского города так полна разнообразною живностью, бегающей, ползающей, прыгающей или летающей, что по старым кварталам бродишь, как по зоопарку – не уставая и не успевая дивиться тому, какое великое множество разнообразных существ живёт вперемешку с людьми. Самые главные здесь, конечно – коровы. Они составляют настолько привычную и непременную часть городского пейзажа, что, кажется, можно убрать всё вообще остальное, но нельзя удалить из индийского города этих священных животных: не будет коров – город тут же утратит неповторимо-индийскую физиономию.
Нормальное состояние для индийской коровы – лежать посреди тротуара, жуя жвачку и поводя окрест сонным, с густой поволокою, взглядом. В коровах так много спокойствия и невозмутимости, что порой думаешь: главный продукт, который в таком изобилии производят коровы, это даже не молоко – а глубокий, какой-то уже запредельный покой. Ни людская толпа, ни гудки машин или рикш, ни крики уличных зазывал – ничто не способно нарушить ту вязкую дрёму, тот длящийся сон наяву, в котором – вне времени, вне суеты – пребывают коровы. Глядя в коровьи глаза – эти озёра смирения и неземного покоя – нельзя не подумать о том, что вся наша жизнь – это Майя, мираж, и что отойти от неё, погрузиться в нирвану, подобную той, в какой пребывают коровы, – есть лучшая доля, предел человеческих наших мечтаний…
Непременный вопрос, что всегда возникает при виде индийских коров: чем же они кормятся в каменном городе? Ведь на пыльных, истоптанных улицах нет ни травинки, ни кустика; даже козе, и то невозможно найти пропитание. Но, на счастье коров, в городах Индии столько мусорных свалок, а там такое количество органических полусопревших отбросов – что на свалках вполне можно пастись. Пусть корова и не набьёт себе пузо так, как набила бы где-нибудь на среднерусском зелёном лугу – но с голоду не околеет.
Главные конкуренты коров на мусорных пастбищах-свалках – конечно, собаки. Их в Индии множество – и они, в основном, вегетарианцы. В самом деле: где взять мяса в вегетарианской стране? Ловить разве крыс (которых здесь тоже не счесть) – но собаки индийских трущоб так ленивы, что охотничий промысел им, похоже, не по душе. Собирательство и спокойней, и проще – вот собаки и роются, вместе с коровами, в мусорных кучах.
Но это днём; по ночам же, сбиваясь в немалые стаи и рыская по опустевшим улицам, собаки могут и потрепать припозднившегося пешехода. Так, в городе Богая, посреди тёплой ночи, и я атакован был стаей собак – которые уже начинали рычать и прикусывать меня за штаны. Палки под рукой не оказалось – и я, отмахиваясь рюкзаком от рычащих собак, помню, нервно подумал: «Да, неплохой финал для русского доктора: быть разорванным индийскими псами…»
На моё счастье, подоспел полицейский: бамбуковой палкой он разогнал заскуливших и бросившихся врассыпную собак.
– Спасибо, друг, – поблагодарил я своего спасителя. – А то эти собаки чуть меня не порвали…
– А это вовсе и не собаки, – улыбнулся молодой полицейский.
Подняв брови, я изобразил изумление.
– Это души плохих людей, – объяснил полицейский то, что в Индии ясно даже ребёнку.
– Ну, конечно: реинкарнация! – сообразил, наконец-то, и я.
– Да-да, – засмеялся мой новый знакомый. – На вас нападала чья-то тёмная карма.
И мне, как ни странно, сделалось сразу спокойнее. «Это с собаками – думал я, – страшно. А уж с тёмными душами мы как-нибудь разберёмся…»
Кого ещё много в старых кварталах – особенно возле храмов или в кронах деревьев – так это обезьян. Деревья порой аж трясутся, как будто от сильного ветра, от налетевшей на крону, щебечущей, лающей и непрерывно дерущейся стаи каких-нибудь наглых макак. Обезьян, я заметил, индусы не любят – и это при здешнем-то благоговении ко всему живому – потому что, видно, уж очень достали их эти хитрые и вороватые бестии. Но наблюдать за обезьянами всегда интересно: во всех их ужимках, прыжках, играх и драках так ясно читается пародия на нашу с вами, такую смешную и бестолковую жизнь. Обезьяны враскачку перелетают с ветки на ветку, визжат и кусаются, ищут блох друг у друга, отнимают один у другого бананы, то злобно орут, обнажая клыки, то смачно чешут багровые омозолелые задницы…
Кроме коров, обезьян и собак, на улицах Индии можно встретить ещё много разных животных. То увидишь слона, который или идёт во главе оглушительно-шумной, танцующей свадьбы, или тащит громадную кучу хвороста – на которой, на самом верху, восседает мальчишка-погонщик. То заметишь стадо свиней, блаженно лежащих на берегу грязной лужи. То услышишь протяжную дудочку заклинателя змей – и сам, зачарованный древним бамбуковым звуком, подойдёшь ближе к плетёным корзинам, в которых шевелятся королевские кобры. Переливчато-тугие, по кругу текущие кольца их тел и ледяные глаза этих жутких рептилий поднимают в душе волну генного страха – того, от которого стыла и кровь твоих пращуров…
А мулы и лошади, что волокут и повозки с людьми, и множество всяческих грузов? А мангусты, которые так быстро мелькают по карнизам старого храма, что оставляют недоумение: действительно ли вон там скользнуло поджарое тельце мангуста – или это качнулась по камню тень ветки?
А птицы? Их тоже множество, и среди них замечаешь как птах, привычных для нас – воробьёв, галок, ласточек, – так и диковинных: например, попугаев. Когда, скажем, стайка цветных попугайчиков, щебеча, опускается на покрытую мусором землю – то птицы теряются среди ярких пакетов, бутылочных стёкол, обрывков бумаги и тряпок. Зато когда попугаи вдруг шумно взлетят, то мерещится: это сам пёстрый мусор ожил, превратившись в трепещущих, ярких и праздничных птиц.
А на окраине Ришикеша я видел дикого павлина. Там, где тропа уходила в джунгли, вдруг раскрылся шуршащий трясущийся веер, переливавшийся множеством ярких, с цветными разводами, глаз: словно некое многоочитое божество вдруг выглянуло из зелени леса! Но, пока я доставал фотоаппарат, волшебный веер сложился, превратился в охапку сухого гремящего хвороста – и павлин утащил свой диковинный хвост в непролазную чащу.
Я уж не буду описывать всякую мелкую живность – всех этих крыс и летучих мышей, полосатых бурундуков и горластых лягушек, ящериц и пауков – тех, что тоже во множестве бегают, прыгают, ползают даже в самых людных местах, превращая индийский город в какую-то неимоверную смесь из людей, насекомых, животных и птиц. То вдруг покажется: ты оказался в жарком, тесном и шумном аду, где миллионы существ обречены на бессмысленную, в конце-то концов, муку индивидуального существования, и где человеческий разум может желать одного: скорее оставить безумное это коловращение, выйти из тягостной цепи рождений – чтоб, наконец, отдохнуть в пустоте и покое нирваны.
А то померещится: наоборот, ты сейчас оказался в раю, где животные, люди и птицы живут в тесном единстве, в раю, где кипит и клубится горячее варево жизни…
Искусство
Поговорив о природе, пора вспомнить и об искусстве – то есть о том, что создано в Индии человеком. И вот тут надо сразу сказать: я не видел столь же естественных стран – то есть столь же простых, органично-непринуждённых во многих явлениях жизни и быта – но и не знаю стран столь же искусственных. Ибо в Индии, кажется, приукрашено всё, от ладоней и пяток индусских красавиц до разноцветных коров и собак в праздник холи. На всём, что ты видишь, лежит след и печать человеческого стремления сделать мир лучше, наряднее, чем он уже есть.
Самым неожиданным подтверждением этого является то, как в Индии оформляют и украшают навоз. Ведь кизяк – это главное здешнее топливо, и повсюду, от улиц Дели и до распоследней деревни, сохнут лепёшки, бруски и шары, вылепленные из навоза. Шатёр или конус, или «поленница» из кизяка – едва ли не главная деталь индийского пейзажа. Так вот, эти кизячные кучи, шатры, пирамиды всегда оформлены с ласкающей глаз гармоничностью. То из бурых лепёшек сухого дерьма выложен некий узор по зелёной траве, то по стенке кизячного холмика пущен забавный орнамент, то гирлянда цветов украшает то, что, на взгляд европейца, является лишь нечистотами. Но почти невозможно увидеть кизяк как таковой, не оформленный и не приукрашенный, не возведённый рукой человека в ранг некоего произведения искусства.
О том, как украшено всё остальное – хоть лица женщин, хоть кабины грузовиков, – мне уже приходилось писать. Отдельная тема – индийские храмы. Когда видишь росписи стен и особенно храмовые скульптуры – то, вместе с чувством диковинной экзотичности этих всех многоруких и многоголовых божеств, узнаёшь ещё нечто, до боли знакомое. Я долго не мог подобрать подходящего определения для всех этих нечеловечески-радостных лиц, их сияющих взглядов, торжественных поз – пока не нащупал то, что, как мне кажется, выражает холодноватый и чем-то пугающий пафос индийской храмовой скульптуры. Это всё религиозный соцреализм – правды жизни в котором не больше, чем в советском классическом соцреализме времён «Кавалера Золотой звезды» или «Кубанских казаков». Эти лица, которые радостно смотрят поверх тебя, вдаль, в никуда – они словно шествуют к некой неведомой цели, для достижения которой не только не нужен конкретный, живой человек – например, ты, смотрящий на эти скульптуры с оцепенелостью кролика, оказавшегося перед удавом, – но всякий живой человек является только помехой для «дивного нового мира», чьим символом служат прекрасные и бессердечные эти кумиры. Остро чувствуешь, что невозможно любить эти лица – как можно, скажем, сердечно любить лики наших икон, наших Казанских, Владимирских, Иверских Богородиц; потому что «соцреализм» – это мир, вычитающий человека.
Но оставим идеологию. Поговорим лучше о самом массовом виде искусства – кино. Здесь Индии тоже найдётся, чем нас удивить. Ближе к вечеру, когда остывает и зной, и суета дневной жизни, улицы индийских городов превращаются в площадки для кинопросмотров. Перед любым из кафе, где есть телевизор – а он есть везде, – собираются толпы людей, привлечённые очередным болливудским шедевром. (Для тех, кто, быть может, не знает: Болливуд – крупнейшая кинофабрика в мире, которая по количеству выпускаемых фильмов заткнула за пояс даже американский Голливуд.) Смотрят боевики или мелодрамы; и смотрят буквально с открытыми ртами, с таким вниманием, самозабвением и сочувствием к происходящему на экране, с каким могут смотреть кино только дети.
Нам-то с вами – взрослым, воспитанным всё-таки на классическом реализме, – смотреть эти фильмы почти невозможно. Это яркая и слащавая смесь танцев, выстрелов, музыки, драк, жеманных объятий и поцелуев, пронзительных взглядов – в общем, то, что мы привыкли считать дурным вкусом и китчем. А для индусов никакой это не китч – это сказка. И как «Махаб-харата» и «Рамаяна» – книги, составляющие Священное Писание, Библию Индии – представляют собой бесконечную вязь из волшебных историй, так и те фильмы, что в изобилии создаёт Болливуд, есть одна бесконечная сказка, есть то, что так сладко баюкает, тешит и радует душу индуса. Каждая из показанных на экране историй имеет хороший конец, добро всегда привлекательно, зло безобразно, после каждой из киноисторий просветлённые лица зрителей полны благодарного и счастливого изнеможения – в общем, влиянье искусства на массы здесь именно то, о каком можно только мечтать.
Но для того, чтобы так внимать киносказкам, чтобы с такой благодарностью пить этот сладкий сироп – надо, прежде всего, сохранить в душе изначально-наивное, детское отношение к миру. Надо быть чистым, доверчивым, добрым – как в детстве. Мы-то с вами уже постарели, мы больше не верим ни в добрую фею, ни в Деда Мороза – не верим, сказать откровенно, почти ни во что.
А вот индусы – они ещё верят. Они сохранили ту детскую силу наивности, которая и позволяет выдерживать всю неприглядную грубость реальности, позволяет им жить посреди нищеты, шума, мусора, смерти – жить так, словно этого падшего смертного мира вовсе и не существует…
Сегодня – подарок
О чём написать напоследок? Пожалуй, о радости. Её не хватает нам больше всего – и она же нужна, словно воздух. Без радости наша душа задыхается, сохнет, черствеет; безрадостный человек и безрадостное существование есть какая-то роковая беда и ошибка – недаром и христианство считает уныние смертным грехом.
Радость, можно сказать, это цель и критерий истинного существования. Двигаясь в направлении радости, мы всегда будем знать, что не сбились с пути. И, напротив, как ни умён может быть человек, какие высокие истины он нам ни излагай, и какие высокие принципы ни проповедуй – но если в его глазах вместо радости мы видим только скорбь и тоску, то едва ли такой вот носитель уныния пододвинет нас к истинной жизни.
Так вот Индия – это великая фабрика радости. Где ещё вы найдёте такое количество радостных, светлых – да ещё и охотно делящихся с вами радостью – лиц? Где ещё, несмотря на всю бедность и скученность жизни, на весь этот мусор и чад – так отчётливо, сильно звучит нота радости жизни?
И пусть не смущает нас то, что радости – то есть, по сути, движению к Богу – нас может учить страна вовсе не христианская. Бог создал всё – в том числе и индусов, и Индию – и Ему лучше знать, для чего Он так сделал. Пути Его, как известно, неисповедимы, и «много горниц в доме Отца…»
А ведь радость, она как любовь: неожиданна и необъяснима. Её ни купить, ни продать, ни добиться каким-либо внешним усилием: она или есть – или нет, и её появление (как и её угасание) есть великая тайна, которую может постичь уж никак не рассудок – одно только сердце.
Бывало, ко мне, молодому, подскочит цыганка (пришелица из Индии!), ухватит за руку и начнёт бормотать те слова, от которых так сладко заноет душа… Помните, как гадают цыганки? «Всё тебе расскажу, сокол мой: и что было, и что ещё будет, и куда путь-дорога лежит, и на чём успокоится сердце…» Это вот самое – «успокоится сердце» – было важнее всего; но гаданье, насколько я помню, до самого главного пункта никогда почему-то не доходило.
Я и поехал-то в Индию, может, затем, чтоб дослушать цыганскую речь – причём на их, цыган, исторической родине – чтоб разведать, узнать, допытаться: а на чём, в самом деле, могло б успокоиться сердце?
За этим же самым, я думаю, в Индию едет и молодая Европа. Отрадно и радостно видеть, что тысячи немцев, французов, испанцев и русских едут в грязную, шумную, нищую эту страну, едут навстречу инфекциям и неудобствам, едут туда, где всё или плавится от невыносимой жары, или закрыто сплошною завесой тропических ливней. Молодёжь ищет рая, мечтает душою почувствовать то состояние детской безгрешности и незапятнанной радости жизни, которое нами почти совершенно утеряно – но зато обретается и сохраняется в Индии.
Живя в Индии, ощущаешь себя, как у нас после бани: чистым внутри и снаружи, спокойным, смягчённым и полным доброжелания к людям и к миру. Чувствуешь, как из души выметается всяческий сор, а то место, которое освободилось – заполняется чистою радостью жизни. Эта радость, она происходит как будто ни от чего: она просто есть, просто дышит в тебе – а ты просто живёшь, сознавая (или не сознавая), что тихая и беспричинная радость и есть воздух сердца, есть то, без чего оно будет всегда беспокойным, больным и несчастным.
Так будем же радостны – благо, у нас есть индийский пример. Будем жить так, как написано на одном из плакатов, который увидел я в Дели: «Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок!» Будем жить нынешним – неповторимым и радостным! – днём, ибо только лишь жизнь в настоящем и есть настоящая жизнь.
