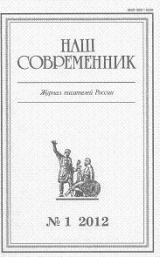
Текст книги "В стране радости"
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Народ-дитя
И вот здесь мы выходим на важную тему. Мысль «народ как дитя» объясняет многое из того, что доводится видеть, узнать и почувствовать в Индии.
Ну вот, например, простота и открытость в отправлении естественных надобностей – то, что шокирует иностранцев, – но ведь именно так и трёхлетние дети справляют нужду, не смущаясь чьим-либо присутствием. Присесть на краю тротуара, спустив порты или приподняв подол сари, для жителя Индии так же естественно, как для нас прилюдно высморкаться или откашляться. Поначалу оно, верно, как-то смущает – но к естественному привыкаешь быстро («что естественно, то не безобразно» – говорили, помнится, в дни моей юности), и скоро ты сам уж почти готов впасть вместе с индусами в детство и не слишком стыдиться того, к чему понуждает тебя естество.
Или возьмём культ животных, столь органичный для Индии. Кажется, тут нет ни одного представителя фауны, который не был бы обожествлён. Тут и обезьяний бог Хануман, и слоноголовый Ганеши, и Мать-корова, и священный бык Нанди – и ещё множество прочих животных-богов. Но ведь такое одушевленье животных, олицетворение их как раз характерно для детского восприятия мира. Да, в детстве мы верим в лису Патрикеевну и медведя Топтыгина – но, повзрослев, нам уже трудновато представить, как это лягушка превратилась в царевну, или как золотая рыбка повелевала морскою стихией. А вот индусы, судя по благоговейному их отношению к живности всякого рода, по обилию изображений животных-богов на стенах храмов, по тем подношениям, что паломники возлагают животным-кумирам, – в конце концов, судя по вере в переселение душ – индусы и по сей день убеждены в том, что животных и человека мало что, в сущности, разделяет. Во всяком случае, та граница, которую западное сознание полагает меж человеческим и животным мирами – в индуистском мировоззрении гораздо более призрачна и легко преодолима.
Не забуду удивительной сцены исповеди в Золотом храме Варанаси. К статуе коровы, исполненной в натуральную величину, выстроилась длинная очередь исповедников – очень напоминающая очередь к исповеди в православном храме накануне большого праздника. И так же смиренно и сокрушённо, как перед священником, индусы поочерёдно склонялись, но не под епитрахиль батюшки, как у нас – а к коровьему уху. Все они, с выраженьем глубокой серьёзности в лицах – выраженьем, вообще-то не свойственным жизнерадостным и весёлым индусам, – выговаривали корове то, что у них наболело и накопилось на сердце. Причём в этой исповеди корове не было ничего игрового – но была безусловная, детская вера в могущество сил, заключённых в животных, и в то, что животные могут влиять на судьбу человека.
А разве не детской является тяга индусов к ярким цветам, украшениям, блёсткам – тяга к тому, чтоб украсить весь мир, как большую игрушку? Уж на что, казалось бы, взрослая вещь – грузовик с длинномерным прицепом; но любой трейлер в Индии разукрашен, как новогодняя ёлка. Всюду, где только возможно, от лобового стекла до выхлопной трубы, развешаны блёстки и зеркальца, разноцветные кисти и бахрома, и всё – каждый дюйм! – раскрашено яркими красками. Тут и узоры, и пятна кислотных расцветок, и огнедышащие драконы, и кобры, раздувшие свои капюшоны, и слоны, восседающие на крысах (это традиционное изображение бога Ганеши), вепри и рыбы (воплощения бога Вишну) – в общем, каждый из грузовиков своей живописною яркостью напоминает индуистский храм на колёсах.
Но Индия молода ещё и в самом прямом, демографическом смысле: средний возраст её жителей – тридцать лет. И здесь – это очень заметно – царит настоящий культ школ и школьников. Как я выше писал, что главные в Индии люди – это нищие-садху, которые своей жизнью и обликом воплощают высокие идеалы народа, так же точно можно сказать, что главные в Индии – дети. Когда вдоль по улице бежит шумная стайка школьников в униформе брусничного цвета, то остро чувствуешь: у Индии есть живое, здоровое будущее. Глаза детей очень смышлёны, улыбки белы, выражения лиц полны жизни и радости; и всё это, взятое вместе, заставляет тебя восхититься неувядающей юностью Индии – и одновременно испытать боль стыда за озлобленновялых, безрадостных русских детей.
Но не будем о грустном. Лучше укажем ещё на одну из «детских» черт Индии – на целомудрие. Даже трудно взять в толк, почему, при свободно-раскованном отношении к физиологии, скажем, пищеварения – область половых отношений скрыта завесой стыдливости и умолчания. Ни во взглядах, ни в разговорах, ни в жестах, ни в рекламе услуг и товаров – нигде здесь не встретить двусмысленно-пошлой игривости, которая наполняет собой европейскую жизнь. Индия в целом так целомудренна – что именно этим она заставляет нас вспомнить о рае, о том времени, когда пресловутое яблоко ещё не было сорвано, и его сладкий сок ещё не потёк по щекам Евы.
Вот в этом-то и заключается та заветная мысль, к которой я двигаюсь в этой главе. Индусы, насколько возможно понять и почувствовать – это народ, живущий ещё как бы до грехопадения, это народ-дитя. Поразительным образом Индия, страна, может быть, самой древней цивилизации на планете – сохранила себя в состоянии райского детства и девства, она не вкусила запретного плода, она сохранила себя той же самой, какою Господь и создал эту дивную землю и этих красивых людей. Не случайно же и в индийской мифологии – сложнейшей, подробнейшей и изобильной на всякого рода сюжеты – нет мифа о грехопадении, мифа, центрального для духовной культуры Европы.
Может быть, именно в этом – разгадка того, почему христианство не укрепилось в Индии, стране незлобиво-смиренной и мягкой, вполне христианской по духу? Христос пришёл спасать падших, то есть нас с вами, наследников эллинско-иудейского мира: Его проповедь и призыв, Его, в конце концов, крестная смерть посвящены тем, кто утратил связь с Богом и изгнан из рая. А индусы и так душою и телом живут ещё как бы в раю.
В Индии соблазнительно-сладкое яблоко ещё только зреет на ветке, и змей-искуситель, похоже, ещё поджидает индийских Адама и Еву. Потому, может быть, нас и тянет так в эту страну: мы хотим ещё на земле и при жизни ощутить дуновение рая, почувствовать то, какой была жизнь в незапамятно-давнее время – точнее, ещё до начала времён – и какой она сможет стать вновь, если мы, с Божьей помощью, вырвемся из паутины греха.
Смерть
Где зашла речь о грехе – там неизбежны и мысли о смерти. А смерть в Индии, её наиболее впечатляющий образ – это костры Варанаси.
Горят они круглые сутки, и можно их видеть хоть утром, хоть днём; но в памяти остаётся именно ночная кремация. Маникарника-гхат – это главное место сожжения умерших, это, можно сказать, космодром, откуда души усопших возносятся вместе с огнём на индийское небо. Костры горят здесь на трёх уровнях, трёх площадках над Гангой – иногда их пылает пять-шесть одновременно – и главные звуки, которые слышишь здесь в сумерках: это треск прогорающих дров и скелетов – и музыка от соседних причалов, где празднуют ежевечернее поклонение Ганге.
Очень важно не торопиться, оставить дурную манеру глотать впечатления, подавить в себе суетливое любопытство туриста – а просто присесть чуть в сторонке от жарких костров и посидеть часа два или три, размышляя как бы ни о чём: то есть привести себя в состояние созерцательного покоя. И осознанье того, что здесь, вместе с дровами, горят и людские тела, уже не будет тебя очень сильно смущать – как оно не смущает индусов.
Обряд кремации сдержанно-прост – в этом и заключается строгая красота ритуала. Вот чьи-то ноги, торчащие из охваченных пламенем дров, отгорели, упали – и служитель спокойно, при помощи двух длинных палок, перебросил обугленные стопы в центр пылающего костра. Точно так мы, бывало, сидя у своих походных костров, перебрасывали в сердцевину огня отгоревшие сучья. Мёртвое тело здесь, в Индии, не вызывает ни благоговейного ужаса, ни особой брезгливости: прах, он и есть прах, и к нему надлежит относиться спокойно и просто.
Как проходит кремация? Если человек умирает в священном городе Варанаси – а это самая большая удача, какая может выпасть на долю индуса, – то в сопровождении сыновей и племянников (женщин к обряду не допускают) носилки с телом относят на Маникарника-гхат. Здесь покойный совершает последнее омовение: носилки с усопшим притапливают в Ганге, и воды священной реки в последний раз касаются тела, которое скоро исчезнет. Затем носилки ставят на место просушки – сохнуть покойный будет около часа, – а родственники тем временем направляются в полицейский участок, чтобы зафиксировать там факт смерти.
Старший сын бреет голову наголо и облачается в белые траурные одежды. Впечатляет табурет уличного цирюльника, рядом с которым лежит копна чёрных волос: это сколько же, думаешь, осиротевших индусов успело сегодня обриться…
Пока всё это происходит, служители складывают костёр. Дрова для погребальных костров – главный, наряду с шёлком, объект купли-продажи в Варанаси. Цена и качество дров, разумеется, разные – мало кто может позволить себе быть сожжённым на чистом сандале – да и количество дров, необходимое для полноценной кремации, тоже различно. Индусы, как правило, сухощавы и малорослы, и полутора центнеров дров хватает, что называется, за глаза. «А сколько пойдёт на меня?» – спросил я служителя, хлопотавшего у поленницы дров. Меня деловито окинули взглядом и просто сказали: «Двести двадцать кило». Заметив, как меня передёрнуло от такой точности и простоты, индус дружелюбно добавил: «Это немного. Иному из вас и четырёхсот будет мало».
По всему берегу Ганги в окрестностях Маникарника-гхат высятся дровяные поленницы, и стоят у причалов лодки, гружённые топливом. Их разгружают неторопливо, аккуратно складывая из дров очередную поленницу – словно каждый из грузчиков осознаёт, что он не просто работает, а мостит путь в вечность для тех, кто скоро уляжется вот на эти сухие, как раз в человеческий рост, кривоватые жерди.
Когда покойник обсох – его, вместе с носилками, возлагают на дровяной пьедестал. Зажигать костёр – дело старшего сына. С длинным пуком тростниковой соломы он идёт к жертвеннику бога Шивы, огонь на котором непрерывно горит уже не одну тысячу лет. Солома вспыхивает от углей жертвенника, и сын поспешает обратно: надо успеть, пока полыхает соломенный факел. Вот он суёт факел под жерди костра – и, под действием тяги и тёплого ветра, что веет от Ганги, пламя вмиг разливается по сухим дровам. Пелены, которыми покрыт покойный, вспыхивают и взлетают – несколько огненных хлопьев уносятся в звёздное небо – и сухощавое тёмное тело остаётся совсем обнажённым. То, как невозмутимо, спокойно усопший лежит в центре гудящего и беснующегося костра, напоминает сеанс медитации. Ничто мирское – никакие гримасы и пляски обманчивой Майи – уже неспособно нарушить глубокий покой мертвеца…
Этот покой – эманация смерти – влияет на всех, наблюдающих процедуру сожжения. В самом деле: смешно суетиться и думать о суетном, видя финал своих суетных дел и легко представляя, как сам, в скором будущем, будешь лежать на таком вот костре. А огонь горит жарко, напористо: искры вихрем возносятся к звёздам, и кажется, что перед тобой не костёр, а река, чей гудящий напор равнодушно уносит всё бренное к небу – туда, где земной прах размельчается в звёздную пыль и становится частью безбрежной, клубящейся вечности.
Неизбежно приходят и мысли: а какой похоронный обряд предпочтительней, ближе тебе самому? Наш ли, привычный, с могилкой, крестом и оградой, с кладбищенской пышной сиренью, с обилием всех подробностей православного отпевания и погребения – или такой, очищающе-огненный, после которого остаётся лишь горсть невесомого пепла? Пока я здесь, в Индии, пока я дышу её воздухом и говорю на её языке – конечно, мне ближе костры Варанаси. Всё же есть разница: быть закопанным в землю, к червям и корням и пройти там, во тьме, смрадный путь разложения – или быстро и чисто сгореть на огне. Итог всё равно будет тем же – ведь гниение, по химической сути, есть то же горение, только очень неспешное.
Да и то сказать: могилы и всё, что связано с ними – нужны живым, а не мёртвым. Это нам, тем, кто пока ещё живы, нужно особое место для встречи с усопшим и с собственной памятью, нужно, чтоб было куда приходить на родительскую субботу и где выпить чарку за упокой родных душ. Но, с другой стороны, как много горького можно увидеть на кладбище, где одни могилы пребывают в мерзости запустения – а другие раздражают своею помпезностью. Даже перед лицом смерти мы часто не можем преодолеть того, что нас разделяет – имущественного, скажем, неравенства, даже на кладбище мы порой продолжаем цепляться за жалкие призраки власти, богатства и земного благополучия. Огонь в этом смысле – большой демократ. От любого индуса, будь то последний бродяга или знаменитый на весь мир Махатма Ганди, не остаётся, в материальном смысле, вообще ничего – что, конечно же, очень достойно.
Пока мы так рассуждали, наш костёр почти догорел. Старший сын – бритый наголо, в белых одеждах – палками выкатывает из костра ещё не сгоревшую кость – может быть, челюсть или позвонок? – и на тех же двух палках несёт её к Ганге. С коротким шипением кость падает в воду – это и означает, что обряд кремации завершён. Пепел служители сдвинут поближе к воде, очищая кострище для нового тела, и этот серый, мерцающий углями пепел будет здесь до утра остывать. Сбрасывать в Гангу его пока рано, потому что ещё предстоит извлечь из него слитки золота и серебра – остатки тех украшений, что были на мёртвом. Маникарника-гхат – это самый прибыльный золотой и серебряный прииск Индии, то место, где круглые сутки идёт добыча драгоценных металлов.
Но Бог с ним, с золотом – дело не в нём. Дело в том чувстве покоя, которое наполняет здесь, кажется, всё: и сами костры, и их отражения в Ганге, и лодки, с которых туристы глазеют на древний обряд, и всю эту тёплую ночь, полную звуков, огней и задумчивой неги – в том чувстве покоя, которое наполняет любого, кто долго сидел у костров Варанаси. О чём говорит душе этот покой? О том, что всё совершается правильно – здесь жгут усопших, неподалёку поют и танцуют, жизнь и смерть катят своё колесо – и то исчезновение мёртвого тела, которое только что, с лёгкостью фокуса, совершилось на наших глазах – оно ничего не меняет в порядке вещей. Да, смерть меняет лишь форму, но вовсе не суть, не бессмертное содержание нашего с вами существования.
Мысль не нова – все великие мудрецы, от Платона до Шопенгауэра, не уставали её повторять – но здесь, в этой тёплой ночи, озарённой кострами, её понимаешь не просто рассудком, а всем существом. Смерти, в сущности, нет – вот о чём говорят нам костры Варанаси.
Ганга
Да, смерти нет. А есть эта тёплая ночь, полная звуков и запахов жизни, и есть Ганга под тусклою, дынного цвета луной – Ганга, чьи молчаливые и мутноватые воды движутся так, как течёт само время: незаметно и неудержимо.
Ганга – главный объект поклонения в Индии. Если, скажем, христианин, отвечая в кратчайшей форме на вопрос о существе своей веры, должен сказать: «Я верю в Троицу: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа» – то правоверный индус, отвечая на тот же вопрос, может ответить: «Я верю в Гангу…»
Исток Ганги, как принято думать, на небе: тот Млечный путь, что мы видим в безлунные ясные ночи – это и есть начало великой реки. Мифология здесь не так уж и далека от реальности: Ганга действительно начинается с заоблачных высей – колыбелью ей служат глетчеры Гималаев – и, сливаясь из нескольких мощных потоков, в районе священного города Харидвар, она из неистово-горной, бурлящей реки превращается в сонную, невозмутимо-спокойную реку равнины. Можно сказать, что Ганга обнимает собою все формы жизни реки, меняет обличья и собственный нрав – чтобы, в конце концов, обретая всё больше покоя и силы, войти в океан как в нирвану.
То, что Ганга – главнейшее в Индии божество, доказать очень просто: каждый вечер, во всех городах по её берегам, совершаются пуджи, то есть красочные, с танцами и песнопениями, жертвоприношения реке рек. Эти ежевечерние службы так и называются: Ганга-аарти, или подношения Ганге. Жертвы здесь, разумеется, мирные – Индия крови не любит – это цветы, молоко и огни. Вся пуджа длится около часа и собирает множество зрителей: люди теснятся на каменных древних ступенях, ведущих к воде, смотрят из окон ближайших домов и наблюдают ритуальное действие с лодок. Жрецов, совершающих богослужение, может быть несколько – в Варанаси, к примеру, их семь – но в целом сценарий всех пудж одинаков. С молитвами в Гангу бросают цветы и льют молоко, затем под ритмичную дробь барабанов распеваются гимны, а затем начинаются танцы с огнями. В светильниках, видимо, нефть – потому что их огонь ал, а дым густо-чёрен – и когда видишь, как семь полыхающих, огненно-дымных колёс синхронно вращаются под барабанную дробь – словно катятся сквозь разомлевшую ночь – то кажется: именно эти колёса и движут индусскую жизнь, сообщают ей тот монотонно-размеренный ход, который и позволяет стране оставаться на месте (то есть быть верной себе) вот уже многие тысячи лет…
Танец огней, в самом деле, чарует. Но ещё больше трогает тот момент, когда по лоснящейся, масляно-чёрной поверхности Ганги начинают плыть сотни цветочных плотиков-плошек, в сердцевине каждого из которых трепещет свечной огонёк – тогда река начинает напоминать тот Млечный путь, земным продолжением которого и является Ганга.
О Ганге по-настоящему надо писать не главу, а огромную книгу – которая тоже, конечно, не сможет ни исчерпать, ни обнять то огромное, сложное и невыразимо-глубокое, что называется Матерью-Гангой. Вся символика и философия Индии, всё, чем живёт её сложный до изощрённости дух – так ли, иначе, но связано с Гангой, питается водами этой священной реки и, в свою очередь, пополняет собой её, Ганги, жизнь.
Европейцев, конечно, шокирует то, что индусам кажется совершенно естественным: когда, на восходе солнца, индусы чистят зубы, моются и стирают бельё, и пьют пригоршнями воду, и пускают плыть детские трупы, и высыпают мусор, и испражняются – в ту же самую реку. Ганга принимает всё, она всё очищает и всех примиряет, для неё нет разницы между чистым и грязным – она словно солнце, которое светит и грешным, и праведным. Не ощутив духа этой священной реки, не проникшись его очищающей, всех равняющей силой, невозможно понять жизнь Индии – жизнь, которая при несказанной её пестроте и запутанной сложности проявляет такую терпимость ко всем воплощениям и существам.
Откуда, куда течёт Ганга? Она перетекает из бесконечности в бесконечность – и ей совершенно нет разницы, что, зачем и куда нести в толще медленных вод, какие тела перекатывать по иловатому дну; её, Гангу, мало интересуют те отражения и миражи, что жизнь оставляет на глади лоснящихся вод. Её не разбудит ни людской гвалт на её берегах, ни даже огни, песнопения и барабаны красочных пудж. У вод Ганги, как и у жизни индуса, нет цели – и в этой бесцельности скрыта и сила её, и её обречённость…
Всё-таки странно, что индуизм не вырос до мировой религии. Являясь едва ли не самой древней религиозной системой на свете, включая в себя более миллиарда верующих – индуизм, тем не менее, ограничен пределами полуострова Индостан и одним государством.
Самое первое впечатление (а оно-то как раз и бывает почти всегда верным) – это то, что в Индии религиозны практически все. Или, иными словами: здесь нельзя жить, не являясь приверженцем индуизма – настолько эта религия растворена в самом воздухе Индии и наполняет собою индийскую жизнь.
Считается, что в индуизме 16 тысяч богов. Разумеется, это весьма приблизительно – приходилось читать и слышать другие цифры – но, в любом случае, пантеон индуизма населен очень густо. Среднему человеку невозможно даже просто запомнить имена всех божеств – не говоря уже о том, чтобы познакомиться с ними поближе. Конечно, среди этих тысяч богов есть главные – такие, как Вишну и Шива – а есть и второстепенные; но само изобилие разных божеств создает совершенно особенный тип и настрой индуистского мировоззрения. Боги всюду, куда ни ступи или ни посмотри; всё, что нас окружает – священно; весь мир пронизан незримыми силами, связями и отношениями; реальность – лишь тонкая плёнка, лежащая на таинственной сути вещей и явлений; от нас в этом мире – всерьёз ничто не зависит… Вот беглый абрис, приблизительный контур индуистского отношения к миру. Порой кажется, что индусы себя ощущают живущими более среди богов, нежели среди людей: согласитесь, большое отличие от европейцев. Мы-то больше живём как-то сами собой, замкнувшись в реальности, как в скорлупе, и гул трансцендентного почти не доходит до наших ушей, оглушённых дурной суетой имманентного мира.
Что прежде всего видишь в Индии, выглянув ли из окна вагона, летящего меж деревень и полей, или высунув голову из конуры моторикши, или просто-напросто остановившись посреди улицы и поведя вокруг взглядом? Увидишь, скорее всего, индуистский храм с треугольным флагом над крышей и со свастикой, древним солярным знаком, чернеющей всюду, где только возможно. Храмы эти бывают не просто маленькими, а крошечными – словно строили их лилипуты – но перед любым, даже самым маленьким храмом обыкновенно увидишь цветы и плошку с молоком – то, чем индусы ублажают своих богов. Ещё больше, чем храмов, в Индии шивалингамов – символических изображений фаллоса бога Шивы – которые здесь буквально всюду: на набережных и тротуарах, в нишах на стенах домов, в магазинных витринах и вдоль обочин дорог. Форма лингамов одна – они все короткие, толстые, как молодой гриб-боровик, а размеры различны: от гигантских многометровых сооружений до совсем крошечных, размером с напёрсток – но к которым относятся, тем не менее, тоже с почтением. По сути, каждый из многочисленных шивалингамов – своего рода храм. Перед ним молятся, на него возлагают цветы, его просят о помощи – то есть делают всё, что положено в храме.
Мне довелось видеть и самый главный лингам, расположенный в Золотом храме Варанаси. Прежде чем войти в этот храм, пришлось вытерпеть такую процедуру досмотра, какой не случалось ни в одном аэропорту – да ещё заполнить подробнейшую анкету. Но эта. морока с лихвой окупилась открывшимся зрелищем. Вся территория храма была битком набита людьми – большей частью индусами – а туда, где располагался лингам, было вообще не пробиться. Кое-как протолкавшись в людской потной каше, я всё же увидел то, что всех так привлекало. На полу, в центре каменной ниши, до краёв засыпанной цветами, возвышался скромных размеров лингам – он был с небольшое ведро – а через ограду к нему тянулись сотни смуглых женских рук. Дотянуться до вожделенного фаллоса было непросто – мешали соседки, и цепи ограды, и общая атмосфера горячечного возбуждения, что царила в орущей, толкавшейся, жаркой толпе – но когда, наконец, кому-либо из женщин удавалось коснуться лингама – толпу оглашал пронзительный крик! Это был даже не крик, а стон; секунд пять или шесть продолжалось это символическое соитие женщины с Шивой – и за эти секунды начинала истошно орать вся толпа: зрелище ритуального совокупления приводило в исступление сразу многие сотни людей…
При посещении индуистских храмов, при созерцании статуй и изображений всех этих тысяч божеств, приходит странное чувство. Начинает казаться, что, раз богов в Индии так неописуемо много – то религия, как таковая, почти исчезает. Так, к примеру, разгул демократии – то есть разделение единой энергии власти на миллионы людей – означает, по сути, безвластие; так тайна, принадлежащая многим, перестаёт быть тайной.
Нечто подобное происходит и с многобожием: сакральная, тайная сила чудесного дробится по тысячам разнообразных божеств и оттого неизбежно слабеет. Поэтому от многобожия один шаг до атеизма. Показательна в этом смысле и дружба коммунистического Советского Союза с тогдашнею Индией: между многобожием индуизма и атеизмом не было психологически резкой и неодолимой границы.
