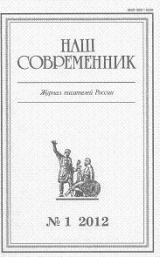
Текст книги "В стране радости"
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
В стране радости
Звуки
Индия оглушает. И, прежде всего, в прямом смысле: своим уличным шумом. Кажется, звуков здесь больше, чем может вынести ухо и вместить оглушённый, растерянный мозг. Первым желанием для непривычного человека является детски-наивное: закрыть уши руками.
Клубящийся уличный шум состоит из гудков моторикш и рёва автомобильных моторов, пронзительных криков лоточников и зазывал у дверей магазинов, скрипа колёсных повозок, звона бубенчиков, бряцающих всюду, где только их можно подвесить, из барабанной раскатистой дроби и гула фанфар, которые сопровождают любое из многочисленных уличных шествий – да ещё, в довершенье всего, из шипенья и взрывов петард, которые словно пытаются возвести этот шум, эту всю какофонию уличных звуков в какую-то уж совсем запредельную, степень. Кажется, мозг вот-вот взорвётся, и ты, как контуженный, поплывёшь на волне комариного тонкого звона – предвестника полной уже глухоты…
Но, как ни оглушает, как ни потрясает обилие уличных звуков в какой-нибудь жаркий, расплавленный полдень – но главное звуковое своё представление Индия приберегает под вечер. Как только смеркается, и назойливый, сам себя оглушающий уличный шум понемногу слабеет – по улицам начинают двигаться свадебные процессии. Бумага, конечно, не передаст того, что хотел бы выразить автор – в этом месте ему надо бы заорать и затопать ногами, загрохотать половником о пустую кастрюлю или сделать ещё что-либо дикое – и то он едва передал бы десятую долю свадебного звукового безумия. Всё то, что написано выше об уличном шуме, надо удвоить, а то и утроить – вот это и будет индийская свадьба.
Впереди всей процессии быстро идёт фейерверкер, через каждые два десятка шагов выставляющий очередную ракету-шутиху, искры и взрывы которой рвут в клочья небо. За фейерверкером тяжкою поступью движется свадебный слон. От его грузного топота содрогается грунт, и щекотная дрожь пробирает тебя от подошв до коленей; когда же, случается, искра от фейерверка попадает слону на хобот, то страдающий рёв – как гудок паровоза! – сотрясает густую, дрожащую от напряжения ночь…
За слоном, на колёсах, чихает бензином и катится дизель-электростанция: без неё не горели бы сотни ламп и гирлянд, озаряющих шествие. Она тоже стара и громоздка, как слон; вот только, если искра попадёт вдруг в лоснящийся, масляный дизель, то раздастся не рёв – оглушительный взрыв. Но это, похоже, никого здесь не пугает: судьбе – то есть карме – индусы доверяют больше, чем технике безопасности.
За дизелем пёстро колышется вся остальная, гудящая, танцующая и барабанящая свадебная процессия. Интересно, что парни танцуют отдельно от девушек, в своей собственной, шумно-подвижной и возбуждённой, толпе. Группа же девушек, что идёт следом, много сдержанней, тише; но девушки, уступая в развязности танца, берут ослепительной яркостью бус и браслетов, расцветками шёлковых сари – звучность ярких цветов перекрывает, как кажется, и завывание дудок, и дробь барабанов.
В процессии видишь ещё много кого. И женщин, на чьих головах установлены как бы огромные люстры; и деток, несущих гирлянды цветов; и накрытых цветными попонами мулов, которые медленным шагом везут карету с молодожёнами. Жених и невеста кукольно неподвижны, нарядны – и чем-то похожи на изваяния индуистских богов. Им сейчас и поклоняются, словно богам; ведь это в их честь так гудит и грохочет вся свадьба…
Нет, странное всё-таки дело – описывать звуки. Но без этого Индию не показать; даже глядя на фотографии, чувствуешь, как этим плоским картинкам не хватает ещё одного измерения – звука. Зато, вспомнив звук, вспоминаешь и всё остальное; вот ещё разве что запахи столь же уверенно отворяют закрытые двери памяти.
Какие же звуки Индии вспоминаются чаще всего? Ну вот, скажем, звуки утренней стирки на Ганге; я впервые услышал их в Варанаси, древнейшем из древних городов человечества. Солнце только что встало, гладь реки из матово-серебристой сделалась розовой – и по всему берегу, как орудийная канонада, захлопали звонко-тугие удары белья о прибрежные камни. Сначала слушаешь их как-то вполуха, рассеянно; но, когда вспоминаешь, что этим утренним звукам – многие тысячи лет, начинаешь внимать им с глубоким волнением. Кажется, ты скользишь сейчас в лодке внутри огромного барабана длиной в несколько километров, чьим резонатором служит сама гладь священной реки – барабана, без сочно-отрывистой дроби которого не сможет проснуться и расцвести новый день.
А визги и крики детей, что играют в бейсбол? Или то, как по-птичьи щебечут неугомонные обезьяны в шевелящейся от их прыжков кроне дерева? А то, как буддийский монах поёт мантры под деревом Бодхи – и эти рычащие, львиные звуки так утробны и низки, что по коже твоей пробегает озноб?
Вспоминать и описывать звуки Индии можно долго, но нельзя не вспомнить о главном из них – человеческой речи. То, что наши с индусами языки произошли от единого индоарийского корня, знаешь не только из книг – это чувствуешь, слушая, как звучит хинди. Сам напевный строй речи, живая её мелодичность, её мягкость и вместе с тем как бы упругость так близки и понятны славянскому уху, что не остаётся сомнений: мы с индусами братья по языку. Случалось, ещё не вполне пробудившись от сна, слышать сквозь тонкие стены дешёвых гостиниц оживлённые разговоры где-нибудь в холле или в коридоре – и всегда мне мерещилось, что говорят по-русски: казалось, стоит лишь вслушаться, и начнёшь понимать, о чём идёт речь. Согласитесь, что так обмануться можно, лишь слушая родственно-близкий язык: речь китайца или эскимоса не показалась бы близкой даже спросонья.
Тот же самый эффект возникал, когда, лёжа на полке вагона, ты слушал, как женщины распевают религиозные гимны – протяжностью и мелодичностью очень напоминавшие наши народные песни. Они пелись самозабвенно и долго, на широком и лёгком дыхании – в котором ты чувствовал радостно-детскую душу индусов. Но о детской душе скажем ниже – это, может быть, главное из индийских открытий – а пока не забудем сказать и о том, из чего звук рождается: о тишине.
Тишина Индии тоже необыкновенна – в том числе, своей редкостью в такой, в целом, шумной стране. Тишина, например, Оленьего парка в Сар-натхе – когда, после шума и сутолоки Варанаси, вдруг попадаешь в пространство покоя: здесь слышны даже взмахи крыльев порхающих бабочек, а, скажем, шорох бегущего бурундука оглушает, как шум накатившего поезда… Тишина здесь густа, глубока и почти осязаема: воспринимаешь её не как простое отсутствие звуков – а как, напротив, наполненность мира каким-то особым, вещественно-плотным покоем.
Или тишина Ришикеша – городка на Ганге, ставшего мировою столицею йоги. На рассвете, когда ещё не проснулись нищие-садху, лежащие здесь вдоль дорог в одеялах, как серые свёртки, когда спят обезьяны, коровы, собаки – когда спит даже Ганга, по глади которой не видно кругов от кормящейся рыбы, – тишину нарушает лишь ветер, стекающий с гор, да шорох песка по пустынному пляжу. И здесь, наблюдая, как из ночной тишины зарождается новый, наполненный звуками день, вдруг понимаешь, что Индия может так оглушительно-громко шуметь – потому что в душе у индусов есть очень глубокий запас тишины. И внешний, такой карнавально-эффектный и взбалмошный шум нарушает индийскую жизнь только лишь на поверхности – так волна, что бежит по поверхности моря, ничуть не тревожит морской глубины.
Стоит это понять и принять, как меняется и отношение к здешнему шуму. С удивлением вдруг замечаешь, что звуки Индии больше не раздражают – а, напротив, начинают тебя успокаивать, чуть ли не усыплять. Ибо это звучит сама жизнь, сам её пёстрый, клубящийся, мутный – но, в итоге, всегда благотворный, всегда исцеляющий душу, поток…
Запахи
А ещё Индия – страна запахов. С них она и начинается для любого приезжего – с первого вдоха в Делийском аэропорту. Сладковатый, живой запах кизячного дыма так удивителен для мегаполиса – скорей, это запах родных для меня южнорусских степей – что, когда выходишь из здания аэропорта, то кажется, что вот-вот, вместо гула и тасованья машин, встретишь что-то родное, из детства: может быть, костерок у реки или вздохи, мычанье и топот бредущего с выпаса стада.
Вообще, запахи Индии так перемешаны, так сплетены, что почти невозможно вычленить что-то отдельное. Так, в запахе улицы всегда перемешана вонь нечистот – и аромат курящихся благовоний, перечно-резкие ноты пряностей перемежаются запахами цветов, а в дыме кизячных печурок вдруг слышится запах слегка подгоревшей лепёшки-чапати.
Конечно, всегда есть места, где какие-то запахи преобладают. Если зайти в один из многочисленных храмов – там, скорее всего, будет пахнуть цветами и молоком. То и другое – подношения божествам, чьи изваяния глядят на вошедших бесстрастно-пустыми глазами. Но молочные плошки, расставленные там и сям, делают эти кумирни уютно-домашними: индуистские боги кажутся кем-то вроде котят, чьё равнодушие можно порой растопить чашкой сладкого буйволиного молока.
В торговых рядах пахнет тем, чем торгуют. В обувных лавках – кожей, в магазинах, торгующих тканями – нафталином, в аптеках – душистыми травами, в дешёвых цирюльнях – одеколоном и потом. Но, какой запах ни взять – он настолько живой, полнокровный и сильный, что порой начинает казаться: первичны здесь именно запахи. То есть всё, что ты видишь и всё, что ты можешь пощупать – есть как бы сгущения и воплощения запахов, есть осадок неуловимо-летучего, тонкого мира, который мы с вами привыкли считать чем-то второстепенным, побочным – но который, возможно, на самом-то деле является первоисточником и колыбелью всего. Запах летуч, эфемерен, бесплотен и вездесущ – то есть он обладает качествами души. Не потому ли и возникают такие созвучия между иными из запахов – и настроением, памятью, чувством?
Видимо, Индия больше, чем прочие страны, обращена к невещественному – в том числе к запахам. Она ими живет, ими дышит, она им радуется – не потому ли индусы с непостижимою нам простотою относятся и к болезням, и к смерти? Может быть, тонкий мир им понятнее, ближе – чем мир вещественный, грубо-телесный? Ведь нам, чересчур «уплотнившимся», застят взгляд иллюзии материального мира, и нам с вами трудно представить, как можно жить по-иному.
То, как запахи в Индии сосуществуют, как они живут рядом, не подавляя, а дополняя друг друга – наводит на мысли о том, как и люди умеют здесь уживаться друг с другом. При такой тесноте, при такой пестроте населения, какую встречаешь здесь всюду, от столицы до дальней деревни – поразительно, как всё же терпимо и миролюбиво живут в Индии люди. Конечно, проблем хватает и здесь; тамилы и сикхские экстремисты, мусульмане Кашмира, да и просто-напросто криминальные элементы, которые неизбежны в любой стране и в любом обществе – всё это в Индии есть. Но в целом, при всём многолюдье, Индия производит впечатление на редкость спокойной и дружелюбной страны. Как вдоль шумной индийской улицы всегда течёт сложный поток разных запахов, в котором смешано всё, от зловония до благовония – так и индийская жизнь сплетена из множества разных обычаев, взглядов и вер, не просто сосуществующих, но ещё и способных друг друга дополнить и оттенить.
Так что здешние запахи – точнее сказать, их живая и сложная смесь – есть своего рода портрет Индии. По-настоящему эту страну нужно именно чуять, узнать не глазами, не слухом, не мыслью – а именно нюхом, тем способом, что нам достался от предков-охотников и который настолько уместен в пахучей и пряной, живой, удивительной Индии.
Мусор
Для многих Индия – земля грязи и мусора; «Индия и нечистоты» едва ли не самая частая тема рассказов у тех, кто вернулся из этой страны.
Да что там европейцы или американцы, привыкшие жить совершенно стерильною, на наш взгляд, жизнью; даже мы, русские – а уж нас-то чистюлями трудно назвать, – и то, по индийским меркам, знать не знаем, что такое грязь, теснота, нищета. Пишу это без всякой иронии: мы с вами и впрямь живём в очень чистой, богатой, комфортной и тихой стране; кто не верит – пусть съездит в Индию.
Итак, нечистоты и мусор. Этого добра в Индии действительно много; скажем, по улице старого города трудно пройти, не наступив на чьё-либо дерьмо – собачье, коровье или человеческое. Свалки – на каждом углу; и на этих свалках, как на лужайках, пасутся коровы.
Есть ещё городская деталь, непривычная нашему глазу: сухие русла рек, которые тоже завалены мусором разного рода. В сухой сезон они превращаются в пыльные свалки; зато в сезон дождей вода смывает весь мусор в Гангу, а уж этот великий индийский дренаж уносит его в океан.
Порой кажется: Индия тонет в мусоре и вот-вот утонет совсем. Отбросы, которые остаются от жизни людей и животных – а те и другие плодятся с огромною скоростью – грозят превратить города в безобразные свалки, кишащие крысами. Но всё дело в том, что отношение к грязи и к мусору в Индии совершенно особое. Вот, например, придорожная лужа: она состоит даже не из воды, а из какой-то густой и лоснящейся жижи. Камешек, брошенный в эту лужу, издаёт не всплеск, а утробное чавканье. Думаешь: это же рай для микробиологов и паразитологов: как много открытий ожидает их здесь! А теперь посмотрите, как смуглый индус, в замызганной набедренной повязке, присел, чтобы справить на берегу этой лужи нужду, затем – обязательно левой рукою! – подмылся, а затем стал намыливать своё тощее тело, черпая всё ту же густую и жирную воду.
Или вот тоже весьма характерное зрелище: посмотрите, как молодая женщина в ярко-оранжевом сари месит руками навоз – чтоб налепить из него кизячных лепёшек и затем разложить их сушиться на солнце. Её пальцы – в кольцах, запястья – в сверкающих звонких браслетах; красавице и в голову не придёт, что она занята чем-то грязным и недостойным. Навоз для неё всего-навсего часть того мира, в котором она живёт и частью которого ощущает саму же себя.
Для индусов, по сути-то дела, нет грязи и мусора как таковых, а есть лишь различные формы и превращенья предметов материального мира – которых, в свою очередь, тоже нет, а есть только некий мираж, некий сон божества, в котором нам – снящимся Браме! – лишь снится, что нас окружают какие-то вещи или явления.
В каком-то смысле можно сказать, что мусор и грязь в Индию завезли англичане. Колонизаторы постарались привить на туземную почву тот образ мыслей и то восприятие мира, при котором есть «я», человек – и есть внешний мир, мне враждебный и противоположный. И вот когда я отношусь к миру как потребитель – то есть беру из него то, что мне кажется нужным, и выбрасываю негодное – тогда и появляется мусор, как нечто лишнее, то, что не нужно ни мне, ни окружающему миру. Но для индуса, чья цель – растворение в мире и перетекание в него, нет резкой границы меж ним – и вот этой, к примеру, собакой, или этим вот деревом, что укрывает его своей тенью, и вот этой рекой, что так сильно и сонно течёт к океану. «Тат твам аси», «то-есть ты сам» – вот главный принцип и стержень индусского мировоззрения.
И какой же тогда может бы мусор – то есть нечто негодное, лишнее – когда в мире лишнего нет ничего, когда всё во всё перетекает и превращается; или, что то же самое, в мире нет вообще ничего, кроме зыбкой игры миражей, кроме сонных бессмысленных грёз, что приходят к тому, кто не просто спит сам, но кто, спящий – лишь снится кому-то?
В этом смысле мусора в Индии нет вообще; или уж тогда всё, что мы видим вокруг – все эти дома, города, поезда, горы, реки – всё это тоже есть мусор, есть нечто, лишённое цели и смысла.
Рассуждения эти могли бы казаться надуманной заумью – если б они не подтверждались на каждом шагу. Вот я сижу в Харидваре, на каменном гхате-причале над Гангой, и смотрю, как индусы нескончаемой чередою подходят, чтоб поклониться священной реке. У большинства в руках или цветы, или плошка с густым молоком, которое тонкой струйкой льют в быструю реку – или миска, в которой мерцает свечной огонёк и которую надо пустить по воде. А вон у той босой девушки в розовом сари, кроме обычных даров, ещё и большая пластиковая сумка. Интересно, думаешь, что же эта красавица принесла в дар священной реке? Девушка гибко склоняется, шепчет молитву, омывает водою чело – и высыпает содержимое сумки в Гангу. Не веришь глазам: по воде, закрутившись, поплыли какие-то корки, очистки, подмётки, пакеты, бинты и прокладки – поплыл, словом, мусор! По нашим понятиям, это почти то же самое, что опрокинуть помойное ведро на алтарь; но то, что было б кощунством для нас, совершенно в порядке вещей для индусов – не знающих мусора.
Цвета
Вот ещё испытание для европейца: избыточность, яркость, назойливость цвета. Недаром павлин является государственным символом Индии: кажется, и вся страна раскрашена, как малярною кистью, именно сочным павлиньим хвостом.
Как с непривычки от шума улицы иногда хочется закрыть уши, от зловония – зажать ноздри, так и от яркости цвета, что бьёт по глазам, хочется порою зажмуриться. Кажется, именно Индия – место рождения красок. Словно весь их набор, весь их солнечный спектр возник именно здесь – и отсюда, неизбежно при этом тускнея и угасая, краски начали распространяться по миру.
Так что где, как не здесь, любоваться цветами, их чистой, беспримесно-яркою сутью – где, как не в Индии, вспомнить, какими должны быть живые и настоящие краски? Зайдёшь, например, в лавку тканей, где стены от пола до потолка завешаны ярким узорочьем шёлка – и в глазах зарябит от орнаментов и немыслимых красочных переливов. Узоры закружатся и поплывут в оглушённых такой пестротою глазах – по кругу, быстрей и быстрей, заскользят изумрудные, красные, жёлтые змейки…
И это тебе ещё даже не начинали показывать ткани! Подожди-подожди: если только задержишься, если чуть пошатнёшься – а головокружение здесь неизбежно – то тебе тут же скажут: «Sit down, sir!» – и укажут рукой на ковёр. Опустишься на податливый ворс – и пара служителей без промедленья начнёт демонстрацию. Откуда-то из-за спины, жестом фокусников они будут выхватывать штуки свёрнутых тканей – и широким, торжественным взмахом раскатывать их пред тобой. За всю свою жизнь я припомню немного столь же волнующих, странных минут: когда от тебя в нафталиновый сумрак начинают лоснящимся веером – или павлиньим хвостом! – течь волнистые реки живых, переливчатых, нежных цветов, когда ты сидишь в эпицентре бесшумного, но ослепительно-яркого взрыва. Как там восклицал Гоголь: дайте мне, дескать, другое перо?! – но, боюсь, нет таких перьев, что смогли б передать это буйство, безумие, яркость цветов, это чувство того, что ты вдруг оказался сидящим на крыле тропической бабочки, которая вот-вот взлетит, унося тебя в совершенно другие – с иными законами цвета – пространства…
Такою же дверью в иное порой представляются женщины в сари. Ибо индийская женщина – это, прежде всего, вспышка цвета; всё остальное – лицо, формы тела, движения рук или ног – поначалу почти незаметны на фоне того, как горят эти краски на шёлке, как льются и дышат все эти яркие складки – и как, цветовыми рефлексами, озарены лица тех, кто находится рядом. Близ женщины, скажем, в оранжевом сари на лицах лежит апельсиновый отблеск, рядом с красавицей в изумрудных одеждах лица приобретают цвет бледной листвы, а огненно-красное сари заставляет всех как бы зардеться невольною краской стыда.
Что ни возьмись вспоминать и описывать – лавку ли зеленщика, или ювелирный, сияющий золотом и самоцветами магазин, или то, как раскрашены в Индии грузовики и автобусы, – будет всегда ощущаться нехватка эпитетов: наш обиходный язык слишком сдержан и строг в отношении цвета. Но, с другой стороны, цветовой настрой русской души чем-то близок индийской палитре. Вспомните наши матрёшки и самовары, цветные платки и цветастые юбки, жостовские подносы или огненные шкатулки из Палеха: нельзя не отметить созвучия русских цветов и цветов Индостана.
А уж храмовая архитектура – точней сказать, храмовая раскраска далёкой Индии – имеет в России своего полномочного представителя: кажется, что Василий Блаженный в Москве раскрашен индийскими малярами. Эта гроздь разноцветных затейливых луковок, венчающих храм, кажется сорванной в Индии и пересаженной в наши снега – где она чудом выжила и расцвела, да ещё стала одним из русских национальных символов. Недаром же Бунин, писатель по преимуществу именно цветового восприятия мира, в «Чистом понедельнике» выстроил именно эту – поразительно верную! – цветовую дугу: «Москва, Астрахань, Персия, Индия…»
Но главный красочный взрыв, апофеоз цвета в Индии – конечно же, праздник «холи». Его ещё называют «карнавал красок»; и не забудем, что он происходит в стране, заурядные будни которой уже представляются нам неким праздником цвета.
В главный день праздника Индию охватывает цветовое безумие. Все, от мала и до велика, начинают посыпать друг друга красными, синими, жёлтыми и зелёными порошками – и обрызгивать крашеною водой. Остаться некрашеным в этот день невозможно; а уж если ты иностранец, то будь уверен: скоро ты будешь похож на ходячую выставку красок. Да что люди – праздник холи не забывает и о животных! По улицам носятся синие, красные и оранжевые собаки, а на боках невозмутимо бредущих коров нарисованы разноцветные карты неведомых, сказочных стран – хоть, казалось бы, что может быть сказочней самой Индии, да ещё в праздник холи?
Индусам словно мало того, что их мир и так буйно-красочен, празднично ярок; нет, им хочется сделать его ещё ярче и праздничней – сделать так, чтобы серые будни никогда уже не возвратились. Как дети раскрашивают бледные контурные картинки – размашисто, щедро, не соблюдая порою ни меры, ни правдоподобия, ни границ – так и индусы, похоже, хотят превратить тот контур мира, что нам дан изначально, в насыщенно-яркую, красочную картину.
