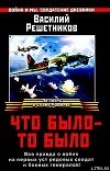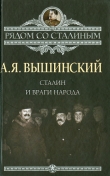Текст книги "Василий, сын вождя"
Автор книги: Андрей Сухомлинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Николай Петрович позднее вспоминал, что, как только он предстал перед Василием, тот позвонил какому-то генералу: "Вы генерал-лейтенант трепло, – рявкнул он, – я с вами разговаривал два часа назад, спрашивал, где Старостин, а вы сказали, что не знаете, хотя вам докладывали с вокзала, что его отправили в Краснодар. – И добавил: – Вы должны знать, что в нашей семье обид не прощают. Это говорит вам генерал-лейтенант Сталин!" И бросил трубку.
Разговаривал он с генерал-лейтенантом Сергеем Огальцовым, заместителем министра госбезопасности.
Администратор команды ВВС Охотников, как правило, сам звонил спортивным работникам и хорошо поставленным голосом говорил: "С вами сейчас будет говорить товарищ Сталин!" У снявшего трубку душа уходила в пятки. И хотя ни для кого из руководителей футбола не было секретом, какой именно товарищ Сталин звонит, все же любой человек после вводной Охотникова на миг терял дар речи – а вдруг на этот раз сам Иосиф Виссарионович?!
Телефонный разговор в таких случаях был короток, любая заявка ВВС в каждом виде спорта удовлетворялась. Так было и в случае с Кудрявцевым, который тогда оказался в составе военных летчиков четвертым вратарем. Лишним голкипером тренеры Гайоз и Джуаншер Джеджелава посчитали Акимова, которому, по просьбе генерала Сталина, тут же дали разрешение на переход в "Торпедо", где он доиграл чемпионат, начавшийся для него в ВВС.
Футбольная команда ВВС за шесть сезонов ни разу в чемпионатах СССР не вошла в призовую тройку (лучшее достижение – 4-е место в 1950 году), не добивалась успеха и в кубковых турнирах (лишь в 51-м году достигла полуфинала, где проиграла армейцам, сделавшим тогда дубль, а судьбу поединка решил единственный гол, забитый защитником летчиков Евгением Роговым в свои ворота).
"Вся беда" футбольной команды ВВС была в том, что, в отличие от других видов спорта, в которых преуспели летчики, в неё из настоящих "звезд", за исключением Боброва, никто не пришел. Василий Сталин не сумел прельстить никого из ведущих футболистов ЦСКА, "Динамо" или "Спартака".
Кстати, о Боброве. Его партнерами в ВВС оказались игроки, которые не шли ни в какое сравнение с теми, кто был с ним в "команде лейтенантов" в ЦДКА. Не случайно годы, проведенные Бобровым в футбольной команде ВВС, мягко говоря, не самые лучшие в его славной биографии.
В девяти матчах чемпионата 52-го года легендарный нападающий, непревзойденный бомбардир всего два раза поразил ворота соперников. На исходе зимы он был играющим тренером команды ВВС, ставшей чемпионом и завоевавшей Кубок СССР по хоккею с шайбой. Потом генерал Сталин определил его на такую же должность в футбольной команде ВВС. Это совпало с приглашением Боброва в сборную СССР для дебюта на Олимпийских играх, где Мастер творил чудеса, особенно в первом поединке с югославской командой.
Василий Иосифович боготворил Боброва, даже мечтал, чтобы сын (ныне известный театральный режиссер), если станет спортсменом, был бы похож на Боброва.
Однажды после хоккейного матча "Локомотив" – ВВС генерал Сталин снял с руки часы и вручил их Боброву. В тот день железнодорожники, безнадежные аутсайдеры чемпионата, дали бой летчикам. Выручил Бобров, забросивший четыре шайбы, последняя из них под занавес матча позволила команде ВВС победить – 5:4.
Но и на Боброва Василий порой обрушивал упреки, грубые, унизительные, несправедливые. Видимо, поэтому Всеволод не любил вспоминать время, проведенное под началом Сталина. И не только потому, что тот мог ни за что ни про что направить его на гауптвахту. Был случай похлеще.
В футбольном чемпионате СССР 1951 года Бобров участвовал всего в десяти матчах – на него рассердился командующий ВВС МВО и отправил служить в Серпухов без права играть в футбол. Но потом, видимо сообразив, что переборщил, вернул, позволив Мастеру играть лишь в московских соревнованиях – в чемпионате и кубковом розыгрыше. Кстати, тот турнир в 1951 году на Кубок Москвы закончился победой футболистов ВВС в составе с Бобровым.
А весной следующего года Василий Сталин словно забыл, как он отлучал Боброва от большого футбола, и как ни в чем не бывало предложил включить его в заявку ВВС для участия в чемпионате и Кубке СССР. Более того, Всеволода назначили играющим тренером, не считаясь с тем, что ему предстояло выступать за сборную СССР, что влекло длительную отлучку.
В спорте Василий был капризным. Дошло до того, что он сам определял, кому, например, из футболистов выходить на поле в ближайшем матче. Сам проводил установки на игры. Однажды генерал удивился, что не видно на собрании команды Евгения Бабича, которому он уготовил место в основном составе на ближайший матч. Кто-то из генеральской свиты робко напомнил Хозяину, как летчики называли между собой своего покровителя (ему нравилось такое прозвище), что он сам накануне отправил футболиста за какую-то провинность в дальний гарнизон. Генерал молча выслушал сообщение и тут же приказал вернуть Бабича, ещё не успевшего добраться до места назначения...
Некоторые задания игрокам ВВС были просто абсурдны. Спортсмены в таких случаях, слушая командующего, молча смотрели в потолок. Генерал мог дать указание волейболистам начать принципиальную встречу без лидера, Константина Ревы ("пусть это будет тактической ловушкой"), а выпустить его лишь в третьей партии и выиграть матч с сухим счетом! Или даст команду хоккеистам "запутать соперников", а для этого следовало защитнику Виноградову играть впереди, а Боброву и Бабичу – сзади.
О взаимоотношениях Сталина со спортсменами и тренерами написано немало воспоминаний, но, к сожалению, почти все они необъективны. Ибо авторы сделали упор на перепады в настроении сына вождя, капризы, самоуправство. Так, Галина Хинчук, считающая себя знатоком истории легкой атлетики, уверяет, что в 51-м году Василий Сталин, оказавшись главный судьей традиционной эстафеты на приз "Вечерней Москвы" по Садовому кольцу, мешал бегунам – на мотоцикле носился в непосредственной близости от спортсменов, пугая их, а затем, обдав выхлопными газами лидирующую группу, мчался вперед, чтобы опять возвратиться и повторить свои рискованные маневры. А когда эстафета закончилась и оказалось, что команда ВВС не смогла победить, то главный судья якобы в гневе отменил результаты соревнования.
На самом деле Василий Иосифович в тот день приехал на эстафету в легковой машине, не выходил из неё в ожидании старта, а потом ехал на приличном удалении от бегунов. Результат динамовцев, занявших первое место, генерал действительно аннулировал, а эстафету "переиграл", но не потому, что не смогли победить легкоатлеты ВВС, а потому, что бегуны "Динамо" грубо нарушили правила проведения эстафеты. От наметанных глаз генерала не ускользнуло, как на одном из этапов руководитель динамовской команды Иван Степанченков, офицер госбезопасности, посчитал, что ему все дозволено, и, вклинившись на своем мотоцикле в кавалькаду работников ОРУД (ныне – ГИБДД), обслуживающих соревнования, какое-то время вел динамовца.
Говоря о "спортивных делах" Василия Иосифовича Сталина, нельзя не вспомнить историю с гибелью хоккейной команды ВВС. 7 января 1950 года на посадке в свердловском аэропорту Кольцово разбился "дуглас", погибли 19 человек, включая 11 игроков.
Машину вел опытный пилот, участник финской и Великой Отечественной войн, майор Иван Зотов.
Из-за плохой погоды Зотов повел самолет не на Челябинск, имевший захудалый аэродром, а на Свердловск, расположенный на правительственной трассе, которую он прекрасно знал. "Дуглас" пришлось сажать в полном "молоке". В Кольцове, как говорят, решили помочь самолету и включили на полную мощность прожекторы вдоль посадочной полосы. Видимо, хоккеисты, увидев в сплошной снежной мгле отраженный от иллюминаторов свет, решили, что за бортом пожар. Предполагается, что началась паника, все бросились в хвост машины. Она из-за этого потеряла центровку, Зотов уже не мог выправить самолет. И "дуглас" потерпел катастрофу.
В действительности причина катастрофы была совсем в другом пресловутая НОРП – неудовлетворительная организация руководства полетами.
Дело в том, что рядом с аэродромом Кольцово под Свердловском находится другой аэродром – Арамиль. Из-за халатности наземных служб приводные радиостанции на аэродроме Кольцово и на аэродроме Арамиль работали практически на одних и тех же частотах. Штурман самолета ВВС МВО "попал" на частоты приводных радиостанций Арамиля, а садился в Кольцове, Зотов направлял самолет по курсу и глисаде, которые ему давали радиостанции Арамиля, и шел по их командам. В авиации это называется "золотая стрелка".
Выполняй четко указания с земли, приземлишься как положено. Даже при видимости "0". Но если строишь маршрут по коробочке для захода на посадку по частотам одной радиостанции, а садишься на другой аэродром, то будет то, то случилось с самолетом Зотова: с 30 метров он рухнул на землю за пределами аэродрома, потеряв пространственную ориентировку.
Все это отражено в акте расследования.
В авиакатастрофе погибли хоккеисты ВВС X. Мелупс, А. Исаев, Р. Шульманис, В. Воронин, Б. Бочарников, И. Новиков, Ю. Тарасов, З. Зикмунд, Ю. Жибуртович, Ю. Моисеев, врач В. Галкин.
Погиб и экипаж – 6 человек.
Часто обвиняют в этом ЧП Василия: мол, он распорядился лететь при такой погоде. Но из акта расследования летного происшествия, хранящегося в Центральном архиве МО, усматривается, что вины его нет.
Первая информация о случившемся на свердловском aэpoдpoмe появилась лишь в 1969 году, спустя 19 лет после трагедии.
А тогда Василий Сталин распорядился довольно быстро скомплектовать новый состав для матча в Челябинске. Срочно призвали игроков, уже выступавших за ВВС, но попавших под увольнение в связи с приходом легионеров. Привлекли молодых хоккеистов. Наконец, выручило то, что на "дугласе" не полетели четыре игрока, без которых было бы невозможно возвращение хоккеистов ВВС в лидеры отечественного хоккея.
Виноградова от полета спасла дисквалификация за грубую игру в проигранном летчиками матче с армейцами. Шувалову Хозяин приказал не летать в Челябинск – зачем бередить души челябинских болельщиков, недовольных уходом Виктора в ВВС? Бабичу дали разрешение на переход в ВВС, когда "дуглас" уже взял курс на Урал. А холостой Бобров, будучи накануне полета в гостях, проспал и опоздал к отлету самолета.
Поскольку о гибели 11 хоккеистов ВВС ничего не сообщалось, то об игре, по существу, заново созданной команды в газетах стали сообщать очень своеобразно – "летчики забросили шайбу", "летчики пропустили шайбу". Иначе читатели, поклонники хоккея, стали бы недоумевать: почему перестали забивать голы Новиков, Зикмунд, Юрий Тарасов?
Упоминались лишь изредка фамилии оставшихся в живых – Боброва, Бабича, Виноградова, Шувалова, называли, тоже редко, и новичков – Архипова, Тихонова. Иначе говоря, у болельщиков создавали впечатление, что в команде ВВС наряду с Бобровым, Бабичем сражается молодняк. А потому о какой авиакатастрофе может идти речь? Нет места слухам – в команде ВВС все в строю!
Мелькала порой фамилия Жибуртовича. Но никогда при этом не указывали его имя или инициалы. С 1939 года в команде 1-го Московского Краснознаменного военного авиационно-технического училища играл Юрий Жибуртович, а теперь на льду был его брат Павел. А Юрий погиб под Свердловском с десятью другими хоккеистами ВВС...
Любили ли на трибунах выступавших за ВВС? Летчики, конечно, "болели" за своих, хотя симпатизировали спортсменам ЦДКА-ЦДСА, особенно фронтовики. Страшный свист поднимался, когда в форме, цветами напоминавшей стяг советских Военно-воздушных сил, появлялись спортсмены, ещё недавно выступавшие за другие команды. Молва быстро окрестила подопечных Василия Сталина "матрасниками", флаг ВВС ассоциировался с матрацами, и футболки авиаторов были цветов авиационного флага, желто-голубыми.
Бобров до перехода в ВВС был общим кумиром, но стоило ему надеть футболку или хоккейную рубашку ВВС, как зрители скандировали "Бобра с поля!" буквально на каждом футбольном или хоккейном матче.
Однажды, спустя несколько дней после матча с участием летчиков, Бобров выкатился на лед с ромбиком "М" на форме – играла сборная Москвы. Трибуны моментально ответили другим скандированием – звучало теперь "Боб-ров, Боб-ров!", то и дело слышалось: "Сева, давай!" А через короткое время играли летчики. На Боброве, естественно, была экипировка спортсмена ВВС. Трибуны опять взорвались: "Бобра с поля!"
Евгений Евтушенко однажды до того увлекся сочинением мемуаров, что придумал, как в свое время большая группа болельщиков, среди которых преобладали инвалиды войны, в том числе лишенные ног и передвигавшиеся на досках, закрепленных на подшипниках, возмущенные переманиванием спортсменов в ВВС, решила устроить Василию Сталину своеобразный суд Линча. Разъяренная толпа якобы окружила генерала, покидавшего стадион "Динамо". Кто-то из-за спины генерала, по утверждению Евтушенко, сбил у него фуражку, и началось...
Инвалиды, если верить Евтушенко, расправлялись с Василием Иосифовичем не только за сманивание спортсменов, но и за тоталитарный режим отца.
Надо же такое придумать – инвалиды обрушились на генерала Сталина! Такой расправы не только никогда не было, её просто не могло быть! Что бы ни писали о Иосифе Сталине после XX съезда КПСС, а особенно в последние годы, никуда не деться от того, каким было отношение к вождю сразу после войны – он казался Богом, казался мудрым, справедливым, он был идолом. Ни у кого в мыслях не было атаковать цесаревича, что означало бы поднять руку на Бога, любимого вождя.
Правда, был один случай, когда футболистам ВВС пришлось играть в ненормальной обстановке. Под улюлюканье толпы, одурманенной алкогольными парами. На стадионе "Метрострой" в 1951 году проводился финал Кубка Москвы. Летчики встречались с командой "Крылья Советов", представлявшей 23-й авиационный завод. На игру её болельщики прибыли на нескольких заводских автобусах, успев по дороге на стадион неплохо "заправиться".
Поначалу крики, оскорбления адресовались арбитру, а потом нетрезвые зрители переключились на игроков ВВС, в них полетели комья грязи, мелкие камни, а потом и песок в глаза футболистов, пробегавших у кромки поля или вводивших мяч из аута. Неимоверную выдержку пришлось проявить Боброву и его товарищам, чтобы довести матч до победного конца и завоевать право участвовать в розыгрыше Кубка СССР.
Сколько лет прошло, но болельщики со стажем не перестают удивляться той неприязни, которая порой выпадала на долю спортсменов ВВС. В чем была их вина? В желании перейти в команды, где их ждали нормальные условия для совершенствования мастерства.
Позже на допросах в КГБ тема заботы генерала о спортсменах была одной из главных. Он не отвергал обвинения, исправно давал показания. Однажды Василий Иосифович заявил, что он перетянул нападающих хоккейного "Спартака" "способом, развращавшим спортсменов". Так и записано в протоколе допроса.
Ныне подобные признания Василия Сталина нельзя читать без улыбки. У многих прославленных чемпионов, надевших офицерские погоны, вся служба в армии (СКА и ЦСКА) оказывалась сведенной к дежурству (не более двух раз в месяц) по армейскому клубу. Если говорить о знании уставов, строевой подготовке, караульной службе, обо всем том, чем должен владеть офицер, то все это равно нулю.
Ничего не изменилось в стране после суда над генералом Сталиным, если говорить о создании особых материальных условий для спортсменов.
Василия Иосифовича обвиняли в увлечении спортивным строительством, в расходовании государственных средств на это. Но генерал, даже обладая грозной фамилией, ничего не смог бы сделать для большого спорта, для спортсменов, не получай он соответствующую поддержку.
Ассигнования на сооружение бассейна дважды выделял военный министр Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Согласие на возведение спортивного центра в Чапаевском переулке было получено от секретаря ЦК ВКП(б), первого секретаря МК и МГК ВКП(б), председателя исполкома Моссовета Георгия Попова, который разрешил передать под строительную площадку территорию парка культуры и отдыха Ленинградского района.
Для каркаса первого в нашей стране катка с искусственным льдом потребовался демонтированный в Германии ангар, и на помощь генералу Сталину пришел генерал-полковник Василий Белокосков, заместитель военного министра по строительству и расквартированию войск. Но никто из этих руководителей по делу Василия Сталина не привлекался даже в качестве свидетелей.
В 1951 году Советский Союз включился в олимпийское движение. Никто из наших спортивных руководителей и в мыслях тогда не держал, что Москва когда-нибудь пригласит Олимпийские игры, а потому понадобятся прекрасные арены. А вот Василий Сталин об этом задумывался. "А какой необходимостью вызывалось сооружение бассейна?" – спросили его на допросе. Вот его ответ: "Приступая к строительству бассейна, я исходил из того, что в Москве нет ни одного 50-метрового бассейна для проведения в будущем олимпийских соревнований". "Явно неубедительное объяснение", – посчитал следователь... и не поленился записать эти свои слова в протокол.
Как памятник Василию Сталину стоят в Москве сегодня спортивные арены ЦСКА: бассейн, гимнастический зал, теннисные корты. Ветераны между собой называют эти объекты примерно так: "бассейн имени Василия Сталина", "спортзал имени сына Сталина" и т.д.
Глава 8
Перед закатом
Светлана Аллилуева в книге "Двадцать писем к другу" уделила своему брату несколько страниц. Читая их, невольно думаешь, что отношения у них, видимо, не сложились. Во всяком случае, в главе о Василии она, скажем так, искажает факты. Чего стоят её утверждения о том, что "Василий, будучи алкоголиком, сам с 1947 года уже не мог летать". Повторюсь – 26 сентября 1950 года ему была присвоена квалификация "Военный летчик 1-го класса". И он освоил МиГ-15 – реактивный самолет-истребитель.
Рассказывая о злополучном параде, С.И. Аллилуева сообщает: "1 мая 1952 г. при посадки разбилось несколько самолетов". В действительности разбился один самолет, и то не по вине Василия. "Генерал авиации А.А. Новиков попал в тюрьму с легкой руки Василия", – сообщает далее Светлана. Во-первых, не генерал, а Главный маршал авиации, а, во-вторых, из уголовного дела А.А. Новикова и А.И. Шахурина видно, что Василий к их аресту и привлечению к уголовной ответственности никакого отношения не имел. Он даже по этому делу не допрашивался.
С. Аллилуева пишет, что после парада 1 мая 1952 года с должности командующего ВВС МВО его снял отец. Это не так. С должности его никто не снимал, и он никаких приказов не нарушал. Их просто не было. Архивные документы свидетельствуют что 13 августа 1952 года Василий зачислен в распоряжение главкома ВВС, а 5 сентября 1952 года – слушателем Военной академии Генерального штаба. (Кто-то из авторов написал, "без экзаменов". Успокойтесь – в эту академию экзамены сдавать не надо.) О снятии с должности никаких отметок в документах нет.
ЧП с самолетом на параде было 1 мая 1952 года, а освободили Василия 13 августа 1952 года, т.е. через 3,5 месяца. С должности так не снимают. Приказ о зачислении сначала в распоряжение главкома ВВС, а затем о поступлении в академию подписан министром обороны (тогда эта должность называлась "Военный Министр СССР". Им был А.М. Василевский), Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин здесь ни при чем, по крайней мере согласно архивным документам.
Однако любители развить эту версию не перевелись. Так бывший корреспондент "Сталинского сокола", а ныне известный писатель А.З.Анфиногенов в романе "Таран" повествует о "позорище первомайского воздушного парада, когда флагман бомбардировщиков генерал Сталин просчитался с выходом на Москву и в районе Садового кольца истребители едва не врезались в его колонну...". В действительности же никакой "его колонны" не было. В.И.Сталин, пилотируя флагманский бомбардировщик Ту-4, вывел его и эскортирующих истребителей (по два слева и справа) в сложнейших метеорологических условиях на Красную площадь в точно установленное время и на заданной высоте.
Э.А. Хруцкий в опубликованной 29 августа 1999 года в "Московском комсомольце" статье "Тайны квартиры Василия Сталина, в которой я живу", пишет: "1 мая 1952 года последовал запрет командования: не использовать авиацию во время парада из-за погодных условий. Но генерал Сталин приказал поднять две эскадрильи. В результате разбился самолет. Разгневанный папаша снял его с должности и направил учиться в Академию Генштаба".
В действительности же в параде участвовало не две эскадрильи, а три авиационные дивизии, не было запрета на полеты, не было и снятия с должности.
Рассказывает генерал-лейтенант авиации в отставке Герой Советского Союза С.Ф. Долгушин – непосредственный участник того парада:
"Мою дивизию фронтовых бомбардировщиков Ил-28 в тот раз готовили к параду на аэродроме Чкаловский, под Москвой. Еще в начале апреля я "перегнал" из Калинина с нашего основного аэродрома Мигалово на Чкаловский 216 самолетов (3 полка по 72 самолета в каждом) и начал их готовить на парад.
Дело это для нас было знакомое, и ничего особенного в этом не было. К тому времени я лично таких парадов провел уже штук 10. В день 1 мая 1952 года мои самолеты должны были в 10 часов 45 минут пройти контрольный командный пункт в Куркино. Это в районе Химок. А потом по установленному курсу, строем, ориентируясь по спецдымам и проблескам спецпрожекторов лететь вдоль Ленинградского шоссе, Ленинградского проспекта и улицы Горького под облаками на Красную площадь. Последняя "отсечка" Исторический музей. На крыше гостиницы "Москва" был установлен командный пункт. Там должен был находиться заместитель Василия по боевой подготовке полковник Е. Горбатюк, а в Куркино на ЗКП1 – начальник отдела боевой подготовки полковник Б. Морозов. Они вели контроль полетов, вводили коррективы. Имели радиосвязь с нами. Командующим воздушным парадом, по приказу министра обороны, был В. Сталин. Всем парадом руководил командующий войсками МВО П.А. Артемьев. Принимал парад Л.А. Говоров. В параде было задействовано еще, по-моему, 50 самолетов дальней авиации Ту-4. Это мощный 4-моторный бомбардировщик, скопированный с американского Б-29. Может нести бомбовую нагрузку – 5 тонн, экипаж 11 человек.
Дивизия Ту-4 шла первой. Ее вел Василий Сталин вместе с командиром соединения полковником Лукиным. Они взлетали со своего аэродрома в Раменском. Потом шла моя дивизия фронтовых бомбардировщиков – 210 "основных" самолетов и 6 запасных. Я летел первым. А после нас шла Кубинская дивизия – истребители МиГ-15. Их было 150. Вел эту дивизию в тот раз командир одного из полков Алексей Микоян.
Заранее разрабатывалась плановая таблица, устанавливался строй "троек" и "девяток", рассчитывался пролет по времени, порядок стыковки колонн в воздухе, временной разрыв между колоннами и т.д.
Надо сказать, что работать здесь нужно очень точно. Время в воздухе измеряется секундами. Летит такая армада. Скорость для Ту-4 была установлена 450 км/час, для моих Ил-28 – 700 км/час, для МиГ-15
800 км/час. Разрыв между колоннами – 600 м. На карте-двухкилометровке каждый летчик имел свой маршрут и минутные "отсечки". Короче, все это у нас было отлажено до автоматизма. Все летчики – опытные, дисциплинированные асы. Шутить здесь нельзя.
1 мая 1952 года я встал в 5 утра, чтобы проверить готовность дивизии к параду. Погода была плохая. Особенно меня смущала низкая облачность. Видимость была сносной. Я распорядился связаться с гидрометеослужбой. Они дали облачность над Красной площадью 600 м. Это значит, что нижняя кромка облаков над землей находится на высоте 600 м. На параде летают, естественно, под облаками, а не над ними. Обычно мы перепроверяем сведения гражданской метеослужбы. Метеослужба Главного штаба ВВС дала облачность над Красной площадью уже 250 м. Тут позвонил Василий Сталин. Он выезжал на машине в Раменское, откуда должен был взлетать с дивизией Ту-4. Спросил про сводку. Я доложил, что дают противоречивую высоту облачности над Красной площадью – 600 м и 250 м, а в Чкаловском у меня над головой – 170 м. В Орехово-Зуеве, который мне нужно пролетать, вообще 40 м – все в тумане.
Василий приказал мне немедленно связаться с ЦКП1 ВВС и выяснить, как действовать. Я доложил дежурному по ЦКП метеосводку, тот доложил главкому ВВС Жигареву. После этого дежурный передал мне его приказ: "Работайте по плану!"
Следовательно, никакого запрета на полеты от В. Сталина не поступило. И не могло поступить. Это мог решить только главком ВВС, получив сведения о погоде. Кстати, были случаи, когда из-за метеоусловий воздушные парады отменялись. Ничего необычного здесь нет.
Я поднял дивизию в воздух. Провел её вокруг Москвы под облаками до Куркина, снижались мои "орлы" до 40 м. Вышел точно по времени на ЗКП. Здесь я увидел, что мы нагоняем дивизию Ту-4. Оказывается, последний полк этой дивизии "растянулся" и прошел ЗКП с опозданием на 1 минуту и 20 секунд.
Б. Морозов с земли принял абсолютно правильное решение и с командного пункта приказал мне:
– "Беркут"! Всем разворот влево на 45° и уходить домой!
Я понял, что это сделано во избежание столкновения в воздухе моих самолетов с Ту-4. Начиналась, как у нас в авиации говорят, "каша".
Я по радиосвязи отдал приказ своим летчикам развернуться на 45° и уходить на Чкаловский. До Красной площади в тот раз мы так и не долетели.
При посадке на Чкаловский один самолет из моей дивизии, который пилотировал старший лейтенант Пронякин, разбился, упав в лес в районе аэродрома. Пронякин и ещё два члена его экипажа погибли.
Расследованием, которое сразу же проводила комиссия, было установлено, что Пронякин по своей ошибке на посадке выключил правый двигатель, из-за чего самолет потерял управление. Был обнаружен кран, которым управляются обороты двигателя. Он находился в крайнем заднем положении. Погода к этому ЧП не имела никакого отношения. Налицо ошибка летчика в технике пилотирования.
5 мая 1952 года меня и членов комиссии вызывали в ЦК к Булганину. Разобрались. Никаких оргвыводов не было. Ни я, ни Василий Сталин виновными в этом ЧП признаны не были.
Помню, Булганин, прочитав распечатку радиообмена, которая лежала у него на столе, сделал мне замечание:
– Товарищ Долгушин! Но нельзя же в воздухе так материться, как у меня здесь написано!..
Я пообещал маршалу, что материться в воздухе так больше не буду.
Кстати, на этом же параде, 1 мая 1952 года, из-за плохой погоды Алексей Микоян провел дивизию МиГ-15 поперек Красной площади, а не с севера на юг, как положено. Он просто "заблудился" в низкой облачности. А дивизия Ту-4, которую вели Василий и Лукин, пролетела нормально. Только последний полк растянулся.
Отсутствие моей дивизии на параде 1 мая 1952 года и плохой пролет МиГ-15 почти никто не заметил.
Это заметили только настоящие специалисты-профессионалы. Вот как это все было".
Выслушав рассказ Сергея Федоровича, я вспомнил авиационную шутку, рожденную неизвестным автором:
И с кровью сплевывая воск,
Сказал Икар, смежая веки:
"Предвижу: в этом роде войск Бардак останется навеки".
Продолжая тему службы В.Сталина в 1952 году, нужно сказать, что в архиве Дома авиации и космонавтики в Москве хранятся документы о другом параде – в День Воздушного флота, который проходил в тот год 27 июля; военной частью парада командовал не кто иной, как Василий Сталин. Парад прошел прекрасно. Сталин-старший объявил всем летчикам благодарность. Это тоже говорит о том, что летное происшествие на майском параде для В. Сталина осталось без последствий, его вины в нем не было и летом 1952 года он оставался в своей должности.
В воспоминаниях ветеранов иногда можно прочитать, что Василий руководил тем парадом в нетрезвом состоянии. Видя это, его помощники перевели радиообмен на другие частоты, и летчики команды пьяного командующего не выполняли.
Справедливости ради надо сказать, что эпизод, описанный многими авторами, когда Василий позволил себе уже после парада пьяным прийти на банкет для его участников, вступил в пререкания с отцом и обматерил при всех главкома ВВС П.Ф. Жигарева, действительно произошел в банкетном зале в Тушине 27 июля 1952 года.
Именно после этого он уже был выведен в распоряжение главкома ВВС и позже сдал должность новому командующему – генерал-полковнику авиации С.А. Красовскому.
Однако перевод Василия в Академию Генерального штаба это, скорее, ступенька перед очередным взлетом: ведь образования у Василия действительно не хватало, что ещё в войну отмечалось в аттестациях. Полноценно командовать войсками, имея за спиной всего лишь летное училище, – вряд ли возможно. Об этом не раз ему говорил и отец. Об этом пишет Светлана Аллилуева. Серго Берия, приятель Василия, вспоминает, что Сталин-старший, увидев Василия и его, Серго, как-то вместе, сказал сыну:
– Бери пример с Серго. Академию закончил. Адъюнктуру...
– А ты-то у нас что закончил? – недовольно отозвался Василий.
Сталин-старший махнул рукой и ушел, видимо поняв бесполезность разговора.
А вот рассказ Капитолины Васильевой:
"Я отдыхала в Карловых Варах, а в Москве был парад ВВС. Над Красной площадью должны были лететь "красные соколы", летчики Василия. Праздник. Я наказала маме, чтобы она взяла детей на Красную площадь – и парад посмотреть, и за Василием Иосифовичем приглядеть: воздушные асы ещё и не начинали, а в палатку, где был "штаб" Василия, несут уже второй графин водки. Мама предостерегала зятя: "Васенька, тебе ещё парадом командовать..." Он рассердился: "Бери детей в охапку и уезжай!"
Мама с детьми уехала. Вскоре приехал Василий и лег спать. И вдруг звонок: срочно вызывают к И.В., он собрал у себя "мальчишник" в честь праздника, приглашены все высшие военные чины, Политбюро...
Василия, когда он пьян, никто не мог разбудить, кроме меня. А я-то в Карловых Варах! Словом, едва растрясли, в машине его ещё больше укачало. Василий вошел, когда все сидели за столом. Качнулся вправо. Ему подвинули стул. Плюхнулся. И.В. сидел на другом конце стола, через весь стол спросил: "Ты пьян?! Выйди вон!" Василий заплетающимся языком отрицает очевидное. И.В. повторяет приказ: "Выйди вон!" Василий, пятясь, как японец, вышел. На следующий день он уже не был командующим ВВС округа. Жестоко?"
Некоторые неточности есть. Во-первых, парад был в Тушине. Во-вторых, Василий с того парада не уезжал – на трибуне-то был отец и все его окружение. Как он мог уехать? А в-третьих, на "следующий день", по документам, он оставался на своей должности.